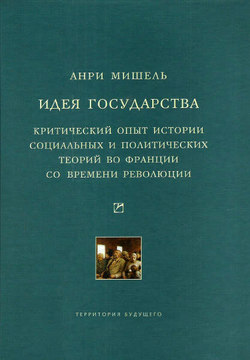Читать книгу Идея государства. Критический опыт истории социальных и политических теорий во Франции со времени революции - Анри Мишель - Страница 16
Введение
ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В XVIII ВЕКЕ
III
Оглавление«Говорят, что японские фокусники на глазах зрителей рассекают ребенка на части, затем они бросают в воздух один за другим все его члены, и ребенок падает вниз целым и невредимым. Почти такие же фокусы проделывают наши политики: расчленив социальное тело посредством престидижитации, достойной ярмарки, они каким-то таинственным путем собирают куски его воедино»[134].
Нетрудно было догадаться, что эти строки Общественного договора представляют критику Духа Законов, а «престидижитация, достойная ярмарки», намекает на содержание знаменитой главы об английской конституции.
Из верховного владыки, продолжает Руссо, делают «фантастическое существо, составленное из отдельных частей; все равно, как если бы составили человека из нескольких тел, из которых одно имело бы только глаза, другое – руки, третье – одни ноги»[135]. Это по поводу теории трех властей. Нельзя впасть, по мнению Руссо, в более тяжкое и, так сказать, более святотатственное заблуждение; ведь эта теория покушается на понятие верховной власти – фундамент социального порядка, служащий основой всех прав и сам по себе «священный»[136].
Итак, в Общественном договоре Руссо прежде всего пытается восстановить истинное понятие о верховной власти, совершенно искаженное Монтескье. Верховная власть неделима[137], неотчуждаема[138], непогрешима[139], абсолютна[140]. Будучи абсолютной, она не имеет нужды ограничивать себя разделением на части; будучи непогрешимой, она не нуждается в «гарантиях» по отношению к подданным[141]; будучи неотчуждаемой, она живет в «коллективном существе», которое может иметь представителем только самого себя[142]; будучи неделимой, она допускает лишь «эманации», но не деление на части[143]. Так, вместе с теорией трех властей устраняется идея искусственного строя, предназначенного поддерживать политическую свободу, а также идея народного представительства. Верховная власть, определенная вышеуказанным образом, принадлежит «общественному лицу», образовавшемуся из соединения частных лиц[144] в тот день, когда люди отказались от естественного состояния, ставшего невыносимым, и заключили между собой общественный договор.
В самом деле, возможны только три гипотезы для выяснения происхождения политической ассоциации. Или сила[145], или повеление свыше, передающее власть нескольким избранникам[146], или договор, статьи которого, «определенные самою природою совершаемого акта», не требуют формального выражения для того, чтобы быть ясными, и в сущности сводятся к одному: «к полному отречению каждого из договаривающихся от самого себя и всех своих прав в пользу общего целого»[147]. Первые две гипотезы Руссо опровергает с несравненной силой диалектики и красноречия; остается третья гипотеза, следствия которой мы сейчас увидим.
Договор заменяет договаривающихся «общественным лицом». Некогда лицо это называлось гражданской общиной (cité); теперь, говорит Руссо, его называют республикой или политическим телом. Члены этого политического тела называют его государством, когда оно «пассивно», а когда «активно» – «государем»[148]. Следовательно, для Руссо государство есть политическое тело во всем его объеме, «народ как таковой», а не «масса»[149]. Значит, государем является тот же самый народ в «активном» состоянии. Из сопоставления этих определений для нас выясняется, почему критики и историки[150] пришли к выводу, что Руссо только перенес верховенство государя на народ, побудил последний присвоить себе знаменитое выражение: «Государство, это я».
При всей своей правильности, это суждение не отмечает, однако, заключающейся во взглядах Руссо значительной новизны. С того момента, как государством становится весь народ, мои жертвы в пользу государства и обязанности по отношению к нему являются, с известной точки зрения, жертвами и обязанностями по отношению к самому себе; так что, в момент своего наибольшего подчинения государствуя, в известном смысле, все-таки независим. Эту независимость Руссо ставит на вид, когда требует для гражданина свободы как первого из прав и запрещает ему отказываться от этого права в пользу какого-либо властителя, соглашаться на свое рабство[151]. Правда, Руссо очень слабо развивает этот принцип в его практическом применении. Занятый прежде всего сохранением верховенства во всей его полноте, он недостаточно отмечает границы верховной власти, хотя и признает, что они существуют и должны существовать[152]. Гражданин у него кажется предоставленным всемогуществу государства; и мало сказать «кажется», когда речь идет о системе, в которой самая жизнь гражданина квалифицирована как «условный дар государства»[153]. Но не следует забывать, что у Руссо гражданин сам в известном смысле является государством, и его подчинение, в сравнении с подчинением монарху при деспотическом режиме, представляется все-таки независимостью.
Общественный договор не только создает политическую ассоциацию и тем самым обеспечивает людям известные выгоды, которыми они не пользовались в естественном состоянии, он открывает им область права и морали[154].
Он открывает область права, так как заменяет «законным равенством»[155] неравенство, существовавшее от природы между людьми; область морали, так как индивидуум, в естественном состоянии думавший только о себе и подчинявшийся физическому импульсу, отныне обязан «совещаться с разумом»[156]. Таким образом, «его способности упражняются и развиваются, идеи расширяются, чувства облагораживаются»[157]. Ко всем этим благодеяниям гражданского строя необходимо присоединить еще обладание «моральной свободой», которую Руссо удачно определяет как «повиновение предписанному самим себе закону»[158]. Впрочем, он не настаивает на философском значении слова «свобода» и даже упрекает себя за то, что слишком много говорил об этом постороннем предмете. Но попытка его оказалась плодотворной. В самом деле, не следует думать, будто Руссо снова приводит нас к доктрине Боссюе или Гоббса, раз он ищет происхождение права в политической ассоциации. Последняя создает право только потому, что открывает человеку его разум и свободу. Свобода и разум – элементы, из которых Кант создаст моральную личность. Следовательно, Руссо дает Канту точку отправления для его правовой доктрины; и на то немногое, что он сам говорит об этом предмете, нужно смотреть не как на воспоминание о прошлом, а как на предварение будущего.
Отметим также слово «справедливость»[159], употребляемое Руссо наряду со словами «право» и «нравственность». Гражданская ассоциация обязывает человека быть справедливым. Этим выражением впоследствии воспользуются социалисты и извлекут из него такие выводы, которых не извлек сам Руссо. В данном случае он является только отголоском греческих философов, которые, признавая «неписанные законы» предшествовавшими законам человеческим – Руссо также допускает, что справедливое и несправедливое таковы «по природе», – подчиняли, однако, мораль политике и полагали, что государство создает обязанности своих членов.
Устанавливая необходимость «гражданского исповедывания веры», которому гражданин обязан подчиниться под страхом изгнания и, присягнув, обязан соблюдать под страхом смерти за измену[160], Руссо опять-таки воспроизводит античную идею. Мы узнаем здесь понятие «морального единства человеческой жизни», уничтоженное христианством, отделившим духовную власть от светской. Без этого единства, по мнению Руссо, нет жизнеспособного общества, нет хорошей «политии»[161]. Один Гоббс понял это зло и указал лекарство: только он пожелал «соединить обе головы орла»[162].
В этой формуле, проникнутой настоящим духом античного государства, заключается все содержание главы Общественного договора – «О гражданской религии»[163], главы, оказавшей такое влияние на историю французской революции. В данном случае Руссо является человеком древнего мира, а потому несправедливо обращаться к нему с банальным возражением, будто он великолепно говорит о свободе, а между тем дает государству всепоглощающую власть, простирающуюся даже на совесть гражданина. Свобода, о которой говорит Руссо, заключается в участии граждан в верховной власти; это, по блестящему определению Бенжамена Констана, свобода на античный лад, столь не похожая на свободу нового времени[164].
То же самое, наконец, можно сказать и о теории законодательства. Законодатель является руководителем «общей воли», выражением которой служат законы. Всегда непогрешимо справедливая в том, что она возвещает, общая воля нуждается в предварительном просветлении. В этом – «миссия» законодателя. Для того, чтобы выполнить эту миссию, необходимо стоять выше человеческих страстей, и в то же время понимать их; нужно знать человеческую природу и не разделять ее слабостей; нужно, одним словом, быть «божеством»[165]. Гражданский порядок порывает с естественным порядком.
Мы видим здесь основный пункт различия воззрений Руссо и Монтескье: последний объединяет человека и природу, а первый снова разъединяет их, снова, по выражению Спинозы, делает из человека «государство в государстве». Что такое индивидуум в естественном состоянии? «Целое, совершенное и одинокое». Чем становится он благодаря обществу и закону? Частью более обширного целого, от которого он получает новую жизнь. После существования «физического и независимого», которое мы ведем по природе, наступает «существование в качестве части целого и вместе с тем моральное», которое нам дает закон. Получается в буквальном смысле слова вторичное рождение. Нужно умереть для природы, чтобы возродиться для государства[166]. И виновником этого вторичного рождения является законодатель.
Какое противоречие! В то самое время, как законодатель выполняет эту сверхчеловеческую задачу, он не имеет не только определенной власти, но даже определенного и нормального положения в государстве. Он ни государь, ни должностное лицо, он – ничто, но может все. Прибавьте еще, что это необыкновенное, чтобы не сказать сверхъестественное, существо говорит и должно говорить таким языком, которого люди не могут понять. Чтобы законодателя поняли, необходимо до установления законов развитие «общественного духа», который должен быть делом законов; чтобы люди до законов были такими, какими они должны стать благодаря им[167]. Поэтому легко объясняется обращение древних законодателей к авторитету неба[168]. Когда подумаешь об этих и других еще трудностях, любезно перечисленных Руссо, является вопрос: существуют ли в новом мире народы, способные к законодательству? Только один, отвечает Руссо, корсиканцы[169].
Одной из характерных черт Общественного договора является то, что можно было бы назвать логическим фанатизмом. Руссо объявляет свой политический идеал недоступным, и объявляет в ту самую минуту, когда формулирует его. Законодатель стоит выше человечества[170]. Законодательство – такой акт, для выполнения которого требуется наличность столь редких обстоятельств, что они почти невероятны. Образцовое государство ни велико, ни мало и так точно вымерено в отношении пространства и числа жителей, что совсем не встречается на карте Европы[171]. Одно демократическое правление рационально; только оно одно может соответствовать выставленным принципам. Но какие трудные или, быть может, даже невыполнимые условия требуются для этого! «Если взять этот термин во всей его строгости, то истинной демократии никогда не существовало и никогда не будет существовать»[172]. Такой же процесс мысли привел стоиков к выражению, что мудреца не существует, а Канта – к положению, что на земле никогда не совершалось ни одного истинно доброго поступка.
Таким образом, Руссо не только перенес верховенство с государя на народ – и мы сейчас пришли к заключению, что это слишком общее суждение, по меньшей мере, не полно – но, кроме того, возобновил связь между политикой и моралью, причем подчинил не политику морали, подобно Гольбаху, а мораль политике, подобно философам античного мира. Вследствие этого вновь очутились на виду игнорировавшиеся теоретиками административно-абсолютной монархии отношения между идеей государства и идеями права и справедливости. Идеализм занял место реализма старого порядка. Старый порядок имел в виду только могущество государства. Руссо также желает, без сомнения, чтобы государство было сильным, но вместе с тем он желает, чтобы оно было справедливым. Его богатая и сложная мысль допускает многообразие элементов, которые, разобщившись, дадут начало весьма различным концепциям.
Если социализм в некоторых отношениях ведет свое происхождение от Руссо, то индивидуализм обязан ему еще более, потому что он выставил во всей полноте идею политического равенства на почве участия всех в верховной власти, трудился для возвышения членов гражданского и политического общества и положил основание философии права[173].
134
Contrat social. Кн. II. Гл. II.
135
Ibid. Кн. II. Гл. II.
136
Ibid. Кн. I. Гл. 1.
137
Contrat social. Кн. II. Гл. II.
138
Ibid. Кн. II. Гл. 1.
139
Ibid. Кн. II. Гл. III.
140
Ibid. Кн. II. Гл. IV.
141
Ibid. Кн. I. Гл. VII.
142
Ibid. Кн. II. Гл. 1.
143
«Депутаты народа не являются и не могут быть его представителями: они только его доверенные». Ibid. Кн. III. Гл. XV.
144
Ibid. Кн. I. Гл. VI.
145
Contrat social. Кн. I. Гл. III.
146
Ibid. Кн. I. Гл. II.
147
Ibid. Кн. I. Гл. V и VI.
148
Ibid. Кн. I. Гл. VI.
149
Ibid. Кн. 1. Гл. V. Эти выражения встречаются также у Боссюе и Гоббса; безразлично, Боссюе ли заимствовал их у Гоббса вместе с некоторыми идеями своей Политики, как полагали некоторые (G. Lanson. Bossuet), или скорее, как мы полагаем, и Боссюе, и Гоббс говорили самостоятельно, пользуясь политическим языком своего времени.
150
Ср. особенно Taine. Origines de la France contemporaine, l’Ancien Regime (C. 321) и A. Sorel. L’Europe et la Révolution (T. I. C. 108).
151
Contrat social. Кн. I. Гл. IV.
152
Ibid. Кн. II. Гл. IV.
153
Contrat social. Кн. II. Гл. V.
154
Ibid. Кн. I. Гл. IX.
155
Ibid. Кн. I. Гл. IX.
156
Ibid. Кн. I. Гл. VIII.
157
Ibid. Кн. I. Гл. VIII.
158
Ibid. Кн. I. Гл. VIII.
159
Contrat social. Кн. I. Гл. VIII: «Переход от естественного состояния к гражданскому производит в человеке весьма замечательную перемену, заменяя в его поведении инстинкт справедливостью…»
160
Contrat social. Кн. IV. Гл. VIII.
161
Ibid. Кн. I. Гл. IV.
162
Ibid. Кн. IV. Гл. VIII.
163
Ibid. Кн. IV. Гл. VIII.
164
См. далее. Кн. III. Гл. II.
165
Contrat social. Кн. II. Гл. VII.
166
«Одним словом, необходимо, чтобы он (законодатель) отнял у человека его собственные силы и дал ему чужие, которыми он не мог бы пользоваться без посторонней помощи. Чем полнее эти естественные силы умирают и уничтожаются, тем больше и крепче становятся приобретенные вместо них…» Contrat social. Кн. II. Гл. VII.
167
Ibid. Кн. II. Гл. VII.
168
Ibid. Кн. II. Гл. VII.
169
Ibid. Кн. II. Гл. X.
170
«Великая душа законодателя – настоящее чудо, которое должно свидетельствовать об его миссии». Contrat social. Кн. II. Гл. VII.
171
Ibid. Кн. III. Гл. XV.
172
Ibid. Кн. III. Гл. IV.
173
Недостаточно отмечено старание Руссо придать в Общественном договоре большую точность некоторым терминам политического языка, употреблявшимся до тех пор в неопределенном и изменчивом значении. Впрочем, это стремление довольно часто приводит его к излишним тонкостям. См. определения: государя – Кн. 1. Гл. VI, VII; государства (недостаточно содержательное) – Кн. I. Гл. VI и Кн. III. Гл. II; правительства – Кн. III. Гл. I. – Ср. в Письмах с горы (Lettres écrites de la Montagne. 4. 1-я. Письмо V) то место, где сам Руссо указывает свое намерение. Он говорит, что хотел в Общественном договоре «фиксировать точный смысл выражений, которые нарочно оставляли неопределенными, чтобы, смотря по необходимости, придавать им любое значение по своему желанию». И прибавляет (loc. cit.): «Вообще, руководители республик ужасно любят пользоваться языком монархий. Из любви к терминам, которые кажутся священными, они мало-помалу научаются делать вещи, обозначенные этими терминами».