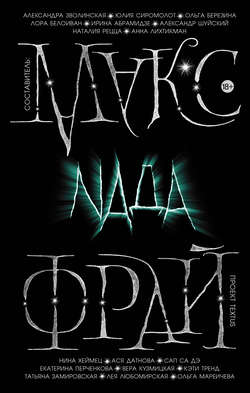Читать книгу Nada (сборник) - Антология, Питер Хёг - Страница 3
Екатерина Перченкова
Свет на горе
ОглавлениеУ меня плохое предчувствие, говорит донья Аурелия. И улыбается. Наверное, в детстве гримасничала перед зеркалом, разглядывала щербинку между зубами, растянув рот в неровной улыбке, напугали, такая и осталась. Маленький, белозубый, треугольный рот, и, кроме этого треугольника, все остальное в ней лишено остроты, закруглено и плавно. Круглые коричневые локти в оборках белого кружева. Круглое чистое лицо, почти не выдающее возраста. Круглые серьги из дутого золота, ожерелье из позолоченных облезлых монет, выщипанные удивленными дугами брови. Я была красавицей, говорит донья Аурелия, веришь?
Верю; в юности, должно быть, она ускользала в ночь к первому своему любовнику голой, закутавшись в смоляные непроглядные волосы, как в плащ, оставив на себе разве что браслеты, потому что в темноте эти дешевые медяшки и стеклянные бусины дивно хороши на смуглых запястьях, а девушки знают толк в подобных делах. Но теперь донья Аурелия немолода, медлительна и сентиментальна. В углу ее комнаты прячется алтарь с фотографией маленькой девочки, украшенный бумажными цветами; там же обитает старинный трескучий радиоприемник; там же узкая, как будто девическая или монашеская, железная кровать. Теперь у нее дальнозоркие очки на плетеном шнурке и растоптанные, тысячу раз подклеенные и зашитые мокасины. Но еще, при всей уютной закругленности, у нее длинная и тревожная шея: может быть, донья Аурелия умеет поворачивать голову на сто восемьдесят градусов, как сова. И – редко, во время стирки или мытья полов, – тонкая, как будто принадлежащая танцовщице или породистой лошади, щиколотка из-под синей просторной юбки.
Плохие предчувствия у нее по сотне раз на дню, и всегда сбываются. Мне ли не знать. Я единственный собеседник доньи Аурелии на двадцать миль вокруг, единственный постоялец ее скудной гостиницы в это время года. Лето здесь – мертвый сезон: оно тяжело даже привычным местным, а для путешественников с севера вовсе убийственно. Большой жары как будто и не было, но я, в дороге пролистав путеводитель, запомнил, что следует одеваться в легкую многослойную одежду и пить как можно больше. И это не помогло. Десять часов в открытом кузове грузовика – не под палящим солнцем, нет, – под бесцветным горячим небом, целиком превратившимся в солнце, – и я проклял все на свете, а потом даже проклинать разучился. Проводник мой заваривал чай в круглой долбленой тыкве, высушенной на солнце, и к моменту встречи с доньей Аурелией я сам себе напоминал как раз такую тыкву, бестолковую и невесомую, выжженную тонкую оболочку. Крыша над головой, заслоняющая от солнца, и бесконечное количество холодной воды, – вот что казалось мне раем тогда. И хорошо, что ни один из местных богов не услышал моего опрометчивого обещания отныне и до самой смерти вести исключительно ночной образ жизни.
Следующие три дня я опасливо подходил к двери, за которой стояло белесое жаркое марево, вглядывался в него, бормотал: «Да ну, к черту!» – и возвращался в блаженную темную прохладу жилища. Донья Аурелия торжествовала: никогда прежде у нее не было постояльца, готового вести многочасовые неспешные разговоры. Интернета в гостинице не оказалось: крупно нарисованный значок wi-fi на двери, как бесхитростно поведала хозяйка, оказался «такой штучкой, которая, если нарисовать, будет притягивать гостей». Делать первые дни – я никого еще не знал, и никто не доверял мне, – было решительно нечего.
Какую же чушь мы несли! Видят все местные боги, чьих имен я так и не выучил: только на четвертый вечер мы с доньей Аурелией раздавили небольшую бутылку мутной, но хорошей текилы, а до того прекрасно обходились без нее. Так говорят со случайными попутчиками, с психотерапевтами и еще – нам выпал именно этот случай – так говорят, обнаружив с кем-то внезапное и необъяснимое родство и сходство.
Плохие предчувствия хозяйки, в первую очередь, касались меня. Человек, добровольно едущий в эту выжженную глушь, – чаще всего беглец, и прошлое тянется за ним, как невод с мусором по мелководью, а он не в силах разжать рук и отпустить его; а еще бывает, что прошлое преследует его, как чудовищная гончая, и скалит зубы из темных углов. Оказалось непросто убедить донью Аурелию, что никакого прошлого у меня, по большому счету, нет. Я приехал не скрыться, но найти, это совсем другое дело.
– У меня плохое предчувствие, – упрямо твердит она и улыбается.
О любви мы уже говорили и о смерти тоже. И еще о детстве; мы действительно похожи с доньей Аурелией, хотя с нами происходили совершенно непохожие вещи. Я в детстве слишком много читал и слишком часто поминал всуе греческих, скандинавских, валлийских и прочих богов, слишком навязчиво перебирал вслух их имена и перечислял принадлежащих им животных и растения; а потом, видимо, и меня напугали, и я такой и остался: с полным ртом то ли сладкого меда, то ли кисловатого разбавленного вина, – ни проглотить, ни вдохнуть, ни жить. Потому-то здесь и дышится свободнее: я не знаю имен богов, властвующих здесь, не могу оскорбить их и не хочу подходить близко. Их непостижимый мир держится на золоте, солнце и крови, а я не люблю золота, не переношу солнца, а вида крови и вовсе боюсь – нам негде встретиться.
Донья Аурелия – другое дело: самое имя ее восходит к золоту – или к воздуху? – если закрыть глаза, то появится золотой и воздушный дверной проем, в котором она парит, не касаясь земли; я говорю это, и она смеется.
– Однажды я исчезну, как исчезла моя мать, – говорит донья Аурелия. – Знаешь, что случилось? Мне было четыре года, я вошла в комнату, а она летела над полом в столбе света. В белом платье и с красной герберой в руке. Она смотрела на меня и улыбалась. О, я никогда не видела ничего и никого прекраснее! А потом она взяла и улетела. Вместе со светом. Прямо через потолок. И больше ее никто и никогда не видел. А потом все говорили, что я это выдумала. Скажи, разве можно выдумать такое?
Мне бы продержаться еще пару дней, не раскрывая намерений, но проклятая текила отлично развязывает язык. И я спрашиваю: ты знаешь человека по имени Рамон Клементе?
– Может, знаю, а может, и нет, – говорит донья Аурелия и включает свет. Полумрак нарушен; при свете комната, в которой мы разговариваем, бедна и неуютна. Хозяйка больше не улыбается, она поджимает губы и хочет, чтобы я ушел. Видимо, я все испортил.
На месте доньи Аурелии я бы, наверное, тоже обиделся. Не стоило так неожиданно напоминать, что за пределами гостиницы у меня есть своя жизнь и собственная цель, что наши длинные и странные разговоры – всего лишь способ подобраться ближе к этой цели. И я бы, наверное, обижался дольше. Но хозяйка уже на следующее утро встретила меня с привычной улыбкой и сообщила, что некто Карлос наконец-то починил кофейную машину.
– Как я сразу не догадалась, – сказала она. – Ты журналист. То-то язык у тебя подвешен!
И разубедить ее оказалось невозможно. Я был даже готов рассказать ей правду, но моя правда выглядела совсем уже нелепо. Донья Аурелия здорово посмеялась бы. Хихикала бы тоненько, по-девичьи, прикрывая рот рукой, выговаривая: «Ты? Охотник за головами? Ой, не могу…»
Я. Охотник за головами. Я пришел за головой Рамона Клементе, наркоторговца и нелегального проводника. У меня нет прошлого, но есть некоторая вероятность будущего. В моем положении берутся за любую работу. В соседнем поселке четыре крепких парня ждут моего звонка. Я найду и покажу им Рамона Клементе, и все кончится, и начнется, наверное, какая-то жизнь. Мы с Лорел сможем заплатить первый взнос за дом. А потом поглядим.
Но у доньи Аурелии свое представление о том, зачем я явился. Теперь по утрам она сообщает мне странные местные новости и ждет: начну ли я записывать в блокнот, метнусь ли к ноутбуку, стану ли выведывать подробности, отправлюсь ли в почтовое отделение звонить кому-то. Я делаю вид, что мне безразличны ее рассказы. Мы четыре дня играли в одну игру, теперь играем в другую, – все-то весело.
– У Марии пропала коза, – говорит донья Аурелия, – бедная девочка так плакала! У нас часто пропадают козы. Хочешь чаю?
Чай прозрачен и будто бы пуст, но после первого глотка рождается привкус лежалой соломы, точно старый веник залили крутым кипятком.
– Мальчики решили, что в озере кто-то живет, – говорит донья Аурелия. – Кто-то очень странный. Может, он и крадет коз, как думаешь?
Если сделать несколько глотков подряд, происходит необъяснимое: чайный веник расцветает во рту, распускается весенним миндалем или поздней хризантемой.
– Мы все думаем, – говорит донья Аурелия, – что неспроста Бонита никому не показывает своего мальчика. Это особенный ребенок, попомни мои слова!
Лучший чай заваривается на дождевой воде, а дожди здесь бывают две недели в году; должно быть, хозяйка собирает воду все эти две недели, а потом держит в подвале в огромных жестяных флягах.
– Я и сама позавчера видела свет на горе, – говорит она.
Я ничего не отвечаю. Что вообще может сказать человек, у которого во рту только что расцвел веник?
Неделя моего пребывания здесь, и вот у нас третья по счету игра: я веду донью Аурелию на свидание. Она надевает свое лучшее платье и вплетает цветы в прическу, достает из-под кровати красные вышитые мокасины. Мы идем в «Такитос», но не в зал, где едят, а в бар. Хозяин – старый друг доньи Аурелии, он обеспечит нам кое-что из своих запасов. Будем сидеть и разговаривать.
– Может быть, – говорит донья Аурелия, – ты увидишь кое-что интересное.
Но все идет не по плану. С утра поднимается ветер и стоит над землей весь день; ветер несет колючий песок и мелкие белые облака. Поговаривают, что будет дождь, и даже гроза, и град, но облака уходят, оставляя за собой чистое бледное небо. Мне не по себе от этого ветра: он настигает даже в помещении, влетает в одно ухо и вылетает в другое, оставляя голову совершенно пустой.
– Я знаю, – говорит донья Аурелия, – ты стесняешься идти со мной в «Такитос»!
Нет, – тороплюсь, – нет, что ты. Придумаешь тоже. Кого мне стесняться? Тем более, ты красавица.
Никак не пойму, это холодный ветер или горячий.
В кои-то веки мне нечего сказать, я плетусь за ней по улице, поддакиваю невпопад и спотыкаюсь; а когда хозяин «Такитос» радостно возвещает, что наконец-то Аурелия усыновила себе кавалера, начинаю медленно думать, что бы ему ответить, и моя спутница находит острый ответ сама, и они долго хохочут. Насчет запасов хозяина она не соврала: целый шкаф цветных безымянных бутылок к нашим услугам, и первая же рюмка горькой желтой настойки уносит меня так далеко, как не уносило дрянное пойло в студенчестве. «Тебе плохо?» – беспокоится донья Аурелия. – Да, возможно, но еще мне хорошо, мне одновременно. В табачном дыму плывет соломенная крыша, и лампа с оранжевым абажуром, и барная стойка, и я, пожалуй, хочу, чтобы это продолжалось бесконечно. И даже ветер, несущийся снаружи, хорош: мне все время немного не хватает воздуха, а он несет с собой столько воздуха – пахнущего дорожной пылью, и цветами, и океаном, – что вдохнешь однажды, и хватит на всю жизнь.
Моя спутница, должно быть, обидится: сижу бестолково, плаваю взглядом по стенам и лицам вместо того чтобы развлекать ее; и как объяснить, что это, кажется, лучший вечер в моей жизни?
Донья Аурелия вдруг крепко толкает меня в бок.
– Вот этот, – говорит она, – который сидел рядом с нами. Который сейчас расплатился и вышел!
– Ну?
– Это был Рамон Клементе.
Вот же черт. Кто-то и впрямь сидел рядом с нами. И правда, расплатился и ушел. Большой, кажется, грузный человек. Кажется, золотая печатка на безымянном пальце. Пил, кажется, виски. Я не обратил внимания и не видел его лица. Вот черт.
– Ты должна была показать его мне раньше.
– Надо же, – говорит донья Аурелия. – Должна была! Вообще-то я должна была показать тебя ему. Зачем, думаешь, мы сюда пришли?
Ничего не понимаю. И не хочу, если честно, понимать. Лучший вечер в моей жизни действительно длится почти бесконечно, а потом – я не успеваю заметить, как, – перетекает в самое худшее утро.
– Он согласен, – говорит донья Аурелия, появляясь в дверях моей комнаты с круглым и полным кувшином.
– Кто?
– Рамон Клементе. Ты совершенно не умеешь пить. Рамон Клементе согласен отвести тебя на гору. Сегодня в восемь вечера на заднем дворе «Такитос». У тебя должны быть хорошие ботинки, шляпа и куртка. И еды и воды на два дня. Если тебе нужно уладить какие-то дела, торопись. Уже полдень.
Никогда бы не подумал, что похмелье можно уничтожить усилием воли. Но мне удается.
– Если хочешь расцеловать меня – твое право, – говорит донья Аурелия.
– Хочу. Но это потом. Когда вернусь. А сейчас мне нужно действительно кое-что уладить.
…Когда я говорю в телефонную трубку, что сегодня вечером выйду через заднюю калитку «Такитос» вместе с Рамоном Клементе, мне сначала не верят. Он неуловим уже пятый год, а новичку всего-то за неделю удалось разыскать его и даже о чем-то договориться. О чем – самому хотелось бы знать. Но это, по большому счету, неважно. Сегодня вечером все кончится. И начнется жизнь. Дом. Лорел. У меня нет с собой ее фотографии, но в памяти легко, как наяву, оживить нежное светлое лицо в коричневых веснушках, рыжие прозрачные кудри, ускользающую улыбку. Все у нас будет, Лорел. Все будет хорошо. Что же мне плохо-то так, господи?..
Никто не должен заподозрить неладного, поэтому к вечеру при мне честный рюкзак путешественника с запасом еды и воды, к которому приторочена свернутая куртка; крепкие ботинки, соломенная шляпа и нож у пояса, – я готов.
Донья Аурелия целует меня в лоб на прощание. Я вру ей, что вернусь.
Рамон Клементе сидит на ступеньках черного хода в «Такитос», вокруг него плавают густые клубы дыма. Теперь я могу разглядеть его. Все правильно. Именно так должен выглядеть наркоторговец и нелегальный проводник: квадратные плечи, крепкая шея, старый шрам через половину лица, угрожающие черные усы, издевательски блестящий золотой зуб.
– Сегодня удачный вечер, – говорит он вместо приветствия.
– Почему?
– Смотри, – он указывает вдаль, где в подступающих сумерках высится лиственная вершина горы. Слабо, чуть заметно, сквозь деревья на вершине пробивается свет. – Он уже там. Готов?
Десять шагов, и все кончится. Возможно, открыв дверь калитки и обнаружив засаду, он даже не попытается меня прирезать.
– Такое дело, – говорю я (не знаю, почему: я не собирался ничего говорить). – За этой калиткой машина. А в ней четыре крепких парня. Если мы с тобой сейчас пройдем вон через те кусты на землю доньи Люсии, а потом через дырку в заборе? И пойдем на гору? Что скажешь?
Рамон Клементе как будто не удивлен.
– Пойдем, – говорит он.