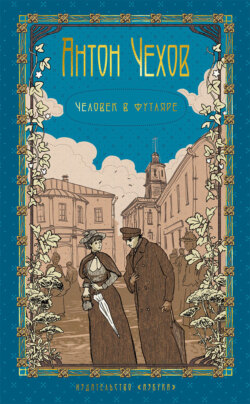Читать книгу Человек в футляре - Антон Чехов, Anton Czechow, Anton Chekhov - Страница 4
Рассказы из жизни моих друзей
Хмурые люди
Медицина и литература: жена и любовница
Оглавление«Кроме жены-медицины, у меня есть еще литература – любовница[2], но о ней не упоминаю, ибо незаконно живущие беззаконно и погибнут» (Ал. П. Чехову, 17 января 1887 г.; П 2, 15).
«Вы советуете мне не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я не знаю, почему нельзя гнаться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов? Были бы гончие, а гнаться можно. Гончих у меня, по всей вероятности, нет (теперь в переносном смысле), но я чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела, а не одно… Медицина – моя законная жена, а литература – любовница. Когда надоедает одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют. Не будь у меня медицины, то я свой досуг и свои лишние мысли едва ли отдавал бы литературе. Во мне нет дисциплины (А. С. Суворину, 11 сентября 1888 г.; П 2, 326).
«Я тоже врач. Медицина у меня законная жена, а литература – незаконная» (П. Ф. Иорданову, 15 марта 1896 г.; П 6, 132).
Шутка, повторяющаяся десятилетие, – это уже не столько шутка, сколько убеждение, имеющее, впрочем, как часто бывает у Чехова, коварный, парадоксальный, ускользающий от прямолинейного объяснения характер.
С законными женами, конечно, мирно живут десятилетия, но сильнее любят незаконных любовниц.
Медицинскую практику литератор Чехов прекратил довольно рано, хотя даже в начале века, после женитьбы на О. Л. Книппер, грозился записать ее в свой паспорт как жену (опять жену!) лекаря. Он так и не написал задуманную диссертацию «Врачебное дело в России», для которой уже был собран значительный материал. Но врач не может забыть о своей профессии, садясь за письменный стол.
Едва ли не в первой юмореске-пародии студент-первокурсник медицинского факультета Московского университета, заметил, «что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.»: «Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку с набалдашником и лысину. А где доктор, там ревматизм от трудов праведных, мигрень, воспаление мозга, уход за раненным на дуэли и неизбежный совет ехать на воды». Пародия, однако, не спасла. Чехов, как другие лекари-литераторы, его последователи, не написал «Записок врача» (как Вересаев) или «Записок юного врача» (как Булгаков), но образами докторов прострочен и сшит его мир.
Доктор стал привычным, сквозным, лейтмотивным чеховским персонажем, то подающим надежду (Королев в «Случае из практики»), то страдающим от неудачной операции (Чебутыкин в «Трех сестрах»), то накапливающим деньги (Старцев в «Ионыче»), то сажающим сады (Астров в «Дяде Ване»); то провинциальным Дон Жуаном, которому даже в старости женщины вешаются на шею (Дорн в «Чайке»), то скромным гением, безответно влюбленным в неблагодарную жену (Дымов в «Попрыгунье»), то пытающимся всех примирить и осчастливить одиноким добряком (Самойленко в «Дуэли»), Трилецкий («Платонов»), Кириллов («Враги»), Овчинников («Неприятность»), Михаил Иванович («Княгиня»), Николай Степанович («Скучная история»), Рагин («Палата № 6»), Благово («Моя жизнь»), Нещапов («В родном углу»), Старченко («По делам службы»)… И еще десятки текстов, действие или хронотоп которых связан с медицинскими проблемами («Хирургия», «Доктор», «В аптеке», «Анюта», «Аптекарша» и др.)
Для Чехова-литератора, однако, важен не только герой, персонаж, но – знание «медицинской стороны» жизни. Многочисленных докторов он писал не с себя. Прямой автобиографизм для него не характерен, однажды он даже заявил, что страдает «автобиографофобией». Но конечно, он никуда не мог уйти от этого драматического опыта.
Лекарь, знающий ближнего не понаслышке, не вприглядку, а материально, постоянно сталкивающийся с изнанкой жизни. «Нехорошо быть врачом. И страшно, и скучно, и противно. ‹…› Девочка с червями в ухе, поносы, рвоты, сифилис – тьфу!! Сладкие звуки и поэзия, где вы?» (А. С. Суворину, 2 августа 1893 г.; П. 5, 220).
Врач, ожидающий неизбежной смерти брата. «Бедняга художник умер. На Луке он таял, как воск, и для меня не было ни одной минуты, когда бы я мог отделаться от сознания близости катастрофы… Нельзя было сказать, когда умрет Николай, но что он умрет скоро, для меня было ясно» (А. Н. Плещееву, 26 июня 1889 г.; П 3, 227).
Профессионал, по обязанности вскрывающий трупы и воспринимающий это дело с долей необходимого равнодушия и даже иронии. «Сейчас я приехал с судебно-медицинского вскрытия… Вскрывал я вместе с уездным врачом на поле, под зеленью молодого дуба, на проселочной дороге… Покойник „не тутошний“, и мужики, на земле которых было найдено тело, Христом Богом, со слезами молили нас, чтоб мы не вскрывали в их деревне… „Бабы и ребята спать от страху не будут…“ Следователь сначала ломался, боясь туч, потом же, сообразив, что протокол можно написать и начерно, и карандашом, и видя, что мы согласны потрошить под небом, уступил просьбам мужиков» (Н. А. Лейкину, 27 июня 1884 г.; П. 1, 116).
Человек, постоянно наблюдающий людей в болезни, слабости и беспомощности, тайных страстях и пороках вообще по-иному воспринимает мир. Его знание не обязательно проявляется непосредственно, но оно неизбежно перестраивает и определяет то, что сочиняет писатель, поменявший законную жену на любовницу.
«Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно – предпочитал не писать вовсе. Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными; нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле. Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности, т. е. нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что он имеет дело со сведущим писателем» (Автобиография, 1899. 16, 271–272).
Сведущий писатель видит жизнь во всей ее широте и разнообразии. Через два десятилетия Е. Замятин назовет Чехова Нестором-летописцем конца XIX в. В этом конце фактически начиналась новая эпоха.
Чехов вроде бы пишет быт: люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни; надо писать просто: о том, как Петр Иванович женился на Марье Ивановне, – вот и все. Но это другая реальность, другая атмосфера, кардинально отличная от той, в которой существовали персонажи Гончарова, Тургенева или Толстого.
Чехов-литератор наследует от Чехова-врача, кроме всего прочего, интерес к пограничным, предельным состояниям человеческой психики, к изображению жизни на изломе.