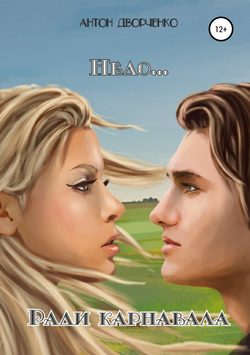Читать книгу Недо… (рассказы). Ради карнавала - Антон Георгиевич Дворченко - Страница 5
Недо… Рассказы
Жили-были…
ОглавлениеГлавное, что обидно – я старшому не раз говорил: не цепляйся к старику. Его и так уже жизнь потрепала крепко-накрепко.
По молодости-то старик славным рубакой был. Другой на его месте начнет какую-нибудь заваруху со скуки – на белом коне с сабелькой серебряной, султаном дареной, покрасоваться. А как до дела дойдет – баста! Воюйте, воеводы верные, а мне в терем пора – не ждут дела государевы, неотложные. А дел-то, ежели взаправду, всего два: мед хмельной, да девки румяные, баловницы.
Старик не такой был. Соседей забавы ради не задирал, но, если уж приходилось меч в руки брать, то спуску им не давал. Да и меч его, тяжеленный двуручник, был из доброй стали, без дорогих украшений и рун иноземных. Становился частенько старик в самую первую шеренгу, в простой кольчуге. Один раз, говорят, даже на поединок выходил. Поединщик с той стороны стал насмехаться, мол, бабы у тебя, а не воины, выставить некого, самому биться приходится. Старик в ответ молча взмахнул мечом. С виду легко, словно на пробу. И ударил-то всего раз… Потом вытащил меч из побледневшего насмешника и пошел обратно к своим, не оглядываясь. Тем поединок и кончился. А с ним и битва.
Со временем число охотников потягаться со стариком поубавилось. Потом и вовсе на нет сошло. В ту пору родился у него сын. С имечком у первенца, правду сказать, советники, звездочеты, да прочие прихлебатели намудрили – натощак не выговоришь. То ли Каш-, то ли Кауш-чего-то там, а потом еще слогов шесть-семь. Вроде Победоносный, а может, Вечноживущий, или еще что – тут доброхоты, каждый со своим гримуаром, не сошлись во мнениях. Однако старик спорить не стал, а сына звал всегда просто – старшой. Потом, года через три, я на свет Божий появился. А еще через год – мелкий.
Ко времени, как третий сын начал по двору носиться, как угорелый, захворала маманя наша, слегла и больше уж не поднялась. Каких только лекарей старик ни приглашал… Потом знахарей, ведунов, старушек-шептуний, у которых заговоры на всякий случай жизни и смерти припасены. А там уж, знамо дело, до чернокнижников рукой подать. И в недобрый час нашептали доброхоты съездить попытать счастья на край земли, к колдуну в Серых горах, дальше которых только лед да небо. Имени того колдуна никто не помнил, так давно жил он на белом свете. Жил, когда дед старика еще совсем молодой был. Чем согревался и что ел на голых скалах, где ни травинки, ни живности какой отродясь не бывало – неведомо. А еще более неведомо было, чем дело обернется, когда о помощи попросишь. Кому и поможет, кого просто прогонит с глаз долой, а кого проклянет, да так, что иные в омут головой – чтобы быстрее отмучиться. Потому, если ходили к колдуну с просьбой какой, то в самом крайнем случае. Когда уже все одно, помирать или, авось, вывезет.
Взял старик друзей своих верных, с ним не раз огонь, воду и медные трубы прошедших, да отправился в путь неблизкий. И сгинул.
Маманя наша мужа своего, даром, что обещалась, не дождалась. За несколько лет с отъезда старика тихо стаяла, как свечка.
Старшому тогда двенадцатый год минул. Но ростом он вышел не по годам. Ратному делу смальства учился. Со стариковским двуручником еще, пожалуй, не управился бы, но обычным мечом рубился – любо-дорого посмотреть. Дружина за старшого – в огонь и в воду была готова. С той поры и стал править старшой сам, несмотря на малые лета. А когда вернулся старик – первенцу его девятнадцатый год шел.
Оно и по малолетству норов у старшого крутой был. А без старика, без руки его железной и вовсе испортился. Никто супротив слова сказать не мог. А кто и мог – тех нету давно. На колу али в темнице сгнили. Да и нам, братьям единоутробным, не больно-то сладко жилось. Мне еще не так туго приходилось, если сравнить. А мелкому доставалось ей-ей. И когда он, причудам старшого подчиняясь, в шутовском наряде с бубенцами среди ночи плясал, словно дурак придворный. И когда спал он, неделями, словно пес сторожевой, у брата в палате на полу, подле ложа. Когда на четвереньках ходил, под столом объедками питался. Когда побивал его старшой, забавы ради, то кулачищами своими пудовыми, то палкой, а как в раж входил, то и сапогами.
А мелкий только улыбался своей странной мягкой улыбкой. И, казалось, никакой злобы к брату не питал.
До потехи с Марьюшкой.
Славная была деваха. Тихая, да улыбчивая, даром, что сиротка. Смальства – то на кухне стряпухам помогала, то подмести-прибраться, то еще чего. Без дела никогда не сидела. А если и выпадала ей минутка свободная, всегда рукоделие какое наготове было.
До поры удавалось ей со старшим разминуться. Бог хранил, кухарки да служки подсобляли. Когда наденут дерюгу рваную, да мордашку углем мазнут. Когда и вовсе с глаз долой на дальний выпас отправят.
Как ее мелкий приметил, как влюбиться успел, я и не углядел. А когда случайно узнал… И уговаривал я его, и грозил карой старшого. Даже денег давал на побег. Ведь ежу ясно, не обрадуется брат наш, когда узнает, на кого мелкий глаз положил. Не умом – сердцем знал, что добром не кончится. А мелкий даром, что в дураках у старшого ходил, дураком и стал. Я, говорит, честь по чести хочу – женюсь, мол и точка. Чтобы все по обычаям. Осерчает старшой – стерплю, не впервой, а бегать и прятаться всю жизнь не буду. Поругались мы тогда с ним крепко – пока старик не вернулся, почитай, десятком слов не перемолвились.
А старшой удивил всех. Как нашептали ему про голубков неразумных, приказал привести обоих под очи свои царские. Брату кивнул едва, а Марьюшку оглядел не спеша, с ног до головы, кругом обошел, не поленился. Лицо, фигуру долго разглядывал. Потом как заржет. Отсмеявшись, хлопнул в ладоши, да приказал назавтра же свадьбу сыграть. Подарил невесте, честь по чести, ларец изукрашенный. С бусами, с перстнями, с серьгами, с гребнем костяным. Да, в придачу, с главным сокровищем – маленьким зеркальцем, из дальних краев привезенным. Жениху пожаловал шубу с плеча царского. И отпустил обоих с миром. Да напоследок напомнил про право первой ночи. Замялись, было, мелкий с Марьюшкой, посмотрели друг на друга, не зная, что ответить. Старшой и говорит, ты же сам, мол, хотел, чтобы все по обычаю. Переглянулась парочка влюбленных еще раз. Мелкий краской налился, аж уши светятся. А невеста побледнела, глянула еще разок украдкой на суженого. Потом кивнула, едва заметно. На том и порешили. До завтрашнего утра свадебного отпустил старшой дурака своего потешного, брата младшего, на все четыре стороны с напутствием в каморке своей прибраться да невесте подарок сыскать. А Марьюшке назвал срок, к которому она прийти должна. Мелкий, счастью своему скорому не веря, на дальний кордон поскакал, диковину какую-то, одному ему ведомую, раздобыть. Обещался вернуться завтра до полудня, и – только пыль столбом.
Что случилось дальше, доподлинно не знал никто. Только бабки по углам шушукались, что слышны были ночью крики женские, жалобные. Да гогот пьяный, с песнями похабными. И что голосов тех было не два и не три – самого старшого и дружков его верных, самых распутных и бедовых. А Панкратьевна, кухарка старая, которой не спалось в ту ночь, божилась, что перед самым рассветом, увидала она Марьюшку идущую походкой странною и поздоровалась с ней. Но та шла, ее не замечая. А как заглянула старушка в лицо девушке, так чуть речи не лишилась.
Правда то была, али неправда, да только нашли Марьюшку, как совсем рассвело, в ближнем омуте.
Я, по правде сказать, испугался за мелкого – мало ли какую штуку тот выкинет. То ли на старшого с ножом кинется, то ли просто повесится. Но мелкий, как вернулся, да увидал невесту свою, прошел с белым, ни кровинки, лицом в свою комнатушку, упал на ложе… И не поднимался, в жару и бреду, почитай, месяца три. А как стал иногда выходить во двор – все одно, словно тень, а не человек. Ни улыбки, ни слезинки. Бледный да худой – в чем душа держится. И замолчал. Не то, чтобы совсем онемел, но, почитай, три-четыре слова в неделю многовато будет.
В ту пору и старик вернулся, незнамо откуда. Ни с того ни с сего, свалился, как снег на голову. Оборванный, седой, морщин на лице – едва признать можно. Ни коня, ни доспеха, ни спутников верных. Лишь осанка по-прежнему царская. И вот, что чудно – ни один караул, ни дальний, ни ближний его не видал. Как он через заставы прошел явные да тайные – до сих пор неведомо.
Старшой, понятно, не обрадовался, опасаясь, что старик снова самолично править станет, а его в опалу. Но и получаса не прошло, как выяснилось, что беспокойство напрасным было – выжил гость нежданный из ума. Сперва, только доложились, что старик, почитай, через минуту в терем зайдет, спал с лица старшой. Однако быстро себя в руки взял. Плащ свой парадный накинул, улыбку на лицо приклеил порадостнее, вышел во двор – встречать. Уже и руки раскинул для объятий.
Да старик, не дошедши до старшого десятка шагов, запнулся, словно наткнулся на стену каменную. А потом, тихо бормоча что-то под нос, вовсе бочком-бочком отходить стал. После остановился, палец послюнявил, ветер проверил – с какой стороны дует, принюхался, жадно, со свистом забирая ноздрями воздух… И пошел напрямки, как по струне, через огороды и кустарник к домику, где маманя наша померла, его не дождавшись. Домишко с той поры заколоченным и простоял. Старик оторвал доски с двери одним широким, как рубаху от ворота, движением, зашел внутрь, да там и обосновался. Либо сидел безвылазно, каракули чудные на бересте царапал, разговаривал сам с собой какой-то околесицей. Либо травки-муравки собирал по окрестным лесам – щепки да мусор всякий. После – то в веники небольшие связывал и развешивал на просушку, то в костер кидал, да на дым глядел, пока глаза не покраснеют. А то узоры странные выкладывал. Глянешь на тот узор – вроде бы красиво, только тревогой какой-то веет. А еще, чем дальше, тем больше во время занятий своих смурнел лицом старик. В первые недели еще, случалось, пробегала по его лицу тень улыбки – когда, скажем, утро выдалось погожее, и ветерок теплый ласково по лицу гладит. Но вскоре только сильнее хмурились стариковы брови на загорелом лице, да лоб, и без того изрезанный морщинами, бороздили все новые складки.
Старшой, как увидал, что опасности от старика никакой, стал время от времени над ним подшучивать. Не то, чтобы там постоянно изводил, как мелкого в свое время, но исподтишка пакостил регулярно. Я его одергивал, конечно, когда замечал, но, понятно, с опаской. Это ж, как ни крути, старшой. Встанет не с той ноги, и неважно, есть на тебе какая вина или нет, брат я ему там или кто – кивнет молодцам своим – и загнешься в порубе с голодухи, али сразу рыбам на корм…
Со временем старик вылазки свои в лес прекратил, сидел, носа на улицу не показывая. Но ведовство свое не бросал – наоборот, по слухам, даже спал урывками по часу, по два. И вот, в одну ночь, на всю округу раздался треск и грохот ужасный. Подскочил я спросонья. Не сразу и сообразил, в какой стороне гремит. А как прикинул – сразу понял, что со стороны развалюхи стариковской. Помчался туда, ног не чуя…
Домишки не осталось – дымились лишь обгоревшие руины двух стен, с одного из углов. Остальное – даже не в труху, не в угли, а в пепел сгорело. Как будто дракон дыхнул огнем от души.
Уже потом, вспоминая ту ночь разнесчастную, понимал я, задним умом, что впору было удивиться мне, и не раз. Во-первых, раскат грома с молнией (все-таки драконов у нас отродясь не водилось) никого, кроме меня не разбудил. И, пока не выскочил я на улицу, бежал по пустым коридорам. Да и во дворе уже должен был сбежаться народ. Пускай не из любопытных зевак, но уж караульные-то! Во-вторых – молния молнией, а дождя за всю ночь так ни капли и не пролилось. Да и день вчерашний был тихим, безветренным, и на небе чисто и пусто, как у праведника в келье. А уж в-третьих-то, сам Бог велел удивиться, когда в нескольких саженях впереди меня разглядел я бегущего мелкого! Он и днем-то из каморки своей нечасто вылезал на свежий воздух, а уж ночью…
Но это я после таким внимательным стал. Тогда же, следом за мелким, запыхавшись, выбежал я к пепелищу – и увидел в чудом уцелевшем углу дома неподвижно лежащего старика…
И склонившегося над ним старшого.
Умирающий стонал, хрипел и шептал что-то яростно, но неразборчиво. Потом взор его обрел ясность. Когда он вгляделся в наши склонившиеся лица, горькая усмешка скривила ему рот, и молвил старик: «Слетелись, сыночки мои верные, стервятники ненасытные. Прав, значит, колдун оказался, во всем прав. Да и сам чую, пробил мой час… Ну раз все в сборе, вот вам мое напутствие отцовское…»
Старшому сказал: «Тебе, сильному, да наглому, посмевшему свою кровь своей кровью попрати, своей кровью и попрану быти! А до той поры не возьмет тебя ни меч, ни стрела, ни зелье отравленное!»
Мелкому: «Ты, слабак, сильным станешь, да не в радость окажется сила твоя. Будешь кровью умываться – не умоешься, напиваться – не напоишься, наедаться – не наешься!»
Мне же досталось: «Ну а ты, серый середнячок, ни первый, ни последний, ни сильный, ни слабый. Серость, она серость и есть. Ничего не сделал ты для крови своей. За то искать тебе, серому, до последнего дня своего красну девицу, что кровью укрывается!»
Зубами напоследок заскрежетал, глаза закатил – с тем Богу душу и отдал.
__________
Большую часть из этого я помнил, хоть и смутно. Остальное – спасибо мелкому – вспоминал по частям вечерами у костра. После того, когда он меня, раненого, в лесу чудом признал, да выхаживал неделю. Потом-то я уж, понятное дело, пообвыкся. Но проснувшись в то, первое утро после старикова «благословения» толком понять еще ничего не успел.
Поляну, на которой очнулся, видел я первый раз в жизни. Уже после, через пару месяцев блужданий вышел я к знакомым местам, но в жизни бы не нашел обратной дороги. А в то утро… Шутка ли – перед глазами плывет все, нос запахи щиплют крепкие, до боли. Голова трещит, как после недельной гулянки. Спотыкался, опять же на каждом шагу, с непривычки. Чему ж тогда удивляться, что и глазом моргнуть не успел, как задней лапой в капкан попал. Добро, хоть не медвежий. Одно спасло – силушкой Бог, все же, не обидел. Извернулся я, на пружину поднажал, да и освободился. А вот как лапу помятую вылизывать стал, вот тут-то меня, как обухом по темечку и долбануло. Понял я, про какого серого старик перед смертью толковал. Как-то само вышло – брякнулся я на задние лапы, голову кверху задрал и завыл. Хорошо завыл, от души. Пока в ушах не зазвенело. И вот, что забавно: вроде и не изменилось ничего, а полегчало маленько и в голове прочистилось. Стал думу думать, и ничего лучше не надумал, что надо как-то к людям выбираться. Считал, наивный, что объяснить про себя как-нибудь объясню. А там к знахарю какому отведут… Сомневался, конечно, что все так гладко сложится. Но любая цель хороша, лишь бы мысли всякие от себя гнать и по новой от страха не выть, да с досады жгучей об землю не биться.
Первым делом, где зубами, где лапами, сорвал я остатки одежды, чтобы бегать сподручнее. Кроме гривны золотой на шее, от которой так избавиться и не удалось. Как выяснилось, к лучшему. Я, когда до мест знакомых, наконец-то, добрался, на радостях и сунулся, дурак, в первую же деревню. Встретили меня знатно. Я и так-то бегать не мастак был – нет-нет, и запутаюсь в лапах, что твой кутенок. А после капкана еще и прихрамывал. В общем, еле улизнул тогда. Попытал счастья в другой деревушке – тоже самое. До третьей я не дошел – нарвался на стрельцов. Позже мелкий растолковал, что из первой же деревни послали старшому гонца, мол, объявилось в лесу чудище – вроде волк, да ростом мало не с коня. Посмеялся сперва старшой – у страха глаза велики. Но когда из другой деревни весточка пришла, призадумался, прикинул направление, да и разослал по окрестностям стрельцов – в засаде посидеть, чудище подстеречь. Вот и подстерегли.
Я и в тот раз убег, да напоследок вдогонку стрелой достали. Застряла в спине – не вытащить. Тут-то мне и повезло, что не смог гривну снять. Наткнулся я в лесу на мелкого. У меня уж к тому времени от раны жар пошел, в глазах все плыло. Думал – блазнится перед смертью всякое. А мелкий увидал на мне украшение знакомое, понял, кто перед ним, и не добил, а выходил. А второй раз понял я, как повезло мне, когда растолковал братец младший, что бы приключилось, если б ошейник на мне, теперешнем, не золотым, а серебряным оказался.
Долго мы с мелким беседовали, пока я выздоравливал. Точнее, поначалу только он со мной. Говорить пришлось заново учиться. Да и то, поди знай, вышло бы, кабы не песня… На одном из привалов мелкий развел костерок, напек мяса. Повезло ему в тот день с добычей. Нашел крупного молодого кабана-подранка, который от охотников уйти – из последних сил ушел, да повалился без сил под старой сосной помирать. Мелкий на него едва не наступил. Наелись оба в тот вечер от пуза. Настроение, несмотря на все беды и горести – гуляй, деревня! Вот мелкий от души песню-то и затянул.
Не за тучу закатилось
солнце в неба синеве –
Появилась черна туча
да с востока, со степи.
И собралася дружина
с воеводой во главе
Черным татям половецким
не позволить тут пройти.
Повстречались оба войска
на граничной на реке,
Супротив друг друга встали,
не решаясь начинать.
Столько половцев тех было,
сколько пальцев на руке
На дружинника в кольчуге,
поминающего мать.
Старик песню эту частенько любил послушать, а как уехал да сгинул, маманя нам на ночь напевала. Так что все трое – и я, и старшой, и мелкий – назубок ее знали.
Убоялся воевода,
побежала дружно рать,
Черны половцы помчались,
улюлюкая им вслед.
Только горстка их осталась,
порешивших умирать,
Чтоб детишки их и жены
увидали солнца свет…
Тут и я не утерпел – начал подвывать, рычать да поскуливать, в такт словам мелкого.
Лился жарко красный дождь
да на зеленую траву,
И от капель тех трава
преклонилася к земле.
И, чуть удивленным взором
глядя в неба синеву,
Полегли все храбры вои
на кровавой той траве.
Но и половцы не стали
продолжать, подняли вой
Как побитые собаки
и, поднять не смея глаз,
Ускакали в вольну степь –
только ветер за спиной.
Каждый третий не вернулся
из набега в этот раз…
Знакомые с детства слова сами собой ложились на язык. В голове словно что-то щелкнуло. Впервые, с момента, когда я очнулся в своем новом обличье, стало получаться прорычать нечто почти членораздельное.
И увидев – миновала
черных половцев гроза,
Воротилася дружина,
взяв победу ту себе.
Воронье порасклевало
храбрым ратникам глаза,
Что глядели в сине небо
в окровавленной траве.
Не узнает их имен
да веселящийся народ,
Тот, что труса-воеводу
нес в хоромы на руках.
Лишь бы Родина жила!
А мертвым воям все равно -
Не за то ведь умирали,
чтоб прославиться в веках…
Заканчивали мы вместе с мелким почти что на равных. С того вечера говорить стало получаться потихоньку. Сперва не особо разберешь, но со временем все лучше и лучше.
Объяснил мне мелкий, о чем старик говорил перед смертью. Про старшого.
Про то время давнее, когда маманя померла, да, выходит, не своей смертью. Я тогда в отъезде был, вернулся уж к могилке. А мелкому дядька наш старый, сызмальства к нам приставленный, успел рассказать кой-чего. Видел дядька, как заходил в домик мамани, крадучись, ночью старшой. Видел, как, озираясь, выходил. А вот маманю живой опосля того никто не видел. Дядька через пару дней пропал. Искать его и не искали вовсе.
Мелкий тогда, меня не дожидаючись, решился уж было, после дядькиного рассказа, поутру прилюдно вызвать старшого на бой смертный. Да приснился ему ночью какой-то старец. Колдун или монах, не разобрать, но, по всему – отшельник. Старец наказал мелкому, если хочет он верх взять над обидчиком, дождаться отцова благословения. До той поры все в секрете держать и ни словом, ни взглядом себя не выдать, не то сгубит его старшой и кровь неотмщенной останется.
А недавно тот же старец вновь ему явился и велел в путь-дорогу отправляться. Сперва указал, где подмогу можно найти – и нашел там мелкий… меня. А вчера ночью привиделось место, где подскажут ему, как сильным стать.
Оказывается, на старшом, после той ночи, заживать все стало очень быстро. В смысле не то, чтобы, как на собаке, а глазом моргнуть не успеешь – и рана затянулась. Мелкий разок подбил шайку наемников устроить засаду. Удалась засада. Охрану положили в два счета. Всей кучей кинулись на старшого, ранив его много раз. А убить так и не смогли. Меч не успевали из раны вытащить, глядь, а раны никакой уж и нету. Половину шайки положили, едва ноги унесли, а старшой лишь хохотал вслед.
С едой отравленной тоже ничего не вышло.
Вот потому и пришлось топать нам с мелким туда, где он сильным станет.
__________
Долго ли, коротко ли, добрались до нужного местечка.
Старуха, что жила в покосившейся, видавшей виды развалюхе, встретила неласково, но все же по-людски. И в баньку пустила попарится, и на стол (а мне, понятно, под стол, в миску) накрыла. Да и спать, хотя бы и на сеновале, всяко лучше, чем под открытым небом. А наутро, за час до рассвета, отправила меня бабка в лес охотиться. Вернулся с добычей – объявила старуха, что дальше брат должен был один в путь-дорогу отправиться, а мне велел здесь дожидаться. Хоть подозревал я, что дело, всего-навсего, в том, что охоча бабка, несмотря на лета свои преклонные, до дичи лесной. И хочет, чтобы я ей припасы пополнил. Ну да делать нечего – стал ей помогать, да мелкого из похода дожидаться.
И дожидался бы по сей день. Кабы однажды не вышел я с охоты, дав хорошенького кругаля, к избушке бабкиной с противоположной стороны, с задов. Там, где у бабки в погребе ледник был. И кабы не услышал донесшийся из-под земли чей-то глухой стон. Впрочем, ежу понятно, чей.
И опять повезло нам с братом. Дважды.
Первый раз – когда вовремя почуял я бабку, пристально наблюдавшей за мной из окна. Почуял, мигом сообразил, что сейчас дернусь чуть, и наутро шкура моя на полу перед печкой ковриком окажется. Не сбился с шага, мимо ледника прошел, как и не было ничего. Обошел домишко кругом, положил добычу на землю – как сейчас помню, жирный тетерев попался. Посмотрела хозяйка на меня с порога. Даже и не грозно вовсе, а так… задумчиво. Крестьянин так же задумывается, пришла пора порося колоть, али пусть еще недельку-другую сало нагуляет. Тут я в кои-то веки и порадовался, что так все обернулось со мной. Был бы человеком, ни в жизнь не выдержать мне такого взгляда, всяко бы чем-нибудь себя выдал. А по волчьей морде – поди разбери. Вот и обошлось. Три дня она за мной присматривала, потом, вроде, успокоилась.
Второй раз повезло, когда через неделю, отправившись затемно на охоту, я перед тем, как в лес углубиться, решил забраться на ближний из холмов. Забраться и посмотреть на избушку. Сам до сих пор не знаю зачем. И разглядел я в предутренних сумерках, как из дома вылетела здоровенная летучая мышь. С орла, не меньше. Круг над крышей сделала, да и прочь полетела. Крепко мне было боязно возвращаться, да рассудил я – чему быть, тому не миновать. Так на так, если не убежим – ненадолго жильцы мы с мелким. С тем и потрусил я прямиком к леднику. Зубами крышку поднял, внутрь сунулся.
И тут же обратно выскочил, отдышаться. Да уж…
Хоть и подозревал что-то похожее, а все едино, чуть не брякнулся наземь, без чувств. Хоть волком, хоть человеком ни за какие коврижки не полез бы я обратно, как увидал, каким стал теперь брат. Однако делать нечего, воротился. Одному все равно не укрыться мне от бабки, да и не бросать же его… вот так… Несколько трубок блестящих, что торчали из мелкого, я зубами вытащил. Часть веревок разгрыз, хоть и с опаской. Освободил ему левую руку. Быстрей отскочил подальше – посмотреть, признает меня мелкий или нет. А то, вона как обернулось, перепутает меня с ужином, да и бросится, глазом моргнуть не успеешь. Обошлось на тот раз. Мелкий только моргнул несколько раз и прошептал хрипло:
– Пи-ить!
Я ему начал, было, объяснять, что плошки все в доме попрятаны, бочка с дождевой водой на задворках здоровенная, не сдвинуть, а из колодца я не… Но мелкий, усмехнувшись криво, уголком рта, произнес:
– Да я не об этом…
И посмотрел на меня задумчиво, как бабка давеча. Сглотнул я и пробормотал, глядя в пол:
– Ну, так я это… того… Пойду, что ли, поохочусь?
– Пойди, что ли. Но ты уж постарайся там. Принеси что-нибудь крупное. Мне сегодня… много сил понадобится.
Еще одна кривая ухмылка.
Не сводя глаз с мелкого, я спиной попятился к лестнице. Вот уже было, повернулся, собрался наверх карабкаться, как услышал:
– Да, кстати…
Я застыл с поднятой лапой, поминая всех богов – и человечьих, и волчьих.
– Спасибо, что заглянул. Я этого не забуду.
Не оглядываясь, я кивнул существу, не так давно бывшему мне единокровным братом, и рванул в спасительную чащу.
Бежал и думал, что захаживали бы к бабке почаще путники, вроде нас, не пожадничала бы она. Шею бы свернула на раз или дурмана какого подсыпала, чтобы не рыпались. А на безрыбье – решила она из брата дойную корову сделать, про запас. И я кстати подвернулся – для восстановления сил мелкому еду таскал, сам того не зная.
Он, между прочим, хитрец, и старуху обманул и меня. Старуху, потому что вовсе не таким уж он, на самом деле, ослабевшим был, как ей показывал. Освободиться только не мог, без моей помощи. А меня провел, потому что под предлогом жажды своей особенной услал подальше. Как он сам мне после объяснил, помочь я ничем не мог, только б путался под ногами. Победи старуха – у меня еще была слабая надежда оправдаться перед ней – знать ничего не знаю, ведать не ведаю, охотился в лесу. Победи он, и, будь я в этот момент рядом, запросто, в кровавом безумии, не остыв от битвы, мог бы и меня тут же порешить, не успев опомниться.
Так что, когда я вернулся с солидной добычей, все уже было закончено.
На след оленя, на самом-то деле, я наткнулся довольно скоро. Но пока я его догнал, пока завалил, пока спрятал получше, пока отгрыз ногу, пока волочил ее в зубах, костеря на все корки кусты и коряги, попадающиеся на пути, времени прошло порядочно. И пришел я обратно, когда солнце уже село. Вернувшись к избушке, я сразу поспешил к леднику. Рядом со входом на земле пластом лежал мелкий. Выглядел он, как пропущенный пару раз через мясорубку. Но был жив. А бабка, видимо, нет. Я хотел сунуться, было, в ледник – проверить, но брат, приоткрыв один глаз, прошептал:
– Не советую.
А после добавил:
– Нельзя нам тут долго… Могут заявиться ее… родственнички… Пока почуют смерть ее, да сюда доберутся, да искать начнут. Сутки, может, двое у нас есть, а там… как Бог даст… Надо нам сей же час двинуть… Чтобы только пятки сверкали…
– Да какие там пятки? Ты говоришь-то еле-еле!
– Придется тебе меня верхом на себе тащить… Справишься?
Я кивнул. Мелкий закашлялся, на губах выступила кровавая пена. Отдышавшись, он продолжил:
– Тащи поближе, чего добыл… После будешь ловить кого… смотри, только живьем… Я тогда скорее на поправку пойду… глядишь, за неделю оклемаюсь… Были б мои раны обычные, без колдовства ее черного, я бы сейчас тебя взапуски обогнал бы. А так… Веревку неси… вокруг тебя обвяжу…
Новый приступ кашля.
– Держаться… буду… и еще… перец… следы… отбить…
Смекнув, о чем речь, я кинулся к избушке. Веревку сдернул во дворе, на ней старуха время от времени сушила нехитрую свою одежку, и потащил к мелкому. Пара тряпок все еще болталось, но это вышло даже кстати. Брат старательно замотал мне лоскутом ткани нос, чтобы я его не обжег, когда найду, что искал.
Сбил я носом задвижку, ворвался в избушку, посбрасывал всю утварь, узелки, посуду на пол. Куль с мукой тут же треснул по швам, и белое облако взметнулось до потолка. Вскоре почуял я, что, несмотря на намотанную тряпку, в нос вонзаются тысячи иголок. Глаза тут же начали слезиться. Второпях, прижмурясь, схватил ближайший узелок и поволок к выходу. Через пару шагов понял, что внутри, похоже, ромашка. Чертыхаясь, выплюнул, вернулся. Начал медленно, пытаясь не обращать внимания на нарастающий зуд в носу, тыкаться во все мешочки по очереди. Прикоснувшись к очередному и осторожно втянув воздух, чуть не завизжал, не сдержавшись. Если верить носу, внутри находилось адское пламя. Вдохнув напоследок поглубже, схватил узелок зубами и, стараясь не дышать, рванул к выходу. На свежем воздухе стало полегче, но все равно, как донес узелок, помню плохо. Упал без сил возле мелкого. Нос жгло огнем, я все время отчаянно чихал. Нескоро туман в голове рассеялся, глаза перестали слезиться, и я снова смог нормально дышать. Начали возиться с веревкой. Наконец, брат неуклюже, с пятой попытки, навалился мне на спину, и я потопал в чащу. Как мог быстро, но не так быстро, как нам хотелось бы. По настоянию мелкого мы покружили, держась на расстоянии от избушки, сделали несколько петель, рассыпая перец. Наконец брат сказал, что пора двигать к дому и впал в забытье. Впрочем, в веревку он вцепился крепко, как будто – отпусти ее – и жизнь кончится. Хотя, пожалуй, так оно и было.
Следующие несколько дней были самыми тяжелыми в моей жизни. И в волчьей, и в человечьей. На дневных стоянках прятал я мелкого под лапами здоровенной сосны, или среди бурелома. Или просто выкапывал неглубоко, сколько было сил, лунку в земле и прикрывал брата ветками и комьями земли. На солнце ему, понятное дело, находиться было никак нельзя. А сам шел добывать еду, еле передвигая лапы. Хорошо места были изобильные, зверья попадалось много, и все какое-то непуганое. Однако даже при таком раскладе спать мне приходилось часа два-три в сутки. На десятый день я уже мечтал, чтобы нас догнали, и все закончилось. Но Бог не выдал и свиньи, а точнее, старухины сородичи, не нашли и не съели.
На наше счастье к двенадцатому дню мелкий поправился настолько, что смог топать самостоятельно. Полностью вымотанный, на ближайшей стоянке я упал, и спал с чистой совестью беспробудно больше суток.
А проснувшись, увидел, что брат выглядит так, как будто и не лежал он окровавленным куском мяса подле бабкиного ледника. И вообще был почти похож на старого доброго мелкого. Еще до близкого знакомства с бабкой. Цвет лица, конечно, подкачал, и прикус… Но, если в сумерках, да не улыбаться широко – мелкий, он мелкий и есть.
Потихоньку до дому добрались – оставалось пара суток пути. Я уже собрался сниматься с места нашей предпоследней стоянки, когда мелкий подошел и сел на землю передо мной. Руку мне на загривок положил и в глаза заглянул.
– Нельзя нам дальше вместе, брат. Помочь ты мне не сможешь ничем. Да и неизвестно еще, чья возьмет.
– Да я же…
– Не перебивай. Если ты не пойдешь, мне будет проще – не надо печалиться, что своего пришибу ненароком. И к тому же… С каждым днем мучит меня… жажда… все сильнее. Ну, ты понимаешь. И в этот момент мне становится… все равно, кто передо мной – друг, враг, сват, брат… Я пытаюсь сопротивляться, но надолго меня не хватит. Ты спас мою жизнь, я спасу твою. Уходи – и никогда-никогда не попадайся мне на дороге. Ты меня понимаешь?
Я кивнул. Комок в горле никак не сглатывался. Мелкий был прав, кругом прав, но как же нестерпимо тяжко было разорвать последнюю ниточку, что связывала нас!
Бывший брат убрал холодную руку с моего загривка и криво усмехнулся.
– Теперь я понял окончательно, о чем нам говорил старик. По крайней мере, про нас со старшим.
– Да я уже и сам…
– Вот-вот. Только про тебя никак в толк не возьму. Ну да ничего – сам разберешься. Удачи тебе. Прощай…
Через минуту тропка опустела.
Торопиться было некуда и остался я на месте до утра. Полежать, подумать – что же дальше? У мелкого, как ни крути, была цель.
А у меня?
Под утро, когда голова распухла от дум невеселых, удалось ненадолго забыться чутким, неверным сном.
Разбудил меня звонкий голосок. Девочка шла, напевая песенку из моей прошлой жизни, из детства. Весело полоскалась на ветру яркая, кроваво-красная накидка. Я уж подумал было – по грибы пошла, да от подружек отбилась. Но нет – из корзинки отчетливо пробивался (у меня аж живот свело, по старой памяти) манящий запах еще теплых пирожков…
Май – июнь 2010