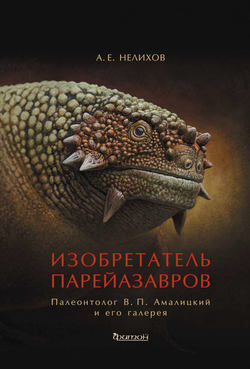Читать книгу Изобретатель парейазавров. Палеонтолог В. П. Амалицкий и его галерея - Антон Нелихов - Страница 5
Часть первая
Физико-математическое созвездие
ОглавлениеАттестат классической гимназии позволял поступить во многие высшие учебные заведения. Амалицкий выбрал Императорский Санкт-Петербургский университет и летом 1879 года подал в его канцелярию два прошения.
Первое – с просьбой зачислить в число студентов.
Его Превосходительству
Господину Ректору Императорского
С.-Петербургского Университета
сына Надворного Советника
Владимира Амалицкого
Прошение
Покорнейше прошу Ваше Превосходительство принять меня в число студентов Естественного отделения Физико-Математического Факультета. При этом прилагаю: 1) Метрическое моё свидетельство, 2) Аттестат отца моего, 3) Свидетельство об окончании курса учения в 3-й С.Петербургской Гимназии с Аттестатом Зрелости.
Владимир Амалицкий
1879 года
Августа 8 дня
Сбоку он сделал приписку: «Правила получил с обязательством исполнять»[52].
Правил было много. Студентам запрещалось устраивать концерты, спектакли, чтения и другие публичные собрания, им было нельзя хранить книги и картинки «противо-нравственного содержания» и вообще любые «предметы тиснения, нарушающие приличия». Также студентам из уважения к своему званию полагалось избегать мест, «в которых неприлично бывать для воспитанного человека»[53].
Второе прошение – с просьбой освободить от платы за обучение: «Не имея средств, чтобы заплатить за слушание лекций, покорнейше прошу освободить меня от взноса платы за учение на основании § 39 „Правил“, так как на окончательном испытании на Аттестат Зрелости я получил по пять из трёх главных предметов». К бумаге он приложил «свидетельство о бедности» за подписью председателя мстиславского дворянства[54].
Оба прошения удовлетворили, Амалицкого зачислили бесплатным слушателем на естественное отделение физико-математического факультета. Кроме того, выдали разрешение преподавать в частных домах, чтобы он мог работать репетитором…
Увлечение Амалицкого естествознанием кажется загадочным и не вполне логичным. Его отец был чиновником, дяди – ревизорами, один брат стал юристом, второй – мелким служащим.
В Третьей гимназии было сложно заинтересоваться природой, уроки естествознания здесь прекратились задолго до рождения Амалицкого, в 1831 году, а заново начались уже в новом веке – в 1901 году. Предметы, хоть как-то связаные с естественными науками: географию и физику – Амалицкий в гимназии сдал на «тройки»[55].
Оглядывая скупые сведения о его юности, трудно сказать, откуда взялся интерес к природе. Такие подробности обычно становятся известны благодаря воспоминаниям, но Амалицкий их не оставил.
Можно предположить, что он увлёкся геологией в то недолгое время, когда ходил во Вторую гимназию. Одним из её первых директоров был выпускник Петербургского университета А. Ф. Постельс, страстный любитель минералов, автор нескольких учебных пособий по естествознанию. Постельс устроил в гимназии целый кабинет естественных наук, занимавший просторный зал. В четырёх шкафах и восьми ящиках здесь хранились коллекции по зоологии, ботанике, минералогии. В гербариях числилось 4416 «сушоных растений». Минералов и горных пород было чуть меньше, около трёх тысяч, а окаменелостей почти тысяча. Эти собрания минералов и окаменелостей были лучшей частью кабинета[56].
О других соприкосновениях молодого Амалицкого с естествознанием ничего не известно.
Естественное отделение физико-математического факультета не привлекало большого внимания молодёжи. Сюда поступали почти исключительно семинаристы[57], не имевшие шансов попасть на другие факультеты.
В 1879 году ситуация вдруг изменилась, на естественное отделение одновременно с Амалицким поступило рекордное число слушателей – более двухсот. Газеты заговорили о всплеске интереса к точным наукам, но причина ажиотажа была другой. В 1879 году временно закрылся приём сразу в два крупных учебных заведения Петербурга – в Медико-хирургическую академию и в Горный институт. Тем, кто хотел связать судьбу с естественными науками, пришлось идти в университет.
Став студентом, Амалицкий переехал в дом номер девять по Сергиевской улице (видимо, к брату Антону) и, судя по фотографиям, немедленно отпустил бороду, запрещённую в гимназии. Бороду отпускали все вчерашние гимназисты, для них она становилась своеобразным символом свободы.
Университет был совершенно не похож на гимназию.
Одноклассник Амалицкого Н. Я. Чистович писал в воспоминаниях: «После 8-летней непрерывной работы в самой архиклассической гимназии, где над всем царила филология и где всё наше внимание было приковано к древнему греко-римскому миру, а естественные науки, исключая физики, были совершенно изгнаны, мы вырвались на свободу и бросились в новый мир естествознания»[58].
О том же говорили другие студенты. По словам В. И. Вернадского, выход в университет был для гимназистов настоящим «духовным освобождением»[59].
В те годы Санкт-Петербургский университет находился в зените славы, эту эпоху потом назовут легендарной.
Ректором был пожилой ботаник Андрей Николаевич Бекетов. В свои пятьдесят он был седой как лунь. Говорили, в молодости он не отличался красотой, но с возрастом похорошел. Он был приветливым, участливым, обладал своеобразным юмором. Когда он читал ботанику сыновьям императора, то шутил, что стал «очень важным рылом». Студенты его, конечно, обожали.
Главной знаменитостью университета считался создатель периодической системы элементов Дмитрий Иванович Менделеев.
С его уроков начиналось обучение на кафедре естественных наук. Именно он читал первую лекцию, которую слушал Амалицкий.
Занятия по химии шли пять раз в неделю по утрам в большой аудитории, где на стене висела огромная таблица периодических элементов. Скамьи стояли амфитеатром, а опыты проводились на кафедре, которая напоминала торговый прилавок и вся была заставлена бутылками и ретортами.
Менделеев производил на первокурсников оглушительное впечатление даже своей внешностью: огромный, высокий, с гривой русых волос и ярко-синими глазами. О своём внешнем виде он совершенно не заботился и стригся раз в году, весной перед наступлением жары. Зеркалом не пользовался.
Лекции напоминали его внешность: были внушительными и неуклюжими. Менделеев считался плохим оратором, часто затягивал предложения, сыпал банальностями. «Говорил, точно медведь валит напролом сквозь кустарник», – вспоминал его ученик. Его речам недоставало красоты и изящества, зато в них чувствовалась харизма, они подкупали строгой и точной аргументацией.
«Читал он, очевидно, без приготовления, импровизируя, чрезвычайно образно. Речь его была не ораторской, он говорил негладко, часто подыскивая выражения, причём иногда тёр лицо своею худощавой рукой. Несмотря на эту корявость речи, слушатели были под его обаянием, боялись пропустить слово, и лекция прослушивалась без усталости, благодаря захватывающему интересу и прекрасно поставленным опытам. Впечатление на нас, впервые столкнувшихся с наукой, было громадно… Мы с благоговением видели в нём истинного учёного», – писал Чистович[60].
Слушать Менделеева приходили студенты всех факультетов: не только естественники, но и историки, математики, юристы. Одноклассник Амалицкого студент-филолог В. Г. Дружинин пришёл на первую лекцию Менделеева из любопытства, но увлёкся и не пропустил ни одной. Он тоже вспоминал, что Менделеев не обладал красноречием, но его речь была «замечательно содержательна»[61].
Каждое утро химическая аудитория заполнялась студентами. Университетское начальство шутило, что на занятиях Менделеева стены потеют от дыхания[62]. Удобные места приходилось занимать за час-полтора до начала.
Вообще лекций на естественном отделении было немного.
Кроме Менделеева первокурсники слушали анатомию у академика Филиппа Васильевича Овсянникова – добродушного толстяка, излагавшего предмет просто и ясно. На лекциях он показывал строение мышц и костей на препаратах, которые за долгие годы истрепались и стёрлись от прикосновения множества рук. Найти на них какой-нибудь отросток не представлялось возможным. Ученикам приходилось прощупывать собственное тело и искать отростки «на своём костяке, что часто удавалось благодаря худобе, обычной для бедных студентов». Стёртые кости хранились в небольшом плохо освещённом кабинете. Чтобы студенты их не растащили, кости соединяли длинными цепями[63].
Зоологию читал старый ихтиолог Карл Фёдорович Кесслер. «Он был всегда серьёзен, скромен и незаметен», – писал Чистович[64]. Таблицами на лекциях он не пользовался и, описывая строение животного, предпочитал рисовать на доске. Рассказывая про птиц, он говорил, что их тело состоит из туловища (при этом рисовал фигуру, похожую на яйцо), шеи (прямая чёрточка) и головы с клювом (кружок с чёрточкой). Ноги и пальцы он изображал чёрточками, хвост – тремя чёрточками, что «выходило довольно смешно»[65].
В те годы Кесслер вынашивал свою главную идею, с которой выступил на съезде естествоиспытателей и врачей незадолго до кончины. Кесслер полагал, что дарвиновский закон борьбы за существование – не окончательный, и выживают не просто самые приспособленные животные, а те, кто способен к взаимной помощи. Он считал, что виды, живущие в одиночку, постепенно вытесняются теми, кто ведёт совместное существование. Свою мысль он подкреплял множеством примеров. Доклад произвёл впечатление в разных кругах, но, как часто бывает, вскоре был позабыт.
За четыре года учёбы Амалицкий прослушал курсы по химии, физике, анатомии, минералогии, геологии, физиологии животных и растений, зоологии, анатомии растений и неизменное богословие.
Учился он отлично. Причина была в том числе материальная: Амалицкий не мог оплачивать обучение и волей-неволей показывал прекрасные результаты, чтобы просить поблажки. Второй год обучения он оплачивал наполовину, весь курс обошёлся ему в 25 рублей. На третьем году обратился к декану с просьбой не только освободить от платы за обучение, но и назначить «каких-либо стипендий» по причине большой нужды[66]. Ему пошли навстречу и выписали университетскую стипендию в 180 рублей на год. На последнем, четвёртом курсе Амалицкий попросил перевести его «из университетских стипендиатов в императорские», так как по всем предметам он получил «отлично». Прошение удовлетворили[67].
Главными для Амалицкого стали два предмета: минералогия и геология.
Минералогию читал приват-доцент Василий Васильевич Докучаев, геологию с началами палеонтологии – профессор Александр Александрович Иностранцев. Оба сыграли огромную роль в судьбе не только Амалицкого, но и многих других геологов. Под их руководством начинали работать в том числе будущие академики В. И. Вернадский, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Н. И. Андрусов. При этом сами Докучаев с Иностранцевым были во всём несхожи: отличались по характеру, происхождению, привычкам, жизненному укладу, даже внешне. Докучаев был огромный, богатырского вида мужик с бородой-лопатой. Иностранцев – рафинированный, худой, с восточными чертами лица и большим тонким носом; студентам он напоминал то ли таджика, то ли перса.
Докучаев родился в 1846 году в огромной семье сельского священника, с отличием окончил Смоленскую духовную семинарию и за казённый счёт отправился в духовную академию, но через год её бросил и пошёл учиться на естественное отделение Петербургского университета. О богословии и других отвлечённых науках потом с презрением говорил, что всё это болтовня. В Петербург он попал, по собственным словам, даже не умея пользоваться чулками, но быстро освоился, обзавёлся знакомствами в среде «позолоченной молодёжи», увлёкся картами. Игры в карты иногда растягивались на несколько суток с небольшими промежутками для сна. Времени на учёбу не оставалось. Докучаев перестал ходить на лекции, впрочем, успешно сдавал экзамены благодаря способностям и железной силе воли.
Когда подошло время заканчивать обучение и выбирать тему кандидатской работы, Докучаев пришёл к профессору минералогии П. А. Пузыревскому.
– Вы чем специально занимались? – спросил Пузыревский.
– Картами и пьянством, – честно ответил Докучаев.
– И отлично! Продолжайте и не портите жизни сухою наукой[68].
Всё же из-за формальных требований Докучаеву пришлось представить работу. На отдыхе в деревне он выполнил описание местной почвы и даже нашёл огромную кость мамонта, которую посчитал остатками допотопной коровы.
После этого Докучаев вдруг увлёкся новейшими геологическими процессами. Он забросил карты с вином и стал с азартом изучать образование речных долин, формирование слоёв земли на стенах Старо-Ладожской крепости. Особенно его интересовали загадки хлебородного русского чернозёма. Все эти вопросы были для науки новыми. По сути, Докучаеву пришлось быть самоучкой, делать «первые геологические шаги ощупью»[69].
Когда Амалицкий учился в университете, Докучаев едва начал приобретать научный авторитет. Ему было слегка за тридцать. Он читал курс минералогии, хотя не интересовался минералами и совершенно их не знал. Курс достался Докучаеву по стечению обстоятельств, когда неожиданно освободилась вакансия на кафедре.
Лекции давались ему тяжело, в теме он разбирался плохо, на русском языке толковых книг по минералогии не было, а на иностранных Докучаев не читал. Эти занятия не доставляли ему удовольствия, однако вызывали живой отклик у студентов. Докучаев читал лекции в девять утра, но аудитория, несмотря на ранний час, всегда была полна.
Речь Докучаева была «кристаллически точная»[70], без пафоса и артистизма. Он давал студентам не столько знание о минералах, сколько общее представление о целях науки, увлекал собственным примером. Многие ученики потом вспоминали его кипучую, заражавшую всех энергию. По их словам, он обладал громадной силой воли и необычайной способностью подчинять себе события и людей.
Студентами Докучаев интересовался мало. Его полностью поглотила докторская работа о чернозёме. Даже свои обязанности по университету он старался перепоручить кому-нибудь другому.
Лекции по минералогии ему составлял студент Вернадский[71]. Отличнику Амалицкому Докучаев доверил практические занятия по кристаллографии, «что для того времени было совершенно необычным явлением»[72].
Трое других студентов выполняли для него анализы почв. Изредка Докучаев заглядывал к ним в лабораторию, спрашивал: «Ну, как дела?» – на что получал неизменный ответ: «Ничего…» «Очевидно В. В. некогда было заниматься с нами», – писал один из этих студентов[73].
Но Докучаев не остался у помощников в долгу и вскоре принял решающее участие в их судьбе.
Иностранцев был всего на три года старше Докучаева, но казалось, принадлежал совсем другой эпохе и другой стране.
Он любил рассказывать о своём происхождении, причём в разных вариантах. Иногда говорил, что его дед приехал в Россию с персидским посольством, влюбился в купчиху, крестился и остался здесь жить[74]. Иногда, что персидского деда подарили русскому царю вместе с ручным медведем и слоном. «У меня, – шутил он, – и до сих пор имеются родственники в Персии, и я жду в скором времени наследства в виде каравана верблюдов с персидским порошком»[75].
У Докучаева было самое простое происхождение, а отец Иностранцева служил капитаном корпуса фельдъегерей и тридцать лет сопровождал в поездках императора Николая I, который, к слову сказать, приходился крёстным отцом геологу Иностранцеву.
Сохранилось предание, как фельдъегерь Иностранцев с письмом императора переходил границу. Его остановил ретивый офицер, который потребовал документы и усомнился в их подлинности. Иностранцеву скоро надоело препираться, он вынул пистолет, застрелил офицера и поехал дальше: с деликатными поручениями ему давали право полной неприкосновенности[76].
Многие считали геолога Иностранцева тщеславным, властолюбивым и тяжёлым в общении, в то же время отдавая дань его одарённости и трудолюбию. Он обладал хорошим слогом, но лектором был скучным и даже сам это признавал, что было необычно при его честолюбии.
На лекциях Иностранцев в точности повторял, чтó писал в учебнике, даже остроты рассказывал в тех же местах. Его ученик вспоминал: «Как-то раз на лекции один студент стал следить по этому учебнику за тем, что говорил профессор, и до того увлёкся, что забыл, где он находится. Когда речь профессора стала подходить к тому месту, где должна быть острота, студент этот в увлечении громко произнёс: „Вот сейчас сострит“. Иностранцев услышал это и не сострил…»[77]
Весной 1883 года Амалицкий закончил четырёхлетнее обучение в университете. Почти все предметы в аттестате «Владимира, Прохорова сына, Амалицкого» были с отличными оценками. На «хорошо» он сдал только богословие, немецкий язык и химию у Менделеева[78].
Амалицкий успешно защитил диссертацию по теме, к которой никогда больше не возвращался, – «Химический анализ южнорусских гранитов». После получения гигантского заверенного печатями диплома он пожелал остаться на кафедре для получения профессорского звания, то есть, говоря современным языком, поступить в аспирантуру.
Его просьбу совет университета рассмотрел 19 сентября 1883 года вместе с прошениями трёх других студентов.
Физико-математический факультет предлагал оставить Амалицкого, Левинсон-Лессинга и ботаника Михаила Образцова. Все трое получили одинаковое число избирательных голосов – по двенадцать – и были оставлены в университете без стипендий.
А вот кандидат от юридического факультета Адам Липский получил 36 голосов и остался со стипендией в шестьсот рублей[79]. Кстати, именно Липский был единственным одноклассником Амалицкого, получившим золотую медаль. Спустя годы он станет крупной политической фигурой – сенатором, а затем, в 1917 году, генерал-губернатором Финляндии.
Оставшемуся без стипендии Амалицкому пришлось устроиться на работу, чтобы сводить концы с концами. Скорее всего по протекции своего дяди Полубинского он получил первую должность – маленькую, зато с длинным названием: помощник делопроизводителя в Канцелярии при Военном Совете Комиссии по устройству казарм. Годовой оклад Амалицкого составил шестьсот рублей в год. Вместе с жалованьем он получил первый чин – коллежского секретаря.
52
ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 20502. Л. 1.
53
Петербургская газета. – 1879. – 4 сентября (№ 172).
54
ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 20502. Л. 10.
55
ЦГИА. Ф. 439. Оп. 1. Д. 5163. Л. 35-об.
56
Историческая записка 75-летия С.-Петербургской второй гимназии. – СПб., 1894. – Ч. II (1831–1880). – С. 382.
57
Петербургская газета. – 1879. – 23 августа (№ 164).
58
Из далёкого прошлого. Воспоминания Н. Я. Чистовича // Н. Я. Чистович (1860–1926) / Тушинский М. Д., Чистович А. Н. – Л., 1963. – С. 35–36.
59
Вернадский В. И. Статьи об учёных и их творчестве. – М., 1997. – С. 209.
60
Из далёкого прошлого. Воспоминания Н. Я. Чистовича // Н. Я. Чистович (1860–1926) / Тушинский М. Д., Чистович А. Н. – Л., 1963. – С. 37–38.
61
РГАЛИ. Ф. 167. Оп. 1. Д. 7. Л. 23-об.
62
Менделеева А. И. Менделеев в жизни. – М., 1928. – С. 153.
63
Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Записки очевидцев. – Л., 1991. – С. 160.
64
Из далёкого прошлого. Воспоминания Н. Я. Чистовича // Н. Я. Чистович (1860–1926) / Тушинский М. Д., Чистович А. Н. – Л., 1963. – С. 38.
65
Из воспоминаний зоолога Александра Михайловича Никольского // Из истории биологических наук. – М.—Л., 1966. – Вып. 1. – С. 83.
66
ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 20502. Л. 21.
67
Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета. – 1882. – Т. 26. – С. 68.
68
Отоцкий П. В. Жизнь В. В. Докучаева // Почвоведение. – 1903. – № 4. – С. 322.
69
Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Жизнь и деятельность В. В. Докучаева // Труды Почвенного института. – Л., 1927. – Вып. 2. – С. 292.
70
Отоцкий П. В. Жизнь В. В. Докучаева // Почвоведение. – 1903. – № 4. – С. 328.
71
Вернадский В. И. Воспоминания о Ф. Ю. Левинсон-Лессинге // Статьи об учёных и их творчестве / Вернадский В. И. – М., 1997. – С. 224.
72
Жандр А. А. Памяти Владимира Прохоровича Амалицкого // Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при Донском университете (годы 1916–1918). – Ростов-на-Дону, 1919. – Вып.1. – С. 23.
73
Земятченский П. А. Василий Васильевич Докучаев как личность (по воспоминаниям) // Почвоведение. – 1939. – № 2. – С. 9.
74
Андрусов Н. И. Воспоминания. 1871–1893. – Париж, 1925. – С. 107.
75
Из воспоминаний зоолога Александра Михайловича Никольского // Из истории биологических наук. – М.—Л., 1966. – Вып. 1. – С. 84.
76
Устное сообщение научного сотрудника ПИН РАН К. Ю. Еськова.
77
Из воспоминаний зоолога Александра Михайловича Никольского // Из истории биологических наук. – М.—Л., 1966. – Вып. 1. – С. 84.
78
ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 20502. Л. 41.
79
ЦГИА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8388. Л. 64.