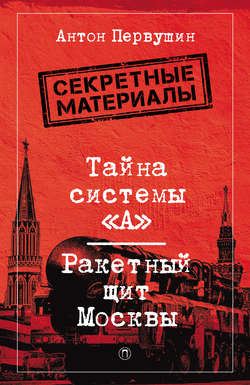Читать книгу Тайна системы «А». Ракетный щит Москвы - Антон Первушин - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть вторая
Система «А»
Вторая площадка
ОглавлениеОдним из первых построенных на полигоне объектов стала «площадка № 2», на которой собирались установить однолучевой экспериментальный радиолокатор РЭ. Напомню, что его испытания должны были дать специалистам материал о возможностях обнаружения и сопровождения баллистических ракет дальнего действия. Посему Григорий Кисунько торопился, ведь от результатов измерений зависело, как будет выглядеть вся система «А». Однако победить природу и здесь оказалось очень непросто.
Александр Алексеевич Губенко вспоминал:
Первой по графику шла площадка № 2. До нее – двести сорок километров. Что она представляет, никто не знал. Известно было только то, что туда заранее запустили геологов. Мне прислали самолет У-2, и я попросил заместителя слетать на место будущего строительства.
Вернулся он весь черный от пыли. Одни глаза сверкают. И с ходу – в карьер:
– Ё-о-о… твою…! Это же могила! Кругом пески! Геологи сказали, что воду найти не могут! Я сбегу!
Спрашиваю:
– Как это, сбежишь?
Отвечает:
– Сбегу, и всё!
Насилу успокоил. Снарядил первую экспедицию. Назначил начальником транспортной колонны Григория Алексеевича Метленко, начальником строительной площадки номер два – Аркадия Дмитриевича Задорина. Зачитал им назначения, снабдил всем необходимым, дал воду, продукты, танковые тягачи, бульдозеры и выпроводил.
Ехали они семь суток. За сорок километров от площадки геологи нашли воду и пробурили небольшую скважину. Питьевая вода есть, но где брать воду для стройки? Вскоре геологи обустроили несколько колодцев, но оказалось, что вода в них плохая и для бетона не годится. Нашлись умельцы, покумекали – и бетон пошел. Воды для стройки понадобилось много. Организовали так называемые отряды водяных – огромное количество солдат набирали из этих колодцев по три ведра воды в час и возили их на площадку.
Только решили водные проблемы – кончился хлеб. Мука есть, но печь негде. Дал команду: сыпьте муку в суп и варите. Вот вам и будет суп с хлебом. Промучились несколько месяцев, пока не построили печи.
Все грузы на 2-ю площадку от станции Сары-Шаган доставлялись колоннами автотранспорта. Добравшись до середины маршрута (район будущей 6-й площадки), радировали на 2-ю, чтобы колонну встречал тягач, так как последние 40 километров в низинах можно было преодолеть только с его помощью. На один рейс до объекта и обратно, на погрузку и разгрузку отводилось пять суток.
Работать приходилось в крайне сложных условиях. Строителям приходилось выживать в буквальном смысле этого слова. Губенко вспоминал, к примеру, такой случай:
Ехал как-то со второй площадки, промерз до костей, уставший, голодный, и вдруг вижу в полукилометре от дороги, на 22-й площадке, человек пятьсот, целый батальон, жгут привезенную казарму, греясь около этого костра. Ужас был не только в том, что они жгли свое жилье, а в том, что ночью, когда жечь будет нечего, они просто замерзнут. Знал я такие случаи, когда во время Великой Отечественной войны люди замерзали в огромном количестве. Что же произошло? Командир растерялся, люди вышли из подчинения, такое, к сожалению, бывает. Усталость мою как рукой сняло. Я приказал всем взять лопаты и отправиться на заготовку топлива. А топливом служил боялыч, это низкорослый саксаул, который заготовлять было несложно: лопатой подрезай под корень. Через полчаса саксаула этого были уже горы. Назначив старших следить за костром, всех остальных направил на строительство казармы СР-2. Работа шла фронтовая, хотя к тому же разыгрался буран. Сменялись дежурные, поочередно грелись, да и работа уже разгорячила всех. Люди с утра ничего не ели, поэтому я приказал натопить снега и приготовить еду, запустив в котел все продукты, предназначенные на день. Когда все поели, работа пошла еще веселее. Ближе к утру казарму собрали, еще раз все поели, и, уставшие до предела, солдаты легли спать – вповалку, группами. Утром после подъема я простился с ними и уехал.
И тем не менее, несмотря на трудности и суровые условия, стройка расширялась, приобретая всё больший размах.
Радиолокатор РЭ, возводимый на 2-й площадке, проектировался под уже освоенный специалистами 10-сантиметровый диапазон волн. Передающее устройство мощностью 2 МВт было заимствовано от радиолокатора Б-200 системы «С-25». Антенна РЭ-10 была разработана в конструкторском бюро Горьковского машиностроительного завода. Аппаратура станции размещалась в деревянном бараке, наскоро собранном подчиненными Губенко. Для защиты от атмосферных осадков антенну закрывал сферический обтекатель.
Наведение РЭ на баллистическую ракету осуществлялось следующим образом. В момент пуска ракеты «Р-5» со стартовой позиции полигона Капустин Яр на площадку № 2 Балхашского полигона поступал сигнал «старт». По этому сигналу запускался аналогово-программный прибор, который осуществлял первоначальное наведение на цель радиолокатора «Бинокль-М». Приняв сигнал приемоответчика, установленного на борту ракеты, радиолокатор переходил на сопровождение цели, наводя на нее оптический кинотелескоп КТ-50. Тот в свою очередь наводил на цель луч антенны РЭ, которая могла обнаружить ракету на дальности около 400 километров.
Рассказывает Николай Дмитриевич Наследов:
В начале июля 1956 года Г. В. Кисунько дал задание начальнику отдела Б. И. Скулкину и мне, в то время начальнику лаборатории, съездить в Казахстан, к месту строительства будущего полигона, и определить место установки радиолокатора РЭ. Добирались неделю. Пять суток ехали поездом до Алма-Аты, потом пересели на поезд Алма-Ата – Петропавловск, затем от станции Сары-Шаган на автомашине добрались до места будущего города Приозерска. На этом месте были бескрайняя степь и берег озера Балхаш.
Разместились в палатках. Две недели, ожидая из Москвы топографические карты, жили при сорокаградусной жаре, спасаясь купанием в Балхаше и питаясь в военной походной кухне. Наконец карты прибыли, и мы на двух грузовых машинах двинулись к месту будущей 2-й площадки, находившемуся более чем в двухстах километрах от озера. Ехали по бездорожью двое суток. Ночевали прямо в кузовах машин, благо ночи были прохладные, летающие насекомые отсутствовали, а ползающие твари до нас добраться не могли.
К концу второго дня путешествия поняли, что заблудились. Ориентиров – никаких, продовольствие кончилось, резиновые мешки с питьевой водой порвались от тряски, бензин на исходе. Решили слить весь оставшийся бензин в одну машину и двигаться дальше, бросив вторую машину до лучших времен. Так и сделали, однако в правильности маршрута сильно сомневались. Положение становилось критическим, и вдруг мы увидели самолет. Пролетев над нами, он покачал крыльями, указывая нужное направление. Это было нашим спасением.
Вскоре, голодные и измученные, мы добрались до места назначения, где нас ждали прибывшие ранее топографы. Топографы уже пробурили скважину, наладили ветряной насос, и мы с неописуемым наслаждением окунулись в ледяную воду. На следующее утро приступили к уточнению места установки нашего радиолокатора, а через несколько дней, завершив работу, выехали в обратную дорогу.
В январе 1957 года на 2-й площадке начался монтаж инженерного оборудования, в марте – монтаж антенны радиолокатора. В мае был сформирован отдельный измерительный центр, в состав которого вскоре ввели два кинотелескопа КТ-50 и аппаратуру службы единого времени. В первых числах июня строительство экспериментального радиолокатора завершилось.
Тем временем в ста километрах от железнодорожной станции Тюратам (там вскоре вырастет космодром Байконур) заканчивалось строительство временной стартовой позиции СП-2 для пусков ракет «Р-2», которые из-за малого радиуса действия не могли долетать до Балхашского полигона с площадок Капустина Яра. Седьмого июня 1957 года там был проведен запуск, после чего установка РЭ впервые «увидела» баллистическую цель.
Главный конструктор Григорий Васильевич Кисунько вспоминал исторический для противоракетной обороны день так:
После короткого совещания в аппаратном здании с объекта № 2 пошла шифрованная радиограмма на СП-2 с просьбой подтвердить согласие на пуск ракеты Р-2 7 июня 1957 года с проведением двух репетиций совместной работы по согласованному икс-плану.
После нескольких репетиций по икс-плану и генеральной репетиции установки РЭ с ракетчиками СП-2 был назначен пуск на предрассветное время, вычисленное с астрономической точностью таким образом, чтобы ракета была подсвечена лучами восходящего солнца, а кинотеодолит при этом визировал ее через воздух, еще находящийся в земной тени и поэтому еще не прогретый. <…>
Икс-план – это, образно говоря, нечто вроде либретто, или партитура, где расписаны действия всех лиц боевого расчета, подача команд готовности, доклады о принятии готовностей или о задержках. Для нас особенно ответственной является команда на СП-2 на заправку ракеты жидким кислородом. После этого ракетчики не могут принимать от нас задержки более чем на пятнадцать минут, подпитывая ракету окислителем. При больших задержках они должны сливать компоненты и переносить пуск на сутки. Да и нам невыгодно отступать от намеченного времени пуска из-за условий регистрации на кинотеодолитах. Впрочем, у нас вроде бы все меры приняты, чтобы пуск Р-2 и ее проводка прошли в назначенное время, без сбоев и «утыков».
– Но при одном обязательном условии, – вставил Толя Иванов. – Совет промышленников постановил: главному конструктору не бриться, пока не состоится первый пуск. Говорят, что это здорово помогает…
А главный и без постановления не только не брился, но и не мог уснуть после вчерашней ночной генеральной репетиции. И сейчас, – вторая ночь начисто без сна, но меня не тянет в сон, только одолевает какая-то странная зевота. Между объявлениями готовностей по икс-плану выхожу из аппаратного здания, всматриваюсь в звездное небо: не натянуло бы облака к утру в зону кинотеодолитных наблюдений.
И еще – машинально отмечаю про себя названия созвездий, расположенных со стороны предполагаемого подлета ракеты, зачем-то прикидываю, как они сместятся к моменту пуска. <…>
У разработчиков новой техники в ходу поверье, что при испытаниях ничего не должно получаться сразу. И хотя это только шутка, но на РЭ всерьез и именно сейчас нужен удачный первый пуск, а неудачи пусть приходят потом, никуда не денутся.
От этих размышлений меня отвлек азартно возбужденный Толя Иванов: проверка всего комплекса по часовой готовности прошла нормально, стартовики просят разрешения приступить к заправке ракеты. Вместе с ним вхожу в аппаратную, подписываю протокол готовности: это официальное основание <…> шифрованной радиограммы с разрешением на заправку. Ставить подпись главного конструктора или упоминать его фамилию в радиограмме запрещено режимом, так как считается, что радиограмма обязательно будет перехвачена и, значит, рано или поздно расшифрована…
Для повышения эффективности «Р-2» пустили по крутой траектории, однако почти сразу стало ясно: вопреки мнению скептиков, наблюдение за ракетами возможно. В августе на РЭ провели целую серию испытаний.
Вспоминает конструктор Алексей Алексеевич Толкачёв:
В августе 1957 года я отправился в свою первую служебную командировку на Балхашский полигон. За три часа двадцать минут лайнер ТУ-104 доставил нас <…> в Ташкент. Старый город встретил жарой, ревущими ишаками, базаром с горами фруктов, арбузов, дынь и узбеками в ватных халатах, пьющими чай. Всё доступно, объедаемся. Ищем ночлег и останавливаемся. Утром – прохлада, горлицы воркуют около водопроводного крана, торчащего прямо из земли. Нам всё интересно, всё ново.
Дальше – грязноватый поезд Ташкент – Алма-Ата. Проезжаем Чимкент, Джамбул, Чу. Начинается серо-коричневая пустыня. Рано утром – станция Сары-Шаган. Бедные хибарки. Всё незнакомо и немного таинственно. От массы впечатлений и усталости склеиваются глаза, окружающий мир теряет реальность. <…>
В конце путешествия – военный городок на каменистом берегу бирюзового Балхаша. Бараки, суета… Военные строители беспрестанно крутят ручки полевых телефонов, выкрикивая позывные: «Штаб» и «Штаб-Урал». Клопастые одноэтажные гостиницы-бараки носят гордые названия. Одна из них, с именем «Высотная», принимает нас на ночлег.
Утром летим на Ли-2 на самую дальнюю 2-ю площадку, где уже развернута и работает аппаратура установки РЭ. На аэродроме встречают старожилы. Прилет самолета – одно из главных событий дня. Слушаем страшные рассказы о каракуртах, тарантулах, скорпионах, фалангах, змеях. <…>
Со временем открываем для себя, что этот неприветливый, ветреный, суровый край сказочно красив и богат. Для многих из нас он стал второй родиной. И не только потому, что мы провели здесь долгие годы, но и потому, что с этим краем были связаны наши самые большие успехи.
К моменту нашего приезда уже были проведены проводки и зафиксированы на киноленте сигналы от баллистических целей. Первая возникшая у меня проблема была чисто технической: ленты нуждались в проявке, но для этого не было ни проявочных машин, ни фотолаборатории, ни грамотных специалистов, которые могли бы выполнить эту работу.
На химскладе стояли мешки с понятными надписями: «метол», «гидрохинон», «сульфит натрия», «бромистый калий»… Для начала этого было достаточно. Варварским способом, без мер и весов, на глазок, были составлены необходимые растворы, лента порезана на отдельные куски, солдатскими алюминиевыми мисками заменены кюветы. Проявляю и вижу зафиксированные на киноленте сигналы от сопровождаемых головной части и корпуса баллистической ракеты. Баллистические цели действительно можно обнаруживать, можно сопровождать!
В результате испытаний РЭ удалось вполне определенно сказать, что при обеспечении необходимой точности наведения антенны радиолокатора головные части и корпуса баллистических ракет можно уверенно обнаружить на расчетных дальностях. При этом элементы ракет наблюдаются раздельно, их можно отличить друг от друга, и только отсутствие аппаратных возможностей для сопровождения двух целей не позволило одновременно построить две точные траектории. Больше того, специалисты достоверно выяснили, что поверхность рассеивания головных частей ракет «Р-2» около 0,2 квадратного метра, а корпуса – несколько десятков квадратных метров. Был развеян миф о каких-то особенных свойствах боеголовок, которые делают невозможным их наблюдение радиолокационными средствами.
Таким образом, радиолокатор РЭ разрешил важную (можно сказать, фундаментальную) проблему, но имел один существенный недостаток: он работал на иных частотах, нежели система «А». Поэтому еще в 1956 году Кисунько приступил к созданию РЭ-2; изготовленное для него оборудование разместили опять же на «площадке № 2», на месте РЭ-1, однако уже не в бараке, а в капитальном бетонном здании. Вновь разработанные устройства обеспечили излучение и прием на частоте 15 сантиметров – несущей частоте радиолокаторов точного наведения (РТН) системы «А». Антенна осталась та же, но мощность передающего устройства была повышена до 20 МВт. Обработка информации осуществлялась на одной из первых отечественных ЭВМ «Стрела».
Вспоминает сотрудник НИИ № 4 Министерства обороны Иван Фомич Бабич:
Антенна РЭ-2 имела очень узкий луч направленности, и для его функционирования было необходимо внешнее целеуказание. Разработка проекта и ввод в эксплуатацию средств целеуказания, средств внешнетраекторных измерений координат головной части ракеты, системы единого времени и оперативно-командной связи полигона в августе 1956 года были поручены нашему 4-му НИИ МО. <…>
В состав средств целеуказания вошли: работающая с бортовым ответчиком головной части баллистической ракеты радиолокационная станция «Сокол», обеспечивающий измерение угловых координат цели с высокой точностью кинотеодолит КТ-50 и выдающий угловые координаты по заранее заложенной программе прибор наведения установки на цель. РЛС «Сокол» была разработана на Кунцевском заводе № 304 на базе РЛС «Бинокль», созданной, в свою очередь, на базе РЛС СОН-4.
С самолета проверили работу средств целеуказания и установки РЭ-2 и убедились в том, что система функционирует правильно. Однако проведенные пуски ракет положительных результатов не дали. Головную часть мы не обнаружили, а зафиксировали лишь сигнал, который следовало ожидать от последней ступени ракеты. Возникли подозрения, что в полете не срабатывает система отделения головной части. Вызвали представителей КБ «Южное». Они не согласились с нашими доводами, но всё же доработали систему отделения на еще не отгруженных ракетах. Пуски доработанных ракет показали лучший результат – нам удалось зафиксировать сигналы уже не от одной, а от двух целей.
Летом 1958 года РЭ-2 был введен в эксплуатацию, а в августе приступил к наблюдению за баллистическими ракетами «Р-2», «Р-5» и «Р-12». С его помощью проводились исследования спектра и структуры сигналов, отраженных от головных частей ракет. В 1958 году именно на этом радиолокаторе осуществлялись наблюдения за тяжелой орбитальной лабораторией «Спутник-3».
С появлением первой межконтинентальной ракеты «Р-7» встал вопрос о наблюдениях за новыми головными частями. Ракетой «стреляли» с Байконура (позже – с Плесецка) по камчатскому полигону Кура. Балхаш находился слишком близко к стартовым площадкам, поэтому было принято решение установить новый локатор РЭ-3 на Камчатке. Его строительство завершилось в 1959 году, после чего начались наблюдения за головными частями проходившей испытания ракет «Р-7».