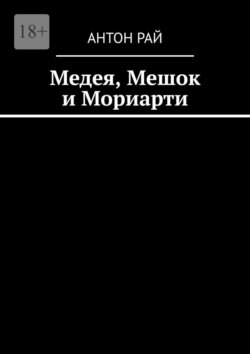Читать книгу Медея, Мешок и Мориарти - Антон Рай - Страница 3
Часть первая. Медея и Мешок
Глава вторая. Явление Медеи
ОглавлениеМиша по прозвищу «Мешок» даже не услышал звонка в дверь; звонка, которому было суждено хоть и ненадолго, но зато кардинально изменить его жизнь. Он в это время лежал на кровати и размышлял. С того момента, как мы с ним познакомились, прошло около полугода. Напомним, что тогда Михаил решился или, точнее сказать, решался произвести в своей жизни серьезные изменения. Посетив доктора и получив крайне малоутешительный диагноз (даже и с намеком на смерть), он подумывал о том, чтобы совершенно переделать себя и превратиться из чего-то дрябло-бесформенного в нечто стройное и мускулистое. И вот прошло полгода. Стал ли он стройным и мускулистым? Нет. Остался ли он дрябло-бесформенным? Тоже нет, ну или, скажем так – не совсем. Как и обычно бывает в таких случаях (то есть когда начинают новую жизнь), он застрял где-то посередине. Середину эту трудно назвать золотой, а скорее ее стоит назвать компромиссной. Впрочем, я не уверен, что хоть для какой-то середины подходит слово «золотая», а что касается необходимости стремиться именно к этой самой золотой середине, то я советую вам ознакомиться с небольшим юмористическим рассуждением на этот счет:
Рассуждение о необходимости стремиться к золотой середине
Увы, но ничего не вышло. Не рождается рассуждение, хотя в проекте оно и казалось мне не слишком сложным, а главное, очень забавным. Рассуждение я начал с области литературы и доказал, что крайнего порицания заслуживают писатели, пишущие романы, так как романы слишком длинны, и рассказы, так как рассказы слишком коротки, но похвалы заслуживают лишь писатели, пишущие повести. Из романистов наибольшего осуждения заслуживают, разумеется, авторы многотомно-монументальных произведений, таких как «Война и мир» (некоего Толстого) и «Отверженные» (Гюго, если не ошибаюсь); Достоевского и Диккенса с их «кирпичами» тоже не похвалишь. Наибольшего одобрения заслуживают Гоголь, написавший роман (хотя он и назвал его поэмой), весьма похожий на его главного героя – то есть не слишком толстый, однако бы и не сказать, чтобы тонкий, и Тургенев, пишущий хотя и романы, но вполне подъемные по объему. Также и Пушкин со своей «Капитанской дочкой» заслуживает похвалы. И всякому писателю я бы советовал писать именно повести (или недлинные романы) – будет ли повесть плохой или хорошей, но как повесть – она уже хороша. Под конец я спохватился и осудил всех писателей скопом – нет, ребята, и вообще-то нехорошо быть писателями, равно как и читателями, но лучше всего быть кем-то средним между писателем и читателем, то есть литературным критиком.
Это что касается литературы. Выйдя из этой области, я окунулся в область морали. Здесь я доказывал, что не стоит быть ни очень злым, ни чересчур добрым, но лучше всего шесть дней подряд делать добрые дела, и тогда в воскресенье можно позволить себе и какую-нибудь шалость вроде ограбления банка или даже предумышленного убийства. Нет, вы не ослышались – обязательно предумышленного. Конечно, согласно различным уголовным кодексам, как раз-таки предумышленное убийство (по сравнению с непредумышленным) является более тяжким преступлением, но давайте подумаем – ведь непредумышленно можно убить кого угодно, и даже какого-нибудь очень хорошего человека, тогда как предумышленно можно убить только отъявленного негодяя. Конечно, если вы нравственный человек, но я-то и обращаюсь исключительно к вам, высоконравственные вы мои. Итак, если уж убийство, то только предумышленное, не чаще одного раза в неделю и при этом убивается только негодяй, – а иначе середина не будет золотой и сильно проржавеет.
Что касается стремления к материальным благам, то я доказывал, что лучше быть и не слишком богатым (богатство порождает пресыщенность и высокомерие), и не чересчур бедным (бедность порождает озлобление и зависть), но стоит ограничиться скромной суммой, ну, скажем, миллионов в сто долларов. Что касается усердия и прочих полезных моральных качеств, то очевидно, что слишком перенапрягаться не стоит, равно как и всё время лежать на диване тоже не годится. Главное – ни в коем случае не работайте, то есть не ходите на работу, но занимайтесь исключительно творчеством, отводя ему преимущественно утренние часы. После обеда можете сходить в музей или почитать что-нибудь. После ужина опять почитайте, а на ночь посмотрите хорошее кино. По-моему, неплохой распорядок дня; ума не приложу, и почему это все ему не следуют?
Из области морали я перешел в область спорта и доказал, что самый лучший командный вид спорта – это вовсе не футбол и не хоккей, но нечто среднее, а именно хоккей на траве с мячом. Обратившись к легкой атлетике (и в полном подражании литературному рассуждению), я осудил всех стайеров (особенно марафонцев) и спринтеров (особенно стометровщиков) и доказал, что бегать стоит лишь на средние дистанции – начиная, скажем, метров с восьмисот и заканчивая тремя километрами.
Далее я перепрыгнул в область кулинарии и доказал, что самым совершенным блюдом является суп (как нечто среднее между едой и питьем), и что всем отныне следует есть суп на завтрак, на обед и на ужин.
Далее… далее я еще очень долго распространялся в этом же духе, перепрыгивая из одной сферы жизнедеятельности в другую, но потом все мои шаловливые рассуждения показались мне слишком уж шаловливыми, и я решил их совсем забросить. Нет, ничего у меня не вышло с рассуждением о золотой середине, увы.
***
Но это всё к слову, а Михаил, напомню, хотя и не превратился в нечто мускулистое, вместе с тем перестал быть и бесформенным мешком. Как он этого добился и почему не добился большего? Объясняю. Вопрос номер один: как он этого добился? Ответ: с помощью упражнений, естественно. Вопрос номер два: почему он не добился большего? Ответ: потому что это не так-то просто. Взять в руки гантели может каждый, но далеко не каждому по силам превратиться в Арнольда Шварценнегера, то есть, простите, Шварценеггера, конечно (это еще что, однажды я написал Апполон вместо Аполлон – позор, просто позор! Слава небу, никто об этом не знает, то есть не знал до сего момента). Отступив на шаг назад, повторюсь, что взять в руки гантели может каждый, но далеко не каждому по силам превратиться в Аполлона Шварценеггера. Бегать по утрам может каждый… но бегать Михаил как раз и не смог. Он слышал много историй о том, что пробежки придают энергии на целый день, но у него они только отнимали всю потребную на день энергию. Прибежав домой совершенно измочаленным, он потом весь день измочаленным и оставался. Нет, пробежки пришлось исключить. С гантелями тоже всё складывалось не слишком гладко: опять-таки никакого особенного прилива сил от упражнений он не чувствовал. Но вот что касается морального удовлетворения, то он довольно быстро понял, что это такое; узнал, каково это, когда, совершив довольно интенсивный получасовой комплекс упражнений, ты можешь с гордостью сказать себе: «Да, я это сделал». Это было приятно, ради этого стоило немного и помучиться. Ну а потом, он понимал, что таким образом формирует привычку, без которой в дальнейшем ему просто станет трудно обходиться. Сформировать дурную привычку ничего не стоит – они формируются сами собой (из потворства самому себе), а вот чтобы сформировать привычку хорошую – приходится попотеть. Следуя этой логике, занятия с гантелями являются хорошей привычкой, а чтение, несомненно, является привычкой дурной. Но это опять-таки к слову.
Итак, Михаил не только взял в руки гантели, но и достаточно последовательно брал их в руки каждый день. Но хотя в этом он и был последователен, интенсивность занятий довольно сильно варьировалась. То он делал по два, а то и по три комплекса упражнений за день, то ограничивался одним, а то и опять на некоторое время впадал в старую недобрую апатию и откладывал гантели: если новые полезные привычки сформировать трудно, то зато вернуться к старым вредным – проще простого. И всё же он снова и снова брал гантели в руки, так что через некоторое время смог увидеть на своем теле даже и некое подобие прорисовывающихся мышц. Его мечтой было увидеть также и некое подобие накаченного пресса заместо своего не очень прилично выдающегося вперед живота, но на это, очевидно, требовалось больше времени. А пока что он был доволен и имеющимися результатами – доволен тем, что его намерения не остались лишь намерениями.
С едой было сложнее. Здесь не всё зависело от него; приходилось воевать не только со своими привычками, но еще и с мамой. Мама привыкла, что он ест много и вовсе не считала, что это плохо. Соответственно, мама привыкла много готовить, а теперь приходилось убеждать ее, что нужно готовить поменьше. Приходилось убеждать ее, что гигантскую тарелку супа следует заменить просто на большую, а от второго блюда в обед следует попросту отказаться. Ох уж это второе блюдо, что он из-за него только не пережил! Во-первых, ему и самому страсть как не хотелось отказываться от него. Как это – съесть супа – и всё! А как же котлета! На ужин? Но ужин-то еще когда будет! Что ж ему, всё время до ужина думать об этой котлете? – а если он не съест ее сейчас, то ему именно что придется думать о ней. Нет, он хотел думать о литературе, а не о котлетах, что какое-то время служило ему оправданием поглощения второго блюда. И потом, ведь не дураки же разрабатывали рацион питания – раз положено на обед второе блюдо, значит, так тому и быть. О, у него было много аргументированных оправданий и отговорок. И всё же он пересилил себя и отказался от второго – но это только он, а вот его мама не торопилась отступать с занятых ею позиций, что видно из следующего показательного диалога.
Первый показательный диалог Мешка с мамой
– Я сегодня не буду второго, мама.
– Как не будешь, я ведь приготовила.
– Съем на ужин.
– На ужин у меня…
– А я съем вот это.
– Ты не заболел, сынок?
– Ничего я не заболел, мама. А просто мне вполне достаточно и супа.
– Как может быть достаточно? Всю жизнь не было достаточно, а теперь вдруг достаточно. И вообще, ты похудел в последнее время…
– И отлично.
– Чего уж отличного? Добро бы нам чего не хватало…
– Мама, что ты делаешь?
– Накладываю тебе второе.
– Я же сказал, что не буду.
– А я не обращаю внимание на глупости.
– Это не глупости. Я так решил.
– Ну хорошо, завтра обойдемся без второго, а сейчас уж изволь съесть.
– Ну, разве что завтра…
Как видите, мама Миши была очень опытным полководцем. И все же Михаил настоял на своем. Не сегодня и не завтра, но послезавтра он на своем настоял. Со скандалом. Увы, но всякое самостоятельное действие в этой жизни как правило приходится совершать, преодолевая упертое противостояние всех своих родных и близких. И кажется, что это даже не правило, но самый что ни на есть закон. Со скандалом пришлось убеждать маму и в том, что ему вполне достаточно одного куриного окорочка на ужин (вместо обычных двух или даже трех – читай второй показательный диалог), и Миша с прискорбием предчувствовал, через какую битву ему придется пройти, когда он скажет, что ему достаточно и половины окорочка. Половина окорочка! Да он же так в скелет превратится! Как сказал один неглупый мэн: враги человеку домашние его.
Второй показательный диалог Мешка с мамой
– А что мне делать со вторым окорочком?
– Оставь его на завтра.
– Завтра у нас рыба.
– Сделай рыбу послезавтра.
– А я уже решила, что завтра.
– Перереши.
– Не надо со мной так разговаривать. Для кого я вообще убиваюсь?
– Начинается.
– Для кого? Для себя, что ли?
– «Да мне вообще ничего не надо» – правильно?
– Да, мне ничего не надо. Я всё только для тебя делаю.
– Если для меня, то…
– А ты мне только грубишь.
– Ну конечно. Я просто…
– Хорошо, я вообще ничего больше готовить не буду… Готовь сам, как тебе удобно.
– Попробовал бы я сам, такое начнется…
– Какое?
– Вот такое, как сейчас, только еще хуже.
Да, непросто приходилось Мише… Для поддержания себя в адекватной форме он взял на вооружение знаменитую фразу якобы Чехова13, гласящую, что если человек встает из-за стола наевшимся, то он на самом деле переел, а если – переевшим, то он отравился. А в прошлом-то он, Михаил, всегда вставал из-за стола не раньше, чем почувствует себя наевшимся, а зачастую и переевшим. Правда, с той частью фразы, где (якобы) Чехов утверждает, что вы наелись, когда встаете из-за стола голодными, Михаил никак не мог согласиться. Он вставал из-за стола, почувствовав первые признаки наедания и всё же, несмотря на все старания мамы, старался по-настоящему не наедаться. Опять пришлось пойти на компромисс: то между дряблостью и шварценеггеристостью, а теперь – между Чеховым и мамой.
Литература тоже мало помогала Михаилу – и даже прямо мешала. Хотя раньше и было сказано, что Михаил предпочел бы думать о литературе, а не о котлетах, но ведь сама литература то и дело говорит о котлетах – и как говорит! Весьма пространно и соблазнительно. Попробуйте-ка прочесть «Старосветских помещиков» и чтобы вам после этого не потребовалось срочно перекусить! И это я говорю про обычного человека, со вполне стандартным апетитом (пардон, апеттитом, конечно – опять неправильно, ведь программа проверки правописания подчеркивает и апеттит, и апетит красным; значит, аппетитом – теперь всё верно) – итак, это я говорю про обычного человека, со вполне стандартным аппетитом, что уж говорить о зависимом, хотя и решительно борющимся со своей зависимостью от еды Михаиле. Перечитывая «Старосветских помещиков», он невольно вспоминал, как Солженицын в «Архипелаге Гулаг» писал, что лагерники избегали всякого чтения, где активно упоминается еда (слишком болезненная тема), и особенно они избегали Гоголя. Да уж, повторюсь, «Старосветских помещиков» действительно следует держать подальше не только от всех заключенных и вообще голодающих, но и от всякого человека, который не может по прочтении (а то и во время чтения) моментально утолить неизбежно проснувшийся в нем голод14. Да что там «Старосветские помещики»! Капля в море! А Собакевич, уделавший в одиночку целого осетра, а Петр Петрович Петух, превращающийся за столом в совершеннейшего разбойника?15 А диалог поэта Амвросия с неухоженным Фокой16 или, на выбор, диалог профессора Преображенского с его ассистентом Борменталем?17 А бесконечные пирушки мушкетеров? Помните? Ну что же спрашивать! По губам вашим вижу, что помните. Да и какой писатель откажет себе в удовольствии вывалить на страницы своего произведения целые груды еды, если уже и герои Гомера при первом удобном случае только и делали, что «ели прекрасное мясо и сладким вином утешались»?
В общем, бросить есть для любителя литературы – дело не менее сложное, чем бросить пить для человека, который постоянно находится в компании пьющих людей. Но тут на выручку Михаилу снова пришел Чехов – и на этот раз не «якобы Чехов», а самый что ни на есть реальный Антон Павлович. Стоило только Мешку перечитать рассказ Чехова «О бренности»18, как разыгравшийся аппетит мгновенно испарялся. Михаилу вовсе не улыбалось разделить судьбу Подтыкина! Блины – это, конечно, хорошо, но жизнь, пусть ненамного, но лучше. А потому он старался по возможности не только сокращать свои порции в реальности, но избегать «вкусных отрывков» и в пространстве литературы.
Зримым итогом его усилий стало снижение веса. На момент обращения к доктору он весил 110 килограммов (тут уж я не напишу киллограмов, и не мечтайте), что при росте в 182 сантиметра давало индекс массы тела (ИМТ) равный 33.2119. ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) утверждал (или утверждала, раз это организация), что индекс больше 25 означает избыточный вес, а больше 30 – ожирение. Теперь Михаил весил 97 килограммов, а его ИМТ равнялся, соответственно, 29.28. Из явного толстяка он превратился не более чем в человека с избыточным весом – может быть, впервые в своей жизни. И всё же ожирение пока что было намного ближе нормы, так что расслабляться не следовало.
Вот об этом и размышлял Михаил, лежа на кровати в своей комнате, когда в дверь позвонили, но «Миша по прозвищу „Мешок“ даже не услышал звонка в дверь; звонка, которому было суждено хоть и ненадолго, но зато кардинально изменить его жизнь». В общем, лежал он себе, когда дверь его комнаты вдруг отворилась и мамин голос растерянно произнес:
Третий, и уже скорее исключительный диалог Мешка с мамой
– Миша, это к тебе.
– Что, ко мне?
– К тебе пришли.
– Кто?
– Не знаю. Какая-то женщина.
– Женщина?
– Да.
– Не понял? Ко мне пришла женщина?
– Да.
– И сейчас стоит у нашей двери?
– Да. Стоит у двери. Говорит, что ей нужен Михаил.
– Наверное, все-таки не тот Михаил.
– Я ей так и ответила, но она говорит, что тот… и еще что-то про мешок сказала, я не поняла…
– Если про мешок, значит, точно ко мне.
– Почему, если про мешок – то к тебе?
– Долго объяснять.
– Долго объяснять… – растерянно-недовольно повторила за Мишей мама.
Михаил поднялся. Он, естественно, был заинтригован и немного напуган. Что за женщина могла его спрашивать? Наверное, кто-то из ГКП-сообщников. Больше некому. Но кто конкретно? И почему надо прийти вот так – без предупреждения? Странно всё это. Опять-таки легко объяснялась и растерянность в голосе матери: ладно, к нему гости не ходили, но когда вообще у них в последний раз были гости? Кажется, никогда… Поднявшись с кровати, Михаил увидел свое отражение в зеркале и тут же вновь почувствовал себя не человеком с избыточным весом, но самым что ни на есть неряшливым толстяком. Да еще мятая футболка… Черт, хоть бы ему приодеться, что ли… «Ну и нарочно буду такой неряшливый и жирный, и наплевать! В конце концов, еще непонятно, кто там и зачем пришел…»20. Утвердившись в таких мыслях, Михаил прошел в прихожую; входная дверь стояла открытой, а у двери стояла ОНА. Он узнал ее сразу, хотя вживую до этого момента никогда и не видел. Медея.
Никто не знал, как звали Медею на самом деле. Она появилась в пространстве инета под ником Medea, а затем, когда она предстала человеком из плоти и крови, это имя уже настолько прочно закрепилось за ней, что искать какое-то другое не имело смысла. Внешность ее, надо сказать, идеально соответствовала нику. Смуглая, как будто опаленная адским пламенем кожа; черные, бездонные как бездна глаза; черные как… как там говорится в таких случаях – как смоль? – черные как смоль волосы и черная как… – что там у нас еще бывает черным? – ночь, конечно же… – черная как ночь одежда. Всё в ней было черно и пугающе. Даже и сама ее красота (а Медея, несомненно, была очень красивой) пугала. Это была не та красота, которая звала полюбоваться на себя; это была красота обжигающая и даже испепеляющая. Красота, возвращающая комплименты таким тяжелым взглядом, что произнесший их невольно считал себя счастливчиком, если дело только взглядом и ограничивалось. Вообще, когда дело доходило до слов, никто не мог чувствовать себя в присутствии Медеи вполне в безопасности. Оно и не удивительно – ведь Медея считалась главным критиком ГКП, причем содержание слова «критик» в данном случае полностью соответствовало своей форме. Критикуя те или иные произведения, она уничтожала или даже, точнее, изничтожала их. Для примера приведу ее рецензию на пьесы Чехова:
Дядя Ваня. Замечательная пьеса, после прочтения которой хочется повеситься.
Чайка. Блестящая пьеса, после прочтения которой хочется застрелиться.
Вишневый сад. Великолепная пьеса, после прочтения которой хочется утопиться.
Три сестры. Умопомрачительная пьеса, после прочтения которой и остается лишь сойти с ума.
Но любимым объектом ее изничтожающей критики был Диккенс. Я уже, кажется, говорил о словах-триггерах, то есть о словах, при произнесении которых у некоторых людей мгновенно проявляются трудноконтролируемые психологические реакции – чаще всего негативные. «Диккенс» был идеальным словом-триггером для Медеи. Только произнесите при ней это имя – и будьте уверены, что вам обеспечено прослушивание целой лекции, по ходу которой вам в подробностях объяснят, почему Диккенс – это самое страшное, что произошло с литературой на протяжении всей ее истории. Вот часть этой лекции:
«Нет, я вовсе не собираюсь спорить с тем, что Диккенс – великий писатель; более того, соглашусь и с тем, что он писатель величайший. Но в том-то и проблема литературы, что один из величайших писателей за всю ее историю написал такую пропасть хорошо-читаемой, по-настоящему высоко-качественной галиматьи. Морализаторство самого примитивного буржуазного толка; персонажи, создаваемые по шаблону; совершенно избыточная эксцентрика, переплюнуть каковую смог разве что Достоевский; бесконечные повторения одной и той же фразы (и без того растягиваемой на целый абзац), необходимые для увеличения объема эпизода; эти же эпизодики, растягиваемые на целые главы, что совершенно необходимо для увеличения объема книги: как же – чем толще книга, тем больше денег. А жизнь, как говаривал один из персонажей Диккенса (и как, конечно, думал и он сам) – это фунты, шиллинги и пенсы. Если бы я была марксистом, то сказала бы, что творчество Диккенса – ярчайший пример того, во что превращается литература, организуемая как капиталистическое производство. Но я не марксист, а поэтому скажу так: творчество Диккенса – ярчайший пример того, как величайшая гора может породить ничтожнейшую из мышей».
Да… при таком отношении к классикам, представьте себе, каких теплых слов от Медеи могли ожидать современные писатели, а особенно писатели-соратники, то есть ГКП-авторы. Впрочем, Медея редко когда пространно критиковала современнико-соратников – она их просто не замечала, отпуская, правда, то тут, то там, отдельные едкие реплики, быстро расходившиеся «в народе». Каков же был ее рейтинг в сообществе? Нет, она не была первой, и даже не входила в десятку самых рейтинговых критиков. Объяснялось это отчасти тем, что виртуальности она предпочитала «реал». Она знала о том, какое сильное воздействие оказывает одно только ее физическое присутствие и отлично пользовалась этим, с удовольствием посещая все проводимые ГКП «реальные» мероприятия. Отношение к ней в сообществе, естественно, было неоднозначным. Многие называли ее «олицетворением темной стороны ГКП», главным ГКП-троллем; другие говорили, что именно она станет новым лидером сообщества после ухода Томского. Когда ей задавали вопросы на эту тему, она говорила, что не исключает такого развития событий и советовала всем сообщникам заранее готовиться к 37-му году. Была ли это шутка или нет – непонятно. Но вообще-то, Медея шутила нечасто, и шутки ее отдавали как раз-таки черным сталинским юмором.
Как к ней относился Михаил? Побаивался, но более абстрактно. Их пути редко, то есть почти никогда не пересекались. Медея была черной королевой реала, он – белым инет-королем. И вот, черная королева в черном плаще пожаловала в гости к белому королю в мятой футболке.
Медея оказалась неожиданно невысокого роста – на целую голову ниже Михаила. В дальнейшем Мешок никак не мог определиться с ростом Медеи – глаза его видели одно, но глубинное восприятие подсказывало совсем другое, и если бы кто спросил у него: «Высокого ли роста Медея?» – он бы ответил: «Скорее невысокого», – а если бы кто еще спросил: «Кто выше: ты или Медея?» – он бы сказал, что Медея, конечно, выше.
Под черным плащом Медеи чернели черный свитер и черные кожаные штаны. Черные бездонные глаза внимательно смотрели на Михаила. Михаил тоже смотрел на Медею, решительно не зная, что ему сказать и тем более – что ему делать. Медея пришла Михаилу на помощь:
– Я понимаю, зрелище, конечно, интересное, но может, я все же войду?
– Да, конечно, проходи… те, – пробормотал Михаил.
Медея прошла в прихожую – в этот момент в прихожую со стороны комнаты Миши вошла и его мама, с подозрением смотря на Медею.
– Всё в порядке, Миша? Это действительно к тебе?
– Да, ко мне. Всё в порядке.
– Вы по работе к Мише? – обратилась мама к подозрительной Медее. – Я его часто спрашиваю про работу, но он как-то всё уклончиво отвечает. А сейчас, знаете, людям трудно доверять, кругом один обман. Вот мне недавно позвонили, говорят, на мой номер случайно перевели пятьсот рублей; просят, чтобы я их вернула. Я смотрю свой счет – действительно лишних 500 рублей. Ну, я и вернула, вроде как доброе дело сделала. А потом с меня еще пятьсот рублей списали – оказывается, это жулики мне звонили. Я теперь если вижу, что кто незнакомый звонит – вообще телефон сразу отключаю. Ты к людям по-доброму, а они к тебе… Никому сегодня доверять нельзя, а Миша у меня мальчик доверчивый.
– Это я вам тогда звонила. Вот, специально пришла вернуть ваши пятьсот рублей, – с этими словами Медея вынула из кармана своего плаща кошелек, из кошелька – пятисотрублевую купюру и протянула ее маме Михаила. И всё это с совершенно серьезным лицом, мрачно-сосредоточенное выражение которого, кажется, никогда не менялось. Мама Михаила с растерянностью смотрела на полученную купюру, опять-таки не зная, что сказать или сделать, а Медея в этот раз вовсе не спешила никому приходить на помощь. Сценка выходила неловкой, но Медея, кажется, только наслаждалась этим (вообще, слово «кажется» в отношении Медеи – ключевое слово – мы можем только гадать относительно всего, что ее касается). А вот Михаил был готов провалиться сквозь землю от досады. Оказаться на виду у Медеи в таком виде: неряшливым, толстым, да еще и с мамой, называющей его сыночком. Раньше были отважные пятнадцатилетние капитаны, теперь – сорокалетние маменькины сыночки. М-да…
– Ладно, мам. Мы пойдем в мою комнату. Нам надо поговорить… по работе.
– Да, деловое совещание. Ваш сын – гордость нашего цеха, – могильно-насмешливо добавила Медея.
– Цеха? – мама, хотя и рада была услышать, что ее сын является гордостью, но Медея по-прежнему не внушала ей никакого доверия, да еще этот эпизод с купюрой – всё как-то странно и непонятно…
– Это я фигурально выразилась. Я хотела сказать, что ваш сын известен на всю страну. А вы и не знали?
– Нет.
– Он вам потом расскажет. А сейчас нам действительно надо поговорить.
Михаил прошел в свою комнату, Медея проследовала за ним. Михаил закрыл дверь, но слышал, что мать так и стоит в прихожей. Наверняка она будет прислушиваться к их разговору. Всё выходило как-то глупо… Медея стояла посреди комнаты, внимательно ее осматривая. Смотреть было особенно не на что – внимание привлекали разве что разбросанная повсюду в беспорядке одежда и почти полное отсутствие в комнате книг – все они приютились на одной-единственной книжной полке.
– Не скажешь, что тут живет один из самых читающих людей в мире, – такой итог осмотру подвела Медея.
– Мало книг?
– Да. Бардака много, книг мало. Лучше бы наоборот.
– Когда-то и книг было много. Потом появились читалки, и я все выбросил.
– Не жалко было?
– Нет, я в этом смысле прагматик. Мне важен только текст, а все эти стремления «подержать книгу в руках» и прочая ахинея – это не про меня.
– Понятно, – сказала Медея, и кажется, в ее голосе даже прозвучало что-то похоже на одобрение. – Но кое-какие книги всё же остались. Любимые?
– Да.
– Так их все-таки жалко было выбросить?
– Да, подловила ты… вы меня.
– А сейчас я еще и бесцеремонно посмотрю, что это за книги. Так. Гоголь, «Мертвые души»; Булгаков, «Мастер и Маргарита»; Дюма, «Три мушкетера»; Толстой, «Анна Каренина»; Гомер, «Одиссея»; «Холодный Дом», Диккенс, куда без Диккенса, «Жизнь Дэвида Копперфилда»… Только не говори, что ты любишь «Дэвида Копперфилда».
– Люблю… Ах да, я помню, что ты Диккенса не очень…
– А в особенности «Дэвида». Это же лучшая, как считал сам Диккенс, из его книг, а следовательно, и самая диккенсовская. Квинтэссенция диккенсовщины. Не пойму, как это можно читать; честно – не пойму.
– Еще как можно. И между прочим, не только Диккенс считал «Дэвида» лучшей своей книгой, но и тот же Толстой, к примеру, считал ее чуть не лучшей книгой из всех когда-либо написанных.
– Да, помню, – задумчиво кивнула Медея и с грустью вздохнула (вроде как Толстой ее очень сильно разочаровал). И тут же она процитировала памятные всем любителям литературы слова: «Просейте мировую прозу – останется Диккенс, просейте Диккенса – останется «Дэвид Копперфильд». Бедная мировая проза, – добавила Медея уже от себя.
Михаил меж тем услышал, что мама подошла совсем близко к двери. Интересно, что она может подумать о таком разговоре? – пожалуй, такой разговор лишь еще больше собьет ее с толку. Медея, кажется, тоже услышала шаги подкравшейся к двери Мишиной мамы, и нарочито (кажется, что нарочито) громко спросила:
– А чего это ты скрываешь от матери свои занятия?
– Так вышло. Как-то сразу не объяснил, а потом вроде и не было надобности.
– И напрасно. Хотя так даже интереснее. Лучший читатель ГКП, живущий со своей мамой, которая даже не знает, чем занимается ее доверчивый сынок.
И тут, кажется, на ее лице даже появилось некое подобие улыбки, но Михаил решил не поддерживать эту не слишком выгодную для него тему, а вместо этого озаботился практическими вещами.
– Так, как бы нам тут устроиться? У меня всего один стул, и тут вот кровать. Поставим стул около кровати, ты… сядете, а мне придется прилечь. Не очень удобно, но удобнее вряд ли получится.
– Всё терзаешься, как ко мне обращаться – на «ты» или на «вы»?
– Как вам, то есть тебе удобнее.
– Мне удобнее всего, когда собеседнику неудобно, так что думай сам. Давай, ложись, я сяду – и приступим к разговору. Хотя разговор будет коротким. Я пришла по поручению Томского. Знаешь, что он мне сказал? «Пора, говорит, выволочь этот мешок на свежий воздух и хорошенько его встряхнуть». Так дословно и сказал. Правда, сказал он это мне уже давно, больше года назад, а нагрянула я только сейчас. Как думаешь, почему?
– Не знаю. Для меня вся ситуация слишком неожиданная, я еще не сформулировал свое к ней отношение.
– Забавно иногда выражаются люди, имеющие дело в основном с печатным словом. «Я еще не сформулировал свое к ней отношение». Обычно так не говорят. Ну да ладно. Вернемся к нашей «неожиданной ситуации». На самом деле я уже приезжала сюда год назад и уже почти постучалась в эту самую дверь, но… На самом деле я даже и постучалась, но вас не было дома. Я вышла на улицу, постояла какое-то время, а потом вижу – идете. Но я тогда еще и представления не имела ни о твоем внешнем виде, ни о твоих жизненных обстоятельствах – так что я просто увидела безразмерного увальня под ручку с мамкой и, помню, еще подумала про себя: «Не дай Бог, это и есть знаменитый Мешок». Из любопытства я, однако, проследила за парочкой, которая, разумеется, зашла в эту самую квартиру. «Удар был велик». Я решила, что ТАКОЙ мешок уже невозможно встряхнуть да и уехала. Живите, думаю, как хотите. Сидите в своем инете хоть до посинения, теряя всякую реальную форму. А недавно вызывает меня Томский и опять спрашивает: «Так что там с Мешком? Кажется, я ясно дал понять…» – и так далее. Томский не любит, когда его указания, хотя бы и даденные вскользь, не воспринимаются как побуждения к действию. Я высказала пожелание, чтобы миссию по твоему выволакиванию переложили на кого-нибудь другого, но Томский почему-то уперся и ехать почему-то опять должна была именно я. Ну, у меня в Сосновом Бору и свои дела есть, так что съездить мне нетрудно, но я, знаешь ли, тоже человек властный и очень не люблю, когда на меня нажимают. Поэтому ехала я сюда в довольно мрачном расположении духа, а так как и мое обычное расположения духа обычно называют мрачным, можешь себе представить… В общем, ты должен был расплатиться за мое дурное настроение – я хотела тебя попросту морально изничтожить, а уж это я умею. Иду я, значит, сюда (подбирая фразы пообиднее и похлеще), подхожу к дому и вдруг вижу – кто-то бежит, смотрю – да не Мешок ли это? Точно, Мешок, но мешок бегающий, мешок, похудевший почти до приемлемых размеров. Любопытно, думаю. В общем, и тогда я к вам не пошла, решила подождать еще немного. Думаю, пусть парень утвердится в своем решении сбросить с себя лишний жирок. Выждала еще пару месяцев, а потом, чувствую, уже пора, а то если Томский еще раз вызовет меня по этому вопросу, то дело кончится ссорой. И вот я здесь. Ну так что – утвердился ты в своем настрое? Бегаешь?
– Бегаю, – соврал Михаил, но уж больно ему не хотелось так сразу разочаровывать Медею.
– А вон и гантели, смотрю. Тягаешь?
– Каждый день. Почти.
– Почти… – Медея встала со стула, подошла к гантелям, лежавшим под шкафом, и выкатила одну из них на центр комнаты. Гантели у Михаила были сборные, с несколькими блинами, позволяющими варьировать вес гантели от 4 до 10 килограммов. Сейчас они были «настроены» на 7 кг (золотая середина!). Медея взяла гантель в руки и подняла ее.
– Тяжелая, – кажется, голос ее прозвучал уважительно. – В общем, по тебе и так видно, что ты не просто решил, но и решился… Это хорошо. Да сядь ты на кровать, не лежи, неудобно разговаривать с лежащим человеком.
– Сидеть на кровати тоже не очень удобно.
– Тогда садись на стул, а я буду стоять.
– Хорошо, давай так.
– Впрочем, я уже почти всё сказала. Я здесь, и у меня к тебе есть дело. Завтра мы с тобой идем в одно место.
– Куда?
– Сюрприз.
– Пусть будет сюрприз. И во сколько мы…?
– С утра пораньше. Я зайду за тобой часов этак в шесть.
– В шесть? Я в такую рань никогда не встаю. Давай, лучше часов в девять.
– Завтра, в шесть часов. А может, и чуть раньше – как получится. Форма одежды – походная. Что еще? Вроде бы всё…
– А как я маме…
– Как-нибудь объяснишь. Гантели тягать научился – научишься и с мамой объясняться. К тому же она, наверное, всё еще под дверью стоит, слушает. Завтра, в шесть часов, – нарочито громко повторила Медея и, подошедши к двери, резко открыла ее, но мамы за дверью не было – она уже чем-то громыхала на кухне.
Мешок пошел за Медеей – проводить. Проводы получились краткими: Медея быстро и без лишних слов покинула взбаламученную ею квартиру. На смену Медее явилась мама, дальнейший разговор с которой продолжался около часа, но я думаю, что вы дофантазируете его и сами.
13
Я говорю «якобы Чехов», потому что встречал эту фразу («Встав из-за стола голодным – вы наелись; если вы встаете наевшись – вы переели; если встаете переевши – вы отравились») только в цитатниках, но не у самого Чехова, хотя по духу фраза и по-настоящему Чеховская.
14
« – А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь? – Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых? – Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, – отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. – Мне кажется, как будто эта каша, – говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна? – Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней. – Пожалуй, – говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, – попробуем, как оно будет». (Н. В. Гоголь. «Старосветские помещики»)
15
Собакевич и Петух – персонажи поэмы Гоголя «Мертвые души».
16
Памятная кулинарная сценка из романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
17
«Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шёл такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды»! – подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой. – Сюда их, – хищно скомандовал Филипп Филиппович. – Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое… умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. «От Севильи до Гренады…». Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький тёмный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились. – Это плохо? – жуя спрашивал Филипп Филиппович. – Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор. – Это бесподобно, – искренно ответил тяпнутый. – Ещё бы… Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок – это первая. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском Базаре». (М. А. Булгаков. «Собачье сердце»)
18
Рассказ этот настолько невелик и при этом настолько «в тему», что совершенно невозможно не привести его целиком: «Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины… Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина… Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатолароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч. Подтыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки… Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем… – Ну, можно ли так долго? – поморщился он, обращаясь к жене. – Скорее, Катя! Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился… Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот… Но тут его хватил апоплексический удар».
19
ИМТ равен отношению массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Рассмотрим случай Михаила. Рост 182 см, вес – 110 кг. Квадрат роста в метрах равен 1.82*1.82 = 3.3124. 110/3.3124 = 33.21
20
Отсылка к Разумихину и его рефлексии по поводу своей внешности в глазах Авдотьи Романовны Раскольниковой: «Ну да, черт! А пусть! Ну, и нарочно буду такой грязный, сальный, трактирный, и наплевать! Еще больше буду!..» (Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание»)