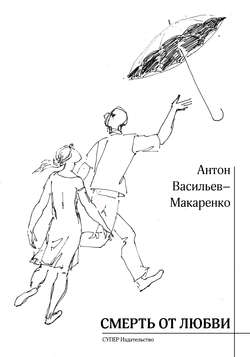Читать книгу Смерть от любви (сборник) - Антон С. Васильев-Макаренко - Страница 4
Антон С. Васильев, Марина Шептунова
Превращения третьеклассника Теряева
\сценарий художественного фильма\ 1982 г.
ОглавлениеНад городом, на крыше старого серого семиэтажного дома росла берёза. Слабосильная, хиленькая, но росла, выживала, как могла, вцепившись тонкими корнями в лепное архитектурное излишество карниза, проникнув под листы кровельного железа. Город тянулся к мартовскому небу скатами крыш, башнями, трубами, шпилями и куполами, забелёнными поздним снегом. Ещё слабое теплом солнце смотрело сквозь облака, стремительно разносимые в стороны ветром.
– Раз, два, три, четыре, пять – всем из дома выбегать, – сказал третьеклассник Теряев, задержавшись на последних ступеньках в полумраке подъезда. – Кто не выбежит, того выберем! – и выбежал в солнечный двор.
У подъезда Теряева поджидали две дружелюбные собаки «дворянского происхождения». Теряев дал им поесть.
Собаки завтракали, но тут подошел Суровый Сосед с первого этажа со свернутыми в трубочку газетами в руках.
– Так всегда! – закричал Суровый Сосед. – Сперва всякую дрянь приваживаем, а потом лишаём болеем и удивляемся, откуда зараза! – и он уставил на Теряева свёрнутые газеты, как пистолетное дуло.
Теряев и собаки бросились врассыпную.
Молочные бутылки и баночки из-под майонеза позвякивали в сумке, когда Теряев шагал по бульвару в магазин.
Вдруг посторонний шум вмешался и нарушил мелодию теряевской стеклотары: отряд пионеров шлёпал по солнечным лужам со знаменем, горном и барабаном.
Теряев увидел восхитительную красную рамку барабана, сверкающие никелированные крепления, нежную желтоватую кожу мембраны – и окаменел. Барабанные палочки были золотистые. Они летали в воздухе легко и точно.
– Куда идешь, Теряев?
На лавочке сидел и кушал мороженое одноклассник Волков.
– В магазин, – сказал Теряев, провожая уплывающий барабан влюбленными глазами.
– Всё у тебя не как у людей, – сказал Волков.
– А что у людей? – заинтересовался Теряев, сел на лавочку и огляделся, выбивая ладонями по сумке барабанную песню.
Мимо со счастливыми улыбками шли и бежали люди и школьники.
– Весна, Теряев!
– Да, Волков, – задумчиво вздохнул Теряев. – А четверть кончается.
Волков доскреб палочкой остатки мороженого, бросил стаканчик в урну и тоже вздохнул:
– Весна, Теряев! Плачу и рыдаю.
– Это как?
– Всё радуется, оживает, всё тянется к счастью.
– Ну и что?
– Пора любви, дурень! Не видишь ты, что ли?
Теряев еще раз огляделся.
Мимо по-прежнему шли и бежали люди и школьники, но на этот раз от внимательного взгляда Теряева не укрылось, что и вправду что-то в мире стало не так спокойно. Теряев чихнул и сам себе сказал:
– Будь здоров – спасибо!
– Эх, Теряев! Все влюбляются, все парами ходят. Один ты ушами хлопаешь. И хлопай себе на здоровье, а я пошел, у меня свидание.
– У тебя?!
– У меня, брат. Я – как все. Извини, спешу.
– А как же я? – испугался Теряев.
– Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, – развёл руками Волков. – И их мозгов! – он постучал Теряева по голове. – А ты ни хрена мышей не ловишь!
– Не ловлю…
– Не ловишь! – и Волков пошёл, но оглянулся на растерянного Теряева. – Ищи, брат! Будь мужчиной! – и ушёл.
Теряев стоял один посреди оглушительной, ослепительной весны и усиленно соображал. Он решил влюбиться, чтобы быть как все.
Для этого Теряев стал ходить по бульвару и заглядывать на девочек. Некоторые хихикали, глядя на его растерянное нелепое лицо. Некоторые не замечали его робких попыток волочиться за ними или стараться включиться в общение.
Теряев несколько раз спросил, который теперь час, несколько раз присаживался на лавочку рядом с девчонками и горестно вздыхал, несколько раз становился рядом с ними у стендов читать газету, но ничего у него не получалось.
Тогда Теряев стал наблюдать, как весна проходит у других, у взрослых и юных, у старых и совсем молодых. Кроме Теряева, казалось, все счастливы, все влюблены и любимы, все радуются и смеются – и прохожие, и птицы, и милиционеры…
Шатаясь по бульвару, Теряев набрел на Гоголя.
Гоголь улыбался, глядя, как кипит жизнь на площади.
Теряев обратился к Николаю Васильевичу:
– Ах, что это за любовь?
Да и где её берут?
На полях её не сеют,
На лугах её не рвут!
И Гоголь разделил печаль Теряева. Он сел, закутавшись в плащ, и понурил голову. Совсем как его памятник на Суворовском бульваре.
…Теряев сидел на лавочке и гладил по голове знакомую собачку.
Мимо шла энергичная девочка с открытым, волевым и радостным лицом.
– Здорово, Теряев! – она села рядом.
– Здравствуй, Барсукова.
Она вздохнула.
Теряев покосился на нее и отодвинулся.
– Как жизнь? – спросила Барсукова.
– Нормально.
– Нормально! – передразнила она. – Не чувствуешь разве: весна.
– Ну и что? – отвернулся Теряев. – Сговорились все…
– Разве ты не замечаешь ничего? – нежным голосом спросила Барсукова.
– Замечаю. Что все начали носами шмыгать! – ответил Теряев и шмыгнул.
– Фу, дурак ты какой-то!
Тут уж Теряев совсем расстроился, и весёлая словоохотливость ему изменила:
– Дура сама, – неумело отозвался он.
Шёл урок. Юная учительница с неустоявшеюся строгостью во взгляде успокаивала ребят:
– Тише, дети, не разговаривайте, сидите молча…
А дети хихикали и шептались.
Тогда Теряев сказал, как бы ни к кому не обращаясь:
– Тише, мыши: кот на крыше кошку за уши ведет. Кошка драна, хвост облез, кто промолвит, тот и съест.
– Теряев! – подняла его учительница.
– Я, – встал Теряев.
– Ты что там бормочешь?
– Я вам помогаю.
– Это как же?
– А чтобы никто не болтал, надо молчанку сказать.
– Кто тебя научил?
– Бабушка.
– Внимание, дети! – сказала юная учительница. – Сейчас Теряев представит нам типичный пример устного народного творчества. Представь, Теряев.
– Сорок амбаров сухих тараканов, – радуясь, сказал Теряев, – сорок кадушек моченых лягушек – кто промолвит, все это съест.
Весь класс захохотал.
– Ну ты даёшь, Теряев! – крикнули с «камчатки».
Теряев не понял, почему над ним смеются, пожал плечами и сел.
Была весенняя распутица, и на остановке застрял троллейбус.
Водитель вывел всех мужчин из салона в грязь, и они все толкали, но машина с места не трогалась.
Теряев бросил портфель на скамейку и тоже пристроился толкать. И тогда троллейбус двинулся.
Все ринулись обратно в салон, а Теряев – за портфелем.
Но двери закрылись, и ему пришлось ехать одну остановку, прицепившись сзади, и сетовать:
– Вот делай после этого добро троллейбусам!
Когда, возвращаясь домой, Теряев подходил к подъезду, к дому подкатил и остановился фургончик с трафаретной надписью на боку: «КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ АТМОСФЕРЫ». С водителем фургона, очень молодым и всегда небритым Витей, у Теряева были приятельские отношения. Витя жил в соседнем подъезде.
– Са ва! – выйдя из фургона, приветствовал Витя.
– Сова! – отозвался Теряев.
Это у них было вроде пароля.
– Ну как? – спросил Витя.
– В смысле?
– Чем пахнет весенний двор, чуешь?
Теряев запрокинул голову, потянул носом и сказал:
– Весенний двор пахнет берёзовыми вениками.
– То-то, – сказал Витя.
– А как там насчет атмосферы? – поинтересовался Теряев, кивая головой в небо.
– В смысле?
– Ну, вообще… Жить можно?
– В пределах допуска. Но пора на электромобилях ездить.
– Не очень-то на них наездишься! Я вот сегодня из школы на троллейбусе… – начал было Теряев, но Витя перебил:
– Слушай, дай рубль до завтра.
– Нету, – сокрушился Теряев. – Завтра у нас пенсия.
Теряев вошел в лифт и нажал кнопку третьего этажа. Лифт пискнул, но ехать отказался.
Теряев опять нажал. Лифт сердито заурчал, но все равно не двинулся с места.
Тут дверь лифта распахнулась, и перед Теряевым предстал Суровый Сосед с первого этажа. Он был в кухонном переднике, с ножом и бледным телом потрошенной курицы в окровавленных руках.
– Так всегда! – закричал Суровый Сосед. – Сперва на лифте катаемся, а потом в подъезде курим! – и он замахнулся на Теряева куриным телом.
Брызнула жидкая птичья кровь.
Перепуганный Теряев ткнул пальцем в бог знает какую кнопку, и лифт, счастливо взвизгнув, не обращая внимания на открытые дверцы, помчался бог знает куда с почти реактивным воем.
Так Теряев оказался возле чердака.
На последнем этаже квартир не было. Там было сумрачно, гулко и пыльно.
Тусклые ступени винтовой лестницы в углу площадки привели Теряева к квадратному люку чердака с огромным, новеньким, блестящим замком.
Теряев его потрогал: замок был ещё в масле.
Во всем этом была какая-то тайна.
После обеда теряевская бабушка мыла посуду.
– Ба! А когда веники режут?
– Надо бы после Троицы. Через три недели. Да не получится. Тебе летом не за вениками ехать, а к родителям. Небось, скучают по тебе.
Теряев пожал плечами.
– Опять же, – говорила бабушка, – не куда-нибудь едешь, а в Африку. Посмотришь, какая она.
– Посмотрю, – согласился Теряев. – Но вот если бы с тобой в Африку поехать. И с Витей. Тогда было бы совсем хорошо… Ба! А моя сестрёнка, которая появилась в Африке, она согласится со мной играть?
– Не думаю. Она ведь ещё очень, очень маленькая.
Теряев вздохнул.
– Ба! Я в прачечную схожу.
– Куда ж ты пойдешь, у тебя еще сапожки не просохли.
– Пойду в ботинках.
– Так ты хоть галоши бы тогда надел.
– Не, галоши не модно.
– Что это ещё за «не модно»! Насмотрелся телевизора. Не пущу без галош!
Теряев исчез за дверью.
Бабушка вытирала посуду. Уронила тарелку в мойку, и та разбилась.
– К счастью, – сказала бабушка самой себе.
Теряев появился: из ботинок широкой каймой виднелся целлофан.
– Это что?
– Галоши наоборот. Внутренние.
– Заболел?
– Может, я первый так придумал, а за мной уж будет такая мода.
– И как же это, по-твоему, называется?
– Авангард.
– Пороть тебя некому. Надевай галоши!
Но след Теряева уже простыл.
Весна совсем уже распоясалась. С крыш капало. По дорогам текло. Сугробы становились немощны и неказисты. Деревья были ещё черны, но уже радовались, предвкушая грядущую жизнь, и махали Теряеву ветками.
Он помахал в ответ.
Теряев шёл себе и шёл из прачечной со внушительным пакетом в руках, пока не услышал:
– Спи, проклятая!
Остановился, оглянулся: у дверей продовольственного магазина стояла девочка с огромными, тёмными, злыми глазами и длинными косами, уложенными над ушами в «баранки». У ног девочки громоздились сумки, раздувшиеся от всевозможных товаров, и игрушечная коляска, которую девочка трясла так яростно, что беззащитная кукла едва не вылетала из коляски.
– Спи, проклятая! – шипела девочка.
Теряев подошел ближе.
Девочка взглянула высокомерно, но увидела целлофановую кайму над ботинками и спросила с любопытством:
– Это чего?
– Внутренние галоши, – сказал Теряев и пояснил: – Авангард.
Девочка не поняла, но на всякий случай обиделась и сказала:
– От такого слышу, – и тут же забыла о Теряеве, выхватила куклу из коляски и шлепнула ее по лбу. – Сил никаких нет. У людей дети как дети, а эта?! Изверг рода человеческого! Не пришей кобыле хвост!
– Не смей бить ребёнка, – сказал Теряев.
– А вы, гражданин, проходите, – процедила девочка сквозь зубы. – Шли себе своей дорогой – и идите.
– Разве так можно с детьми?
– И не встревайте в чужую жизнь! Заведите себе ребёнка и сами воспитывайте.
– Это не воспитание, – возмутился Теряев. – Это просто… просто антигуманное поведение!
– Спи, проклятая! Кому сказано?!
– Вы уродуете неокрепшую детскую душу, – безсильно сказал Теряев. – Вырастет потом из куклы пугало.
– Это я уродую?! Это она мне все нервы вымотает, пока не уснёт.
Отчаявшийся Теряев вырвал куклу из рук агрессивной мамаши и прижал к себе.
Несколько секунд девочка оторопело смотрела на него:
– Тебе чего?
Теряев попятился.
– А ну тихо, стоять! – хриплым голосом сказала девочка, засучивая рукава.
Перепуганный Теряев бросился бежать.
– Верни ребёнка! – неслось вслед.
Девочка было рванулась в погоню, но не осмелилась оставить сумки. Стояла возле них и, глядя на убегающего Теряева, плакала и топала ногой.
Теряев взбежал во двор с куклой и сумкой с продуктами в руках. В окне торчал Витя. Пил чай.
– Что слышно нового? – спросил он Теряева через форточку.
Теряев подумал и сказал:
– Весна.
– Весна – это да! Весной все влюбляются, – мечтательно сказал Витя.
– И ты?
– И я, – застенчиво подтвердил Витя.
– А осенью что все делают? – спросил Теряев.
– А осенью все женятся.
– А зимой?
– А зимой все катаются на лыжах. А летом все едут кто куда.
– Я еду! – радуясь крикнул Теряев. – Я еду, как все люди.
– Куда едешь-то?
– В Африку. У меня же там родители работают. И сестрёнка есть.
– Ну да, – закивал Витя. – Я всё забываю. Везёт человеку. А я все в Малаховку да в Малаховку. Тётка у меня в Малаховке проживает… А как же берёзовые веники? Не поедем за ними?
– Не получается, – покачал головой Теряев.
– Жалко. А чего ты с куклой? Сестрёнке, что ли?
– Может быть, – Теряев посмотрел на куклу. – Этой кукле плохо жилось. Её никто не любил. Пусть живет у меня, пусть в Африку съездит.
Витя далеко высунулся в форточку, посмотрел на куклу и попросил:
– Слушай, Теряев, привези мне попугая.
– Зачем тебе попугай?
– Я с ним говорить буду. Ты мне говорящего привези, ладно?
– А о чем говорить будете?
Витя подумал и сказал:
– Так, вообще. О жизни. О текущей политике. О видах на урожай.
– Я привезу, – заверил Теряев Витю.
К подъезду, скрипя ботинками, подошел и остановился Суровый Сосед с портфелем и зонтиком в руках.
Теряев было приготовился бежать, но Суровый Сосед не обратил на него внимания.
– Вы почему всегда такой небритый? – спросил он Витю.
– Я бороду отращиваю, – признался Витя.
– Так всегда! – крикнул Суровый Сосед. – Сперва бороды отращиваете, а потом… – он вздрогнул, испугавшись собственной мысли, погрозил Вите и шмыгнул в подъезд.
– А что потом? – запоздало крикнул Витя. – Что потом? – спросил он Теряева.
– А потом … суп с котом, – сказал Теряев, не придумав ничего лучшего.
Вечером Теряев смотрел телевизор.
Шла передача «На арене цирка», размалёванные клоуны вытворяли всякие глупости и приставали к зрителям первых рядов. Полагалось смеяться.
Теряев равнодушно смотрел на экран и выбивал ладонями барабанную песню на подлокотниках кресла.
Женщина с толстыми ногами в сверкающем купальнике летала под куполом цирка, крепко вцепившись челюстями в «зубник».
Теряев поморщился от сострадания, но продолжал выбивать ритм.
И тут на экране появился заяц в жабо на короткой шее. Ему подсунули барабан, и заяц самозабвенно замолотил по барабану лапками.
Теряев горестно замер, наблюдая вдохновенное заячье лицо. Ладони Теряева повисли в воздухе, а потом поникли жалко, как сдувшиеся воздушные шарики.
Поздним вечером, когда Теряеву полагалось лежать в постели и смотреть сны, он в своей длинной ночной рубашке сидел на полу в углу комнаты и доводил до немыслимого совершенства жильё куклы. Для этого в ход Теряевым были пущены все возможные и невозможные средства: коробки из-под обуви, зеркальце, сушёная бабочка, деревянная аптечка, кусочек меха (он играл роль ковра), старая бабушкина шляпа, вазочка для цветов, шарикоподшипник, игла дикобраза, спичечные коробки, кокарда от милицейской фуражки, чугунный подсвечник, звонок от велосипеда и прочая, прочая.
Теряев был так увлечен куклиным интерьером, что не заметил бабушку.
– Спать, спать, внучек. Спать пора.
Теряев нырнул под одеяло.
Бабушка присела рядом.
– Откуда такая кукла?
– Её обидели, – сказал Теряев. – Ей было плохо.
– А как её зовут?
– Я не мог спросить. Как думаешь, можно кукле поехать со мной в Африку?
– Думаю, можно.
– Ба, а мой папа только людей в Африке лечит или животных тоже?
Бабушка и внук вместе посмотрели на большой фотографический портрет, висевший на стене. Теряев и его родители.
– Я думаю, твой папа всем помогает, – сказала бабушка.
– Мы с папой обязательно пойдем гулять в тропики. Только надо взять с собой топор. Я читал, что в тропиках очень тесно от папоротников и лиан. Но, в конце концов, можно пойти гулять на слоне, правда? Ба, ты бы хотела пойти гулять на слоне?
– Уж больно вы́соко, – покачала головой бабушка.
– А ещё я читал, что на африканском базаре продают обувь из змеиной кожи, луки, пики и кожаные щиты. Я привезу тебе тапочки из змей, хочешь?
– Боже упаси! Я их боюсь до смерти.
– Ну тапочки-то не кусаются.
– Кто их знает, – сказала бабушка. – Тихий, тихий, а потом как кусанет за палец.
– А ещё есть такие растения, – продолжал Теряев, – хищники. Они едят комаров, мух, мелочь всякую. А в Африке, говорят, из-за благоприятного климата получаются растения-гиганты. Как ты думаешь, если растение – хищник и к тому же гигант, может оно человека скушать?
– Запросто, – сказала бабушка и вздрогнула. – Зачем ты перед сном такие ужасы думаешь?
– А на Малайских островах, – говорил Теряев, – есть летающие ящерицы. Летают себе с дерева на дерево.
– Тьфу, пакость! – сказала бабушка. – И откуда ты всё это знаешь?
– Читал. Но учительница мне сказала, что я набит безполезными, ненужными сведениями. Я безполезный? Я ненужный?
– Нужный, ты очень нужный, улыбаясь, заверила бабушка. – Спи. Утро вечера мудренее.
– Если ящерицы летают, – пробормотал Теряев, – может быть, и перелетные зайцы бывают?
– Бывают, – сказала бабушка. – В этой жизни все бывает.
– Меня вот только очень мучает один вопрос, – бормотал Теряев, – есть ли в Африке мороженое?
– И мороженое, и зайцы, – подтвердила бабушка. – Вот вернешься из Африки, будешь рассказывать, где гулял, что видел, кто тебя кусал, храни тебя бог.
– И про перелётных зайцев, – едва успел пробормотать Теряев и заснул.
Бабушка еще некоторое времени сидела рядом и смотрела на внука, а потом погасила свет.
Теряеву привиделось: задумчивый клин перелётных зайцев, хлопая ушами, летел в небе. \Мультипликация\.
И был день, когда бабушка, Витя и Теряев отправились в аэропорт «Шереметьево-2».
Суровый Сосед с первого этажа видел из своего окна, как Витя нёс теряевские чемоданы и укладывал их в свой фургончик.
– Только не гони, Витенька, – попросила бабушка, усаживаясь рядом с Витей.
– O’кей, – пообещал Витя.
– И куда же мы едем? – поинтересовался Суровый Сосед.
– Да так, – небрежно ответил Витя. – В Африку.
– Так всегда… – начал было Суровый Сосед, но замолчал.
Витя дал газ, и фургончик рванулся, полетел, оставляя позади онемевшего Соседа, отчий дом и бульвары, памятники, аптеки, скверы, гастрономы и мосты.
– Эх, с ветерком! – вскричала бабушка, когда фургончик вылетел за пределы Москвы.
Теряев сидел притихший.
Был аэродром. Гул самолетов, чемоданы, делегации и цветы, сувенирные киоски, лёгкие, голубые стюардессы, яркие проспекты на столиках, негры и японцы, ожидание, объявления отлётов и прилётов на разных языках.
Был таможенный досмотр.
Мужчина и женщина в форме Аэрофлота с решимостью и знанием хирургов потрошили на длинном столе теряевские чемоданы.
Бабушка и Витя волновались за перегородкой, точно они отправляли за рубеж не близкого человека, а партию наркотиков.
Невозмутимый Теряев поднялся по резиновой дорожке под арку контроля. Зазвенело так, что все оставили свои дела и стали смотреть на Теряева.
– Мальчик, – сказала женщина, – у тебя в карманах что-нибудь металлическое есть?
Теряев вышел из-под арки, вынул из куртки и положил на стол фонарик. Вернулся под арку: снова пронзительно зазвенело.
– А ну, выкладывай всё, что есть, – приказал мужчина.
Теряев выложил на длинный стол: компас, зажигалку, рыболовные крючки, магнит, перочинный нож, топор и лупу.
Люди за перегородкой смеялись. Даже таможенники, и те заулыбались.
Когда Теряев, покончив с земными делами, пристегнутый ремнём, с конфеткой во рту, оказался в небе и увидел сверху столицу нашей родины, изгибы её рек, торты высотных зданий, кудрявые лесопарки, он воспринял это как должное. Но само по себе прощание было грустно, и Теряев пробормортал:
– Ладушки, ладушки,
Где были? У бабушки.
Что ели? Кашку.
Что пили? Бражку.
Кашка сладенька,
Бражка пьяненька.
Шу! Полетели…
И был белый город, ослепительный от солнца. Белые дома, белые улицы, столбы пальм с венчиками пыльных листьев в синем, невыносимо чистом небе, люди с угольными лицами и красными ртами, завёрнутые в белые ткани, полицейские в белом на перекрёстках…
Теряев лежал в ванне, в ванной комнате бело-розового кафеля, огромной от зеркал, и умирал от жажды. Бутылки кака-колы стояли на краю ванны. На стиральной машине лежала огромная книга Носова «Незнайка в Солнечном городе». Под потолком висели сестрёнкины пеленки и ползунки, и было слышно даже здесь, в ванной, как в комнате душераздирающе рыдает младенец.
– Это сумасшедший дом какой-то! – кричала за дверью теряевская мама. – Ты намерен когда-нибудь выйти оттуда?
– Не намерен! – отозвался Теряев.
Он поперхнулся кока-колой и подумал, тоскуя:
– Боже мой! Я второй месяц лежу в Африке в ванне и пью эту гадость. Что я скажу бабушке, что я скажу Вите, что я скажу Барсуковой и Волкову, да и всему нашему народу? Что я скажу… – От посетившей его голову мысли ему стало так нехорошо, что он ушёл с головой под воду и уже там, откуда его никто не мог услышать, он закончил: – …несчастной девочке у магазина, если вдруг эта злодейка-судьба снова сведет нас в неурочный час?
Теряев вынырнул, выплюнул лишнюю воду и пробормотал вслух: «Надо срочно что-то придумать!»
«Мужик ты или не мужик?! – послышался ему знакомый девичий голос, и вслед за тем, словно бы тоже сквозь толщу воды, поблазнилось суровое личико девочки, – сделай же что-нибудь!»
«Что я могу?!» – взмолился Теряев.
«Мужчины должны иногда совершать мужественные поступки!» – прозвучало снова как из облака.
«Но я еще мальчик, я маленький…»
«Ты никогда не станешь взрослым, ты никогда не станешь пионером, если будешь таким размазней!»
«Стану!» – вскочил Теряев.
В дверь постучали:
– Сынок, ты в порядке? Скоро ужин! Смотри там, не превратись в крокодила!
– Ещё минуточку, мамочка, еще немного, – и наш герой снова погрузился в воду и в свои отчаянные думы. И тут, под водой, смело открыв глаза, он увидел себя, наконец, верхом на самом настоящем крокодиле, плывущем, судя по соответствующей табличке на берегу, по реке Лимпопо. Вокруг его крокодила, мягко скользящего вниз по течению, сновали маленькие крокодильчики с зелёными галстуками на шее*. Это был настоящий праздник для страдающей теряевской души, но…
Снова в глазах потемнело, когда в прибрежных зарослях Теряев увидел отряд браконьеров во главе с неприятным типом, показавшимся ему знакомым.
– Чёрный человек! – чуть не захлебнувшись, выкрикнул, выныривая из воды, Теряев и тут же снова погрузился в воду…
Браконьеры молча обменивались знаками, которые не оставляли сомнения в их намерениях, и всеми командовал этот, с чёрным зонтиком в жилистых руках.
– Дети мои, – прохрипел Крокодил, у которого от волнения пропал на минуту голос, – кро-ко-диль-чики мои…
Теряев окаменел: в главном браконьере он узнал Сурового Соседа с первого этажа. Правда, он очень загорел и был одет в «сафари», но то же зловещее выражение лица, та же бедность мысли в глазах, те же усы! Нет! Память не изменила Теряеву.
– Так всегда! – крикнул Суровый Браконьер. – Сперва на свободу рвемся, а потом сами же людей лопаем.
– Нет, – покачал головой теряевский крокодил. – Я бы этого типа скушать не рискнул. Еще отравишься, в больницу попадешь.
– Помолчи, Бога ради, – попросил Теряев. – Дай сосредоточиться. Надо подумать, как их спасти.
– Этого с карабином я беру на себя, – сказал крокодил. – Он мне по вкусу.
– Только без людоедства! Надо с ними по-человечески поговорить, объяснить. Они же люди, поймут.
Между тем Суровый Браконьер и с ним еще один отправились с поляны туда, где у них, судя по всему, была западня.
Теряев поспешил за ними.
– Теряев, не будь таким наивным, – сказал крокодил ему вслед.
Но Теряев уже не слышал.
Браконьеры устроили западню в маленьком заливчике у подножия баобаба. Теряев, спрятавшийся за баобабом, видел, как они опустили в воду огромный сачок так, что он стал не виден. Потом Суровый Браконьер надул резиновую лягушку и в ожидании уселся на ствол поваленной пальмы. Другой браконьер спрятался здесь же. Ждали они недолго: маленькие крокодильчики выплыли из-за поворота реки. Они плыли по течению и играли с разноцветным мячом.
– А вот лягушата! – базарным голосом завопил Суровый Браконьер. – Свежие лягушата! Отдам самому смелому крокодильчику. Тому, который не побоится за руку со мной поздороваться. Кто самый смелый? – и он, соблазняя, размахивал в воздухе фальшивой лягушкой.
Крокодильчики посмотрели на неё и облизнулись.
Один юный честолюбивый крокодильчик сказал:
– Я очень смелый. Я страшно смелый. Но здороваться за руку со всяким проходимцем из-за какой-то лягушки я считаю ниже своего достоинства.
– Ну и трус. Примитивный, скучный трус. Один из многих трусов, – сказал Суровый Браконьер и заголосил: – А вот лягушата! Свежие лягушата!
– Ты у меня сейчас сам её слопаешь! – крикнул честолюбивый крокодильчик и поплыл в залив.
Едва он приблизился к берегу, как браконьеры выхватили свой сачок из воды, и крокодильчик оказался в сетке.
– Ты, конечно, самый смелый, – сказал Суровый Браконьер, – но ты и самый глупый. И за это тебя так жестоко наказывает судьба. В моём лице.
– Мама! Ой, мамочка моя! – заплакал крокодильчик.
Тогда Теряев вышел из-за баобаба и строго сказал:
– Вы не имеете права нарушать биологический баланс природы!
От неожиданности браконьеры уронили сачок в воду.
Крокодильчик выбрался из сетки и пустился наутёк по течению.
– Чтоб тебя, – крикнул ему вслед Суровый Браконьер и обернулся к Теряеву. – А тебе чего, мальчик? Какого тебе баланса ещё нужно?
Теряев, видя, что остался не понят, уточнил:
– Сафари на малолетних крокодилов запрещено!
– Я знаю, – сказал Суровый Браконьер.
– Это жестоко! – недоумевая, крикнул Теряев. – Это безчеловечно – пользоваться доверчивостью детей. Я обращаюсь к вашей совести…
– А я бессовестный, – сообщил Суровый Браконьер. – Мне и без совести комплексов хватает. Давай проверим: на твоей стороне совесть, на моей стороне – сила; посмотрим, чья возьмёт.
И коварные браконьеры накинули сачок на наивного Теряева. Он запутался в сетке и упал.
Браконьеры набросились на него. Тут бы пришел Теряеву конец, но из кустов, задыхающийся и бледный от волнения, выскочил теряевский крокодил, размахивая над головой карабином.
– Лапы за голову! Лицом к баобабу! – крикнул он.
Браконьеры покорились.
Крокодильчики, бывшие пленники, высыпали на поляну, как горох, из-за спины теряевского крокодила, вынули Теряева из сачка и затеяли вокруг него счастливый хоровод.
– Так всегда, – пробормотал Суровый Браконьер.
Теряев, глядя на крокодильчиков, тоже развеселился. Он плясал в кругу хоровода и пел:
– Крокодильчики мои,
Цветики речные,
Что глядите на меня,
Прямо как родные?
Это кем хрустите вы
В день весёлый мая?
Средь нескушанной травы
Головой качая!..
– Сколько можно мокнуть в воде?!
Теряев очнулся. Он лежал в ванне и в задумчивости проливал в воду кока-колу.
– У тебя скоро жабры вырастут, – предупредил из-за двери теряевский папа.
– Папа, давай поедем в джунгли, – попросил Теряев.
– Только джунглей мне и не хватает! Вкалываешь целый день, как проклятый, а в собственном доме холодную ванну принять нельзя.
– Папа! – трагическим голосом сказал Теряев. – Папочка! Уже август. Я тебя умоляю, пожалуйста, купи мне попугая. Я не могу вернуться без попугая в Москву.
Теряевский папа довольно долго молчал. В тишине был слышен душераздирающий сестрёнкин плач. Потом папа сказал:
– Даю тебе честное африканское слово – я непременно куплю тебе попугая.
…Успокоенный Теряев поплыл дальше через джунгли по мутной воде далёкой африканской реки на своём крокодиле:
– Свистит, и гремит, и грохочет кругом,
Гром пушек, шипенье снарядов.
И стал наш безстрашный и гордый «Варяг»
Подобен кромешному аду…
Крокодил подпевал без слов, пуская по воде пузыри.
За крутым поворотом реки открылся песчаный берег. На берегу в землю был врыт столб с надписью на доске: «СТОЯНКА ПЛЕМЕНИ ПИГМЕИ 200 МЕТРОВ».
Теряев с крокодилом выбрались на берег и пошли навестить племя.
Женщины племени копошились по хозяйству среди шалашей: солили на зиму бананы, перетирали на камнях кофейные зерна, доили буйволиц.
Дети играли в войнушку.
Очень молодой воин Мо-Ни-То стоял на холме у там-тама боевой тревоги с луком и колчаном, полным стрел. Он помахал Теряеву рукой.
Теряев махнул в ответ и крикнул всем:
– Приветствую тебя, о мирное племя! Где твои воины?!
– Приветствуем тебя, о Теряефф! – сказало племя. – Наши воины отправились вести междоусобные войны.
– И как им не надоест, – вздохнул Теряев. – А где ваш старейший Та-Бу-Шиш, о мирное племя?
– Там, под кустом, о Теряефф. Он постигает мудрость мира.
Старейший Та-Бу-Шиш постигал мудрость мира, сидя под кустом, смотрел в небо и щелкал семечки.
– Приветствую тебя, о старейший Та-Бу-Шиш, – сказал Теряев и сел рядом.
Старейший Та-Бу-Шиш, приветствуя Теряева, опустил морщинистые, как кора дерева, веки.
Подскочила юная негритянка в кружевной набедренной повязке, смахнула пальмовым листом пыль с плоского камня.
– Кофе, какао, кокос?
– Кокос, – сказал Теряев. – Не полагаешь ли ты, о старейший, что пора прекратить междоусобные войны?
Старейший Та-Бу-Шиш вопросительно приподнял брови.
– Твои воины погибают в этих войнах, а на земле слишком много других забот, ей нужны добрые, умные, здоровые люди.
Старейший Та-Бу-Шиш пожал плечами.
Раздался странный звук, похожий на вскрик человека.
Теряев и буйволицы прислушались, но было тихо.
– Сам подумай, о старейший, – продолжал Теряев, – какой смысл в ваших войнах? Ты когда-нибудь…
Но старейший Та-Бу-Шиш вдруг начал медленно валиться на Теряева. Теряев поддержал его.
– Что с тобой, о старейший? – и увидел, что Та-Бу-Шиш мертв; на его впалой груди было черное пулевое отверстие, из которого текла кровь.
Теряев вскочил. Он увидел: у там-тама боевой тревоги лежит очень молодой воин Мо-Ни-То со стрелой, торчащей из живота.
– Все назад! – закричал Теряев, но было поздно; коварные белые колонизаторы уже захватили стоянку племени Пигмеи. Они были на мотоциклах и все, как один, в шортах, белых рубашках и пробковых шлемах.
Теряев бросился в джунгли и затаился.
Белые колонизаторы энергично порабощали мирное племя. Они связывали руки женщин и детей, а потом еще связывали их верёвками за шеи. Они опрокидывали котлы, били банки с солёными бананами, срывали с женщин украшения, разворовывали шкуры диких животных и другие предметы бедного быта мирного племени Пигмеи.
А руководил всем этим безобразием старый теряевский знакомый – безсовестный Суровый Колонизатор.
– Надо придумать, как их спасти, – пробормотал Теряев.
Между тем, белые колонизаторы увозили награбленное имущество и уводили в рабство стенающих пленников.
Выждав, пока печальный кортеж отдалится от места стоянки, Теряев выскочил из своего укрытия и бросился вверх, на холм. Песок оползал под его ногами. Жаркий пот, ослепляя, стекал по лицу.
Но мужественный Теряев взобрался на вершину холма и принялся яростно и вдохновенно выбивать на там-таме тревожную песню. Он бил в там-там с недетским отчаянием и страстью.
И воины мирного племени Пигмеи, заслышав тревожный голос там-тама, прекратили безсмысленную междоусобную войну и, примчавшись к родному дому, найдя его в виде весьма плачевном, пустились в погоню за белыми варварами.
Воины настигли врагов среди равнины. И грянул бой!..
С холма Теряев наблюдал тревогу и волненье битвы, предвидя гибель и победу.
Коварные колонизаторы безславно бежали с поля боя, бросая пленников, трофеи и раненых товарищей.
– Но близок, близок миг победы, – закричал Теряев, —
Ура! Мы ломим; гнутся шведы.
О, славный час! О славный вид!
Ещё напор – и враг бежит…
* * *
…Теряев стоял уже не на песчаном холме знойной Африки, а в Москве, в школе, в мальчишеской уборной. Ученики первого и второго классов восторженно слушали его.
Теряев говорил:
– И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Как роем черной саранчи…
– И всё ты врешь! – сказал рослый восьмиклассник, куривший у замазанного наполовину белой краской окна. Он курил сигареты без фильтра и иногда сплёвывал на пол попавший в рот табак.
– Курить надо меньше, – сказал Теряев.
– А у нас математичка курит, – захихикал вертлявый шестиклассник, списывавший на подоконнике домашнее задание.
– У нее личная жизнь рухнула, – объяснил восьмиклассник. – Я сам слышал, как секретарша сказала директорше, что математичку физик бросил, и она махнула на себя рукой. А ты, Теряев, если не врёшь, объясни, как это ты был в Африке и такой незагорелый вернулся?
– А Теряев – он и в Африке Теряев, – захихикал вертлявый шестиклассник.
Все с ожиданием посмотрели на Теряева.
– Это потому, – сказал всем Теряев, – что в Африке летом загорать нельзя. Это вам не какой-нибудь Крым. В Африке слишком интенсивное солнечное излучение. Если бы не излучение, я бы позагорал. А там мне всё лето пришлось ходить в бубу.
– В чём? – поднял голову шестиклассник.
Но тут дверь уборной скрипнула, и женский голос сказал:
– Мальчики, вы что, звонка не слышали?
– Сейчас, Марь-Максимна, – страдающий голосом отозвался шестиклассник, шумно разрывая на части тетрадный лист.
А Теряев с грохотом спустил воду в унитазе.
– Извини, – сказала учительница и закрыла дверь.
– Бубу, – объяснил Теряев, – это такая одежда – просторные штаны и рубаха. Даже мою сестрёнку, и ту приходилось одевать в бубу. У меня в Африке есть сестрёнка. Страшно меня любит. Мы с ней всегда вместе гуляли. И вот однажды гуляем мы в тропиках и видим…
…Теряев, одетый в бубу, гулял в джунглях с сестренкой. Он нёс ее на руках. Иногда останавливался, чтобы показать ей особенно красивый цветок или особенно красивую бабочку на цветке.
Теряевская сестрёнка была вдумчивая, тихая девочка. У неё был только один, простительный для её возраста, недостаток – она норовила сунуть в рот всё, что так или иначе привлекало её внимание: цветок или бабочку, или хвост пробегавшей мимо обезьяны, или ухо Теряева. При этом сестрёнка говорила только одно слово – «дай».
– Дай! – сказала сестрёнка, указывая на заросли бамбука.
В зарослях бамбука сидел грустный, крошечный, как теряевская сестрёнка, бежевый кенгурёнок и пытался жевать бамбук.
– Ты чей же будешь? – спросил Теряев.
Кенгурёнок промолчал.
– Мама твоя где?
Кенгурёнок молча протянул Теряеву слабые лапки.
– Разберёмся, – сказал Теряев и взял кенгурёнка на руки.
Так он и шёл по тропикам – с сестрёнкой на одной руке и с кенгурёнком на другой, пока не добрался до реки. Пока Теряев шёл, сестрёнка и кенгурёнок подружились и затеяли игру в «ладушки».
А на берегу реки расположились позагорать мамы-кенгуру с кенгурятами.
Теряев подкрался поближе, положил сестрёнку на траву и, подняв кенгуренка над головой, чтобы его все увидели, громко сказал:
– Женщины! Чей ребенок?
Что тут началось! Кенгуру, заметив человека, засуетились, замельтешили, хватая детей и унося от греха подальше.
Теряев с ужасом увидел, как одна рассеянная, но темпераментная кенгуру в панике схватила теряевскую сестрёнку, запихнула в сумку и помчалась следом за своими подругами. Теряевская сестрёнка почему-то не возражала.
– Отдай ребенка! – крикнул Теряев и бросился за кенгуру, не выпуская из рук найденного кенгурёнка.
Теряев бежал, не разбирая дороги, через тропики и саванны, мимо оазисов и пирамид, сквозь…
\мультипликация\
– Кончай ваньку валять! – перебил рослый восьмиклассник, сплевывая на пол табак. – Никаких кенгуров в Африке нету.
– Кенгурей, – неуверенно поправил шестиклассник.
– Кенгурей или кенгуров, а в Африке их нету.
– Почему? – холодея, спросил Теряев.
– Не помню. Чего-то там у них с океаном получилось такое, что кенгуру только в Австралии остались.
– Этого не может быть, – прошептал Теряев.
– Может или не может, а врать ты здоров!
Ученики первого и второго класса смотрели на Теряева, надеясь, что он возразит.
Но Теряев молчал.
– Атас! Физик идет! – крикнули в уборную из коридора.
Дома убитый горем Теряев стоял перед зоогеографической картой.
На карте Африки были нарисованы львы и леопарды, слоны и зебры, носороги и бегемоты, жирафы и обезьяны, но кенгуру там не было. Они были нарисованы только на карте Австралии.
Большой белый попугай, сидевший на подоконнике, перелетел к Теряеву на плечо.
– Видишь, – сказал ему Теряев, – в Африке нет кенгуру.
Попугай посмотрел на карту, но ничего не сказал.
Вошла бабушка:
– Господи, Боже мой! Что с тобой? Что ещё стряслось?
– Ты знаешь, в Африке совсем-совсем нет кенгуру.
– Зачем же так расстраиваться? Конечно, очень грустно, что в Африке нет кенгуру, но, поверь мне, это не самое страшное в жизни. И потом, может быть, в африканских зоопарках есть кенгуру.
– Зоопарк меня не устраивает, – покачал головой Теряев. – Мне нужны свободные животные.
– Это сложнее, – согласилась бабушка.
Когда Теряев вышел во двор с попугаем на плече, из своего подъезда как раз вышел Витя. Витя был в элегантном костюме, в белой рубашке, галстуке-«бабочке», с шикарным букетом противоестественных размеров, но всё так же небрит:
– Са ва!
– Сова! Я, как обещал, привёз тебе попугая. Его зовут Август.
– А он говорящий? – осведомился Витя.
– Вообще-то он говорящий, – неуверенно сказал Теряев, – но очень молчаливый. Зато Август много думает.
– А о чём он думает? – заинтересовался Витя.
– Наверное, он постигает мудрость мира.
– Извини, Теряев, – сказал Витя, посмотрев виновато, – понимаешь, так получилось, что говорящий попугай мне уже не нужен. Ты извини меня.
– Ну что ты! О чём речь. А что у тебя случилось? Ты купил собаку?
– Вроде того, – сказал Витя. – Я женюсь.
– Ну да, конечно! – вспомнил Теряев. – Осенью все женятся.
– Я сейчас иду делать предложение руки и сердца. Я хорош собой, как ты думаешь?
– Ты очень хорош!
– Пожелай мне чего-нибудь, – попросил Витя.
Теряев потер подбородок, задумчиво глядя на вечную Витину небритость, и сказал:
– Совет вам да любовь!
– Спасибо, – сказал Витя.
Шел классный час.
Юная учительница сидела за последней партой, временно сняв с себя власть руководителя и передав её председателю совета отряда Барсуковой, энергичной девочке с волевым лицом и безпощадными, как сама правда, глазами. Той самой, что сидела как-то с Теряевым на бульваре.
Теперь Барсукова сидела за учительским столом и смотрела на радостного Теряева, стоявшего возле своей парты.
– Скажи нам, Теряев, почему ты хочешь вступить в ряды пионерской организации?
Он ответил сразу:
– Я хочу идти впереди отряда и играть на барабане.
Ученики заулыбались. Учительница тоже.
– Подобный ответ я и ожидала от тебя, Теряев, – с сожалением сказала Барсукова. – Он в полной мере характеризует твоё отношение к жизни. Мы все знаем, что Теряев учится неплохо, хотя и очень неровно. Общественные поручения он в принципе выполняет, но относится к ним, как к какой-то игре, то есть без должной серьёзности. Я не хочу вспоминать о том, как мы всем классом ходили в зоопарк, и Теряев залез в вольер к верблюдам…
– Я хотел потрогать верблюжий горб, – виновато сказал Теряев.
– Все хотят потрогать верблюжий горб, но ведь никто не нарушает общественного порядка. Я не хочу вспоминать и о том, что Теряев водит странные знакомства, вроде какого-то вечно небритого элемента, который ломает деревья в лесу…
– Витя никакой не элемент! – крикнул Теряев. – А небритый он потому, что бороду отращивает. Мы с Витей ходим в баню, но на улице берёзовый веник полтинник стоит, дубовый – семьдесят, а в самой бане вообще рубль. Поэтому Витя ходит за вениками в лес! – кричал Теряев, чувствуя, как рушится его мечта о барабане. – И деревьев он не ломает. Лесник показывает, где можно ветки брать…
– Я не хочу вспоминать о том, что Теряев плохо воспитан и всё время меня перебивает. Мне достаточно вспомнить глупую историю с Африкой, когда Теряев морочил головы учащимся младших классов. Во что ты превратился, Теряев? Неужели ты до сих пор не понимаешь, что врать нехорошо? – переживая, спросила Барсукова. – Ты, Теряев, это брось. Быть настоящим пионером – это не значит идти впереди и бить в барабан. И пока ты этого не поймешь, мы не можем, мы просто не имеем права, как бы хорошо мы к тебе ни относились, принимать тебя в пионеры. Я считаю, что надо дать Теряеву срок.
– Не понял, – сказал Теряев.
– Ну, хотя бы до конца первой четверти. Пусть Теряев осознает свои ошибки и исправит их. И зря ты, Теряев, обижаешься, – расстроенно добавила Барсукова, – зря смотришь в окно. Ведь это для твоей же пользы! Ты же сам потом спасибо скажешь!
– Спасибо, – сказал Теряев, сел и отключился от окружающей жизни.
Барсукова еще что-то говорила, а за окном никак не кончалось лето, ветер гонял пыль и было много солнца.
Теряев шёл по улице со своим приятелем Волковым и приговаривал:
– Тень, тень, потетень!
Выше города плетень.
Воробьи – пророки
Шли по дороге,
Нашли книгу,
В этой книге:
Зюзюка, зюзюка,
Куда нам катиться?
– Что ты расстраиваешься? – сказал Волков. – Было бы с чего! Да Барсучиха сама хороша: в комсорга из восьмого «Б» втрескалась – вот и лезет из кожи вон, лишь бы рядом с ним в президиуме посидеть. А чёрных кошек, между прочим, боится! Я видел: через левое плечо плевала и вокруг себя три раза поворачивалась.
Теряев заметил: в пустом сквере, на лавочке, глядя вверх, сидела девочка с огромными, тёмными, печальными глазами и длинными косами, уложенными над ушами в «баранки».
Теряев остановился.
– Да ты на остальных посмотри, – говорил Волков. – Ситников все контрольные списывает. Дадыкин вообще спит на уроках, а Тимаченко мало, что врёт безсовестно и постоянно, так она ещё иногда с крашеными ногтями ходит. И ничего, приняты в пионеры, и тебя примут. Куда они денутся?
– Ты извини, – сказал Теряев, – меня ждут. У меня свидание.
– У тебя?!
– У меня, – и Теряев пошёл к девочке в сквере.
Волков еще некоторое время стоял, разинув рот от удивления и приглядываясь к девочке.
– Добрый вечер, – сказал Теряев. – Можно я рядом сяду?
– Присаживайся, – буркнула девочка, взглянув искоса.
Теряев сел. Девочка все смотрела вверх. Он тоже посмотрел, но ничего особенного не увидел.
– Как тебя зовут?
– Ирка.
– Дырка, – вырвалось у Теряева. – Прости, – смутился Теряев, – вырвалось. И, поскольку девочка нахмурила брови, добавил: – Вообще-то ты не Ирка какая-нибудь, а Ирина, Ира… А меня Теряевым зовут, – и он протянул ей руку.
Ира усмехнулась, но руки не подала.
Помолчали.
– А меня в пионеры не принимают, – сказал Теряев.
– Тоже мне беда! – фыркнула Ира. – Соверши чего-нибудь героическое – сразу примут.
– Что я могу? – сказал Теряев.
– Детей среди бела дня на улице отнимать можешь?
– Понимаешь… – встал Теряев.
– Понимаю. Садись! Тоже мне!
Теряев сел и стал виновато чертить носком ботинка песок у лавочки.
– Ты куда пропал-то? Уж всякую надежду потеряла.
– Я в Африку ездил.
– В Африку?!
– Да-а, – поморщился Теряев.
– Ну, правильно, – скрипнула зубами Ира и смахнула с носа злую, холодную слезу. – А я все лето в лагере сидела, а и то спасибо – будьте любезны. Люди, люди! – она снова взглянула на Теряева. – А в Африке звёзды хорошо смотреть?
Теряев не понял вопроса и пожал губами.
– Ты хоть вспомнил меня или нет?
– Вспомнил. Я хотел твою куклу с собой в Африку взять, а потом… передумал, потому что…
– Ладно, замолчи уж! Ни одного разумного слова от тебя не дождёшься. Тоже мне. А сам туда же – перевоспитывать! В пионеры его не принимают! Жалкий ты человек, Теряев. И фамилия у тебя жалкая, – Ира поёжилась от вечерней сырости и обхватила себя руками за плечи.
– А ты чего домой не идёшь? – спросил Теряев.
– У меня день рождения. К нам гости пришли.
– Я тебя поздравляю! Что же ты не с гостями? Они обидятся.
– Нужна я им! Они к родителям пришли… Век бы их не видела! Гости называются. Набились, как сельди в бочку, надрались и поют.
– О чём поют?
– О том, что ромашки спрятались и поникли эти самые, как их…
– Я понял, – сказал Теряев. – А у твоей куклы своя комната, и стол, и книги, и камин, и шкура на полу. Лютики…
Ира искоса взглянула на Теряева.
– Как же её теперь зовут?
– Пока никак не звали, – сказал он. – Теперь назову Ирой.
Ира в первый раз с неба на землю опустила голову и посмотрела прямо в глаза Теряеву, неожиданно покраснела и сказала по возможности небрежно:
– Ну, ну. Валяй.
– Что ты всё время вверх смотришь?
– На небо смотрю.
Теряев тоже посмотрел, но опять ничего особенного не увидел.
– А что там такое?
– Скоро звёзды зажгутся, – удивленно сказала Ира. – Ты что, никогда не смотришь на звёзды?
Теряев поднял голову и замер.
Ира смотрела на Теряева.
– Если забраться на чердак, – сказала она, – звёзды лучше видно. Но у меня дома нет чердака.
– У меня есть чердак! Только он всегда заперт.
– Ну! Замок – это не проблема.
И они посмотрели друг на друга, как заговорщики.
– Лезем? – спросила она.
– Лезем, – сказал он.
Они встали и пошли.
– Твои родители волноваться не будут? – спросил Теряев.
– Да я помру, они не заметят. Им даже легче будет. Расходов меньше, – пояснила Ира. – Мама говорит, я им в копеечку встаю. А твои будут волноваться? Ты им тоже в копеечку?..
– Не…Я с бабушкой живу. Я её предупрежу, что погуляю подольше – и всё. Про чердак ей говорить нельзя. Бабушка нас одних не пустит, вместе с нами полезет, а она старенькая, ей трудно.
– Потрясная у тебя бабка! – завидуя, изумилась Ира. – Моя мамаша истерику бы закатила – и все дела, – и Ира подобрала с асфальта железную ржавую палку. – Пригодится.
Они вышли из лифта на последнем этаже теряевского дома.
– Вон он, – кивнул Теряев на винтовую лестницу.
Ира мигом взлетела по лестнице.
– А чердак-то открыт! – сказала она сверху, слетела так же быстро, как взобралась, и вцепилась в Теряева. – Там кто-то есть! Как думаешь? А кто там может быть, а? Леший, да? Как думаешь?
– Лешие только в лесу живут, – со знанием дела объяснил Теряев. – В домах живут домовые. На худой конец, привидения.
– Привидение, привидение! Это оно! Я чувствую!
– Разберёмся, – сказал Теряев и пошёл.
– Может, в другой раз?
– Подожди меня здесь.
– Нетушки! Мне без тебя страшно.
Когда проникли на чердак через люк, они обнаружили неяркий свет в глубине, за балками, шорохи и стуки. Теряев и Ира медленно, осторожно, держась друг за друга, стали продвигаться на свет.
Это горела толстая, белая, заплывшая воском свеча в консервной банке на столе, совершенно скрытом под обилием книг, брошюр, тетрадей. У стола стояло привидение, большое, чёрное, в ватнике, валенках и вязаной шапочке на голове.
– Привидение, а привидение, – позвала Ира и на всякий случай подняла палку, приготовившись ударить.
Привидение вздрогнуло так, что уронило под стол очки с розового носа, и жалобно попросило:
– Ребята, только, пожалуйста, ничего не ломайте!
Теряев поднял очки, отдал их привидению:
– Зачем нам что-то ломать?
– Не знаю. Многие любят ломать.
– Мы не любим, – заверила Ира. – А что ты здесь делаешь?
– Я – астроном. Наблюдаю перемещение планет. Только, пожалуйста, не надо надо мной смеяться.
– Разве это смешно? – удивился Теряев.
– Многие смеются, – астроном вздохнул. – Одиноко жить.
– И тебе? – спросила Ира.
– Я толстый. Я в очках. Я рыжий, я… – он снял вязаную шапочку, чтобы показать, какой он рыжий.
– Ты похож на Карлсона, который живет на крыше, – сказала Ира. – В натуре.
– Очень дразнят? – посочувствовал Теряев. Он рассматривал карты на столе. Это были карты звёздного неба.
– Не очень. Но всё время дают понять, что я не такой, как все.
– А ты им в морду! – посоветовала Ира.
– Я не могу! Это неэстетично… Пожалуйста, осторожнее! – попросил Карлсон Теряева, обнаружившего и рассматривавшего телескоп у окна:
– Можно я в него посмотрю?
– Ты ничего не увидишь. Ещё слишком светло.
– Я пока на Землю посмотрю.
– На Землю? – удивился Карлсон. – Тогда тебе лучше взять бинокль. Но что интересного может быть на Земле?
Теряев рассматривал в бинокль Землю. Он увидел Волкова, поедавшего мороженое на лавочке на бульваре; старушку, прогуливающую петуха на веревочке; Сурового Соседа, который пытался выгнать со двора двух собак, теряевских друзей, а собаки только бегали от соседа, но со двора не уходили, и Сосед злился.
Теряев увидел коляску на балконе, в которой благим матом орал младенец, а на балкон никто не выходил; чахлое деревце, прорастающее среди железа.
Между тем Ира разговаривала с Карлсоном.
– Ты занимаешься в астрономическом кружке?
– Я – астроном-одиночка. У нас в школе только кружок бальных танцев…
– Это красиво, – пробормотала Ира. – Все во фраках.
– А в старшие классы на уроки астрономии меня не пускают. Говорят, подрасти сперва.
– А там на крыше растет берёза, – сказал Теряев.
– Семена ветром заносит, – объяснил Карлсон.
– Плохо ей.
– Это ненадолго.
– В смысле?
– Погибнет. Берёза в железе жить не сможет. Чуждая среда.
– И что же делать? – расстроился Теряев.
– А что тут сделаешь? – пожал плечами Карлсон. – Ничего не сделаешь.
– Это что за мужчина? – спросила Ира, остановившись перед портретом, прикнопленным к балке.
– Галилео Галилей.
– Почему здесь так вкусно пахнет? – спросил Теряев. Он давно уже принюхивался.
– Кондитерская фабрика «Красный Октябрь», – объяснил Карлсон, – за рекой.
– Вот бы туда попасть! – сказала Ира.
– А сюда вы зачем залезли?
– Увидеть звёзды, – сказал Теряев.
– Они красивые, – поддержала Ира. – Белые-белые.
– Они не белые, – возразил Карлсон. – То есть бывают и белые, но в основном цветные.
Теряев отвернулся и стал смотреть на небо.
– Например, Спика – голубая, – рассказывал Карлсон. – Антарес – красный, Поллукс оранжевый, Капелла жёлтая, а Альфа Гончих Псов вообще лиловая.
– Полный потряс! – сказала Ира. – Теряев, ты слышишь? Теряев? Да Теряев же!
– Я слышу, – сказал Теряев задумчиво. – Слышу.
Ночью Теряев не спал. Он сидел у окна и смотрел на звёздное небо.
Попугай Август прилетел на подоконник. Тоже стал смотреть на звёзды.
– Ты знаешь, – сказал Теряев. – Они все разноцветные. И вообще там происходит какая-то своя, совершенно особая жизнь.
Август посмотрел на Теряева с интересом, но ничего не сказал.
Теряев с Августом кормили собак у подъезда, когда к дому подкатил и остановился фургончик «КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ АТМОСФЕРЫ».
– Са ва! – поприветствовал Витя.
Теряев посмотрел на него и замер: Витя был чисто выбрит.
– Это ты… что? К свадьбе, да?
– Свадьбы не будет, – грустно сказал Витя. – Она меня послала в парикмахерскую. Побрейся, говорит, сначала, тогда я подумаю. И я хлопнул дверью. Сначала побрейся, потом норковое манто подавай.
– Зачем же ты побрился?
– Из принципа. Дело не в бороде. Мне побриться – раз плюнуть. Однако, грустно. Понимаешь? Что мне теперь в этой жизни делать, ума не приложу. Слушай, у тебя рубль есть?.. Эй, Теряев, очнись.
Теряев очнулся и сказал:
– Тебе в этой жизни надо слазить на чердак.
– Кошек пугать, что ли?
– Зачем? На звёзды смотреть.
– На звёзды?.. Можно и на звёзды. Мне теперь всё равно.
Вечером они собрались на чердаке впятером: Ирина, Виктор, Карлсон, Август и Теряев. Сидели на скате крыши в ожидании темноты.
Теряев переворачивал страницы толстой книги, иногда принюхиваясь к сладкому запаху кондитерской фабрики. Ира глазела в бинокль.
– А гороскопами ты тоже увлекаешься? – спросил Витя Карлсона.
– При чем здесь это? – обиделся Карлсон. – Все на научной основе. Я наблюдаю планеты, звёзды, туманности. Знание обогащает.
– А там, за розовыми занавесками, – сообщила Ира, – женщина красоту наводит. Разрисовалась-то, разрисовалась, старая курица.
– Ты кометы видел? – спросил Витя.
– Видел.
– Вот так просто сидишь всю ночь и ждешь, когда полетит?
– Зачем? Много известных комет с вычисленными орбитами. Вот, например, чешский астроном-любитель Биэла знал орбиту кометы, замеченной в тысяча семьсот втором году. Он вычислил, где и когда её можно ждать снова, и открыл комету в тысяча восемьсот двадцать шестом году.
Витя долго считал, потом удивился:
– И этот Биела пятьдесят четыре года ждал одну комету? Всю жизнь?
– Нет, конечно. Её впервые заметил другой человек. Одной жизни не хватит. За небесными телами следят столетиями, тысячелетиями. Астрономы как бы передают друг другу из века в век эстафету познания.
– А у этих, – крикнула Ира, – с оранжевым абажуром, блины сгорели. Ругаются! Страсть.
Теряев забрал у Иры бинокль и отдал ей книгу.
– Почитай лучше. Нечего за людьми подглядвать.
– А сам-то?!
– Я не подглядываю. Я смотрю.
– Нет! – сказал Витя Карлсону. – Ты всё-таки объясни мне, как этот мир устроен?
– Очень просто, – сказал Карлсон.
– До чего вы все умные, – вздохнула Ира. – С вами со скуки сдохнешь.
– Молчи, женщина, – сказал Витя. – Тебе нас не понять.
Карлсон нарисовал мелом на крыше нечто, похожее на веретено.
– Это наша Галактика. Вид в разрезе. Вот здесь мы. – Он показал почти самый конец «веретена».
– В смысле – Земля? – уточнил Теряев.
– Нет. Вся наша Солнечная система.
– Вот тут вот с краю?! – возмутился Витя. – У чёрта на куличиках?!
– Наша система, – говорил Карлсон, – вращается вокруг центра Галактики со скоростью около двухсот километров в секунду.
– Не может быть! – воскликнула Ира.
– На один оборот у нас уходит двести пятьдесят миллионов лет.
– Сколько? – удивился Теряев.
– Двести пятьдесят миллионов лет.
– Ты слышишь, Август? – Теряев оглядел множество крыш, покатых и пологих, золотые шары церковных куполов, пожарные лестницы и чердачные окна, тёмные трубы и тяжёлые двери, застеклённые балконы. Надо всем этим было лёгкое, свободное, огромное небо.
– Господи, какие мы маленькие, – прошептал Теряев.
– А вот здесь написано, – сказала Ира, указывая на книгу, – что есть астероид Витя.
– Что?! Как?! – Витя вскочил так внезапно, что Теряев в страхе ухватился за него и вскрикнул.
Ира прочитала:
– «…Таковы астероиды тысяча тридцатый Витя и тысяча триста тридцатый Спиридония, названные так в честь юного пулемётчика Виктора Заславского и его дяди, черноморского моряка Спиридона Ильича Заславского, павших в боях Великой Отечественной войны».
Витя посмотрел на него.
– Посмотри, пожалуйста, себя, – попросил Теряев.
Ира посмотрела и сказала:
– Меня там нет.
– Ты там.
– Да вот же – всё про небо написано. Меня там нет. В натуре.
– Всё равно ты там, – сказал Теряев. – Не может быть, чтобы тебя там не было. Просто тебя ещё, наверное, никто не открыл.
– Пора, сказал Карлсон. – Уже достаточно темно.
Он и Ира отправились к чердачному окну, а Витя и Теряев с Августом еще сидели и смотрели на небо.
Они уходили с чердака поздно ночью. Молча спустились по винтовой лестнице. Молча ждали лифта. Витя мечтательно улыбался.
Но тут из темноты, тихий и грозный, как призрак, выступил Суровый Сосед в габардиновом пальто поверх полосатой пижамы и в шляпе.
Карлсон взвыл от страха.
– А! Подстерёг я вас!
– Вам чего, товарищ? – оскорблённо спросила Ира.
Суровый Сосед онемел.
– Спать по ночам надо, – сказала Ира. – А не шарахаться по лестнице в нижнем белье. А если не спится, двор уберите. Все полезнее, чем детей пугать на ночь глядя.
Подошел лифт. Все пятеро вошли в кабину и унеслись вниз.
Суровый Сосед остался стоять, недоумевая.
– Внучек! Обедать иди.
Теряев оторвался от книги, пошёл, было, из комнаты, но вернулся и пересадил куклу от её маленького письменного стола к маленькому обеденному. Поставил перед куклой прибор:
– Приятного аппетита, Ира! – и отправился на кухню. – Я сам, бабушка, – сказал он, помогая бабушке переставить кастрюлю с плиты на стол.
– Сам, так сам. Тогда я стирать пойду.
– Я потом постираю, – попросил Теряев, наливая в тарелку борщ.
– Будет уже с тебя забот. Довольно.
Бабушка полоскала в ванной белье:
Когда пришла на кухню, Теряев сидел за столом, схватившись за живот, и стонал.
– Ты что, внучек? Что с тобой?!
– Переборщил я, бабушка!
На столе стояла пустая тарелка и кастрюля с половником пустая, только на донышке немного борща краснелось.
– Батюшки! – всплеснула руками бабушка. – А кашу кто же кушать будет? А молоко?
– Не горюй, бабушка, сейчас я это дело поправлю.
Теряев лёг на пол, стал по полу кататься и приговаривать:
– Идет коза рогатая,
Идет коза бодатая;
Ножками – топ, топ,
Глазками – хлоп, хлоп!
Кто кашки не ест,
Кто молока не пьёт,
Того забодает, забодает.
Потом Теряев снова сел за стол:
– Давай, бабушка, кашу!
Небо над городом было тяжёлое, низкое, серое. Был тихий осенний день в конце сентября. То есть он был тихий на крыше теряевского дома, но не внизу, не в городе, где озабоченно копошились люди на тротуарах, перекрёстках, в очередях, и с неясным бормотанием двигался безконечный цветной поток машин.
Витя, Теряев с Августом и Ира с биноклем сидели на крыше.
– Холодно! – сказала в пространство Ира.
Теряев начал было расстёгивать куртку, но Витя его опередил, стянул с себя свитер и помог Ире его надеть. Получилось платье-мини. Рукава до колен.
– Стой спокойно! – приказал Витя и стал закручивать рукава.
Ира хихикала.
Теряев отвернулся, загрустив.
– А вот там есть башня на крыше, – сказала Ира, – как перевёрнутая рюмка.
– Где? – оживился Витя. – Покажи.
– Вон, серенькая. Придумал же кто-то, построил.
– Завязал, небось, – весело предположил Витя, – и построил в честь знаменательного события.
– Что завязал? – не понял Теряев.
– Это дело завязал.
– Как это можно «завязать дело»? – недоумевал Теряев.
– Какой ты тупой! – удивилась Ира. – Вот это дело завязал, чего тут непонятного-то? – и она щёлкнула себя по горлу.
На крышу на четвереньках выбрался Карслон.
– Зря пришли, – сказал он, добравшись до приятелей. – Сегодня мы ничего не увидим.
– Почему? – расстроилась Ира.
– Смог.
– Что смог? Кто смог? – не поняла Ира.
– Ветер западный. Со стороны цементного завода. Так что небо для нас закрыто.
– Ну жизнь! Ну, жизнь! – запричитал Витя. – Я всегда говорил: за атмосферой нужен глаз да глаз. Ишь, цивилизация как распоясалась! Дымит, речки-озёра портит, гадит по-всякому. И между прочим, самолёт за один рейс сжигает столько кислорода, сколько его вырабатывают несколько гектаров леса за год! Вот и дыши тут дрянью всякой, отходами!
– Вы специалист? – осведомился Карлсон, поражённый зрелищем Витиной скорби.
– Соответствуем! – загадочно произнес Витя. И пояснил: – Следим за чистотой атмосферы. А цементная пыль, между прочим, травмирует мерцательный эпителий дыхательных путей.
– Витя! – сострадая, крикнула Ира, прижимая к груди руку в недозавернутом, длинном рукаве. – Давайте пойдем в планетарий.
– Там небо ненастоящее, – печально сказал Витя.
Теряев вздохнул, оглядывая небо и крыши под ним.
– Хоть бы где пожар случился, – сказал он. – Я бы чего-нибудь героическое совершил.
И тут все увидели, что из открытой двери балкона, на котором, как всегда, стояла коляска с орущим благим матом младенцем, выпархивают лёгкие, чёрные клубы дыма.
– Может, в кухне чего пригорело? – с надеждой сказал Витя.
– Нет дыма без огня, – сказал Теряев.
– В натуре, – сказала Ира.
И тут они увидели огонь. Он был в глубине квартиры, не сильный ещё, но уже определенный, крепнущий с каждой минутой.
– Пожарных надо, – на ходу бросил Витя и исчез в чердачном окне.
Дым густел. Младенец орал.
– Этот агрессор в шляпе чердак запер! – заорал Витя, вылезая на крышу.
– Верёвки есть? – спросил Теряев Карлсона. – Конкретно!
– Как будто.
– Тащи сюда! – заорал Витя.
Карлсон встал на четвереньки и медленно двинулся к чердачному окну.
– Я найду, – опередил его Теряев.
– Полундра! – завопила Ира. – Свистать всех наверх! – и пронзительно свистнула, вложив два пальца в рот.
– Девочка, перестань шуметь! – строго попросили из окна соседнего дома.
Теряев и Витя связывались верёвками.
– Ты пойдешь первым, – сказал Витя. – Я сильнее. Буду страховать.
Они пошли. Чтобы попасть на балкон дома напротив, надо было преодолеть четыре крыши.
– Ребята, подождите! Я с вами. Я помогу, – просил Карлсон и, бледнея от страха высоты, полз на четвереньках за спасателями.
– Крысы! – кричала Ира. – Затаились в своих норах!
– Девочка, прекрати безобразие, – строго распорядились из окна соседнего дома.
– Кричи «Пожар», – посоветовал Теряев.
Он стоял на краю крыши. Надо было прыгать на соседнюю.
– Ребята, я с вами. Подождите, – умолял Карслон и сполз.
– Свалишься с крыши – отлуплю! – коротко предупредил Витя.
Теряев прыгнул.
– Пожа-ар! – кричала Ира.
– Где?! – спросили из соседнего дома.
– Заведи верёвку за трубу, сказал Витя Теряеву. – Если не допрыгну, пойдешь дальше один.
Он допрыгнул, и они вместе побежали дальше…
…А в депо пожарной охраны уже получили сигнал бедствия, и зазвенела тревога.
Пожарные бежали к своим машинам. Взвыли сирены, и машины сорвались с места, понеслись по городу…
Внизу во дворе бесновался Суровый Сосед.
– Так всегда! – донеслось снизу. – Сперва по крышам…
– Куриная твоя башка! – крикнула Ира и пронзительно свистнула. – Прячьте спички от детей!
Карлсон зацепился штаниной за торчащий угол железного листа, скатился по крыше, застрял на самом краю в прутьях барьерчика и затих.
Прилетел попугай Август, сел рядом.
Из двери балкона летели черные хлопья. Орал младенец.
Теряев спускался по пожарной лестнице. Нога его скользнула по ступеньке, и он сорвался, пролетел метра три и повис на веревке.
– Ты там давай поаккуратнее! – попросил сверху Витя.
– Полный потряс, – пробормотала смотревшая на них Ира и завопила: – Чего уставились! Из-за вашей тупости людям приходится подвиг совершать! Страхуйте свое гнусное имущество от пожара!
Заскрипели рамы открывающихся окон…
…А пожарные машины с оглушительным воем мчались по улицам, не задерживаясь у красных глаз светофоров…
…Теряев спускался по верёвке по стене дома. Спрыгнул на балкон.
– Давай! – крикнул он вверх Вите, придерживая верёвку.
Витя начал спускаться.
– Эй, вы! Ироды! – надрывалась Ира. – Человек погибнет, а вам и дела нету!
– Ты – птица. Тебе хорошо, – печально сказал Карлсон попугаю Августу.
Теряев и Витя тушили пожар в комнате: заливали горящий журнальный столик и тлеющую обивку дивана водой из чайника и бульоном из кастрюли, роняя в пепелище оранжевые морковки.
– Надо снять с крыши Карлсона, – сказал Теряев.
А во двор с гудением и воем ворвались красные машины пожарной охраны.
Ира затанцевала, размахивая длинными рукавами Витиного свитера.
Суровый Сосед суетился внизу, командуя и мешая пожарным.
Лестница пожарной машины с жужжанием потянулась вверх, к крыше, на краю которой лежал онемевший от ужаса Карлсон.
Витя и Теряев стояли на балконе.
Теряев оглядел крыши, посмотрел вниз и сказал:
– И как это мы сюда добрались?
– Не тряси решетку, – попросил Витя, вцепившись обеими руками в балконную решётку.
– Я не трясу. Это ты трясёшь.
– Она сама, наверное, трясется, – сказал Витя, глядя вниз.
– Бедняга, – сказал Теряев, качая коляску с орущим благим матом младенцем, – все тебя позабыли – позабросили.
– А вот интересно, – сказал Витя, наблюдая, как пожарные извлекают Карлсона из прутьев барьерчика, – что нам дадут – медаль за героизм или пятнадцать суток за хулиганство?
Теряев сидел в своей комнате, на диване, а у теряевского стола пристроилась немолодая, полная женщина в джинсах, со значком на кожаном пиджаке – «Пионерская правда».
Перед журналисткой лежал блокнот и ручка. Журналистка так лучезарно улыбалась Теряеву, что он удивлялся и робел.
– Скажи мне, Теряев, ты хорошо учишься?
– Я учусь неровно.
Журналистка расстроилась.
– Что ты думаешь о своем поступке?
– Я думаю, это подвиг.
– Стало быть, ты – герой?
– Да, – сказал Теряев.
– А ты не думаешь, что считать себя героем не слишком скромно?
– Почему? – пожал плечами Теряев. – Если у нас с Витей получился подвиг, значит мы герои. Разве нет?
– В общем, конечно, – замялась журналистка. – А как ты думаешь, на твоём месте так поступил бы каждый? – с надеждой спросила она.
– Не знаю. Может, кто-нибудь и не поступил бы, а упал бы и разбился. Мы тоже могли упасть и разбиться, и подвиг бы не получился.
– Ты боялся разбиться?
– Я не успел. Всё как-то очень быстро произошло.
Ответ журналистке понравился.
– Скажи мне, как вы пришли к решению забраться на балкон и спасти ребёнка?
– У нас не было другого выхода.
– Как это не было? – оторопела журналистка.
– Он был заперт. Нас заперли на чердаке, – пояснил Теряев, – за то, что мы лазали смотреть на небо.
– И всё?
– И всё. А что? – обеспокоился Теряев. Он видел, что журналистка расстроилась, и ему было её жалко.
– А кем ты хочешь быть?
– Всем понемножку, – сказал Теряев.
– Это как же?
– Превращаться во всё по очереди. Сейчас я – Теряев, потом я – кенгуру, потом я – астероид, еще потом – я – берёза или, например, дуб, а ещё потом…
– Понятно, понятно, – остановила его журналистка.
Она уже не улыбалась так лучезарно. У нее было озадаченное лицо. Она посмотрела на попугая Августа и спросила:
– Я знаю, что твои родители в Африке. Ты очень по ним скучаешь?
– Нет.
– Но ты, конечно, хочешь, чтобы твои родители приехали и были с тобой, – сообщила журналистка.
– Не знаю… Я ведь тогда не смогу ждать от них писем.
Журналистка усмехнулась, а потом и вовсе начала смеяться.
Глядя на неё, Теряев тоже заулыбался.
– Ты пионер? – спросила она, уже записывая ответ.
– Я хотел, – грустно сказал Теряев. – Но меня не приняли.
Журналистка испугалась и уронила ручку.
– Почему?
Теряев подумал, хорошенько припоминая всё, и перечислил:
– Я не осознаю своих ошибок. Я несерьёзно отношусь к жизни, хожу в баню и плохо воспитан.
– При чем здесь баня? У вас что, душа нет?
– Есть…
– Ну и ну, – пробормотала журналистка.
– Скажите, пожалуйста, вы всё-всё про меня в газете напишете?
– Баня, подвиг, кенгуру, – сказала журналистка, – винегрет какой-то. Цельности не хватает.
– А я люблю винегрет, – сообщил Теряев.
– Я тоже, – прошептала журналистка, – а вот наш редактор не очень.
Она задумчиво посмотрела в окно, потом на Теряева и спросила:
– Скажи, Теряев, чего тебе недостаёт до полного счастья?
Теряев долго думал и смотрел вокруг себя, а потом сказал:
– Мороженого.
Шёл классный час.
Теряев сидел за партой, нахохлившись и стискивая от волнения руки. Не отрываясь, смотрел на Барсукову – председателя совета отряда, не очень, однако, понимая, что она говорит.
А Барсукова стояла возле учительского стола и говорила:
– И поскольку Тарасюк по-прежнему прогуливает уроки, не готовит домашнее задание и грубит учителям, мы не можем принять Тарасюк в ряды пионерской организации. Садись, Тарасюк.
Тарасюк была длинная, тощая девочка.
– А ну вас всех, – беззлобно сказала она, сдув со лба челку, и села.
– Теряев! – вызвала Барсукова.
Теряев вскочил так, что едва не опрокинул стул.
– А вот с тобой, Теряев, дело обстоит совсем иначе, – расцвела улыбкой Барсукова. – Ты оправдал доверие товарищей. И принимая во внимание совершённый тобой героический поступок – спасение ребенка на пожаре, мы нашли возможным не дожидаться конца испытательного срока, данного тебе, и принять тебя в ряды…
– Ур-ра! – закричал Теряев, выбивая барабанную дробь по крышке парты.
И была Красная площадь. Голуби, иностранцы, милиционеры и молодожёны.
Теряева принимали в пионеры в здании Исторического музея.
Бабушка, Ира и Витя стояли в пёстрой родительской толпе. Они видели, как Теряев вышел на ковёр к красному знамени с тяжелыми золотыми кистями.
– Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, – закричал Теряев, – перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы пионеров Советского Союза.
Забили барабаны.
Комсомолец, застенчивый долговязый юноша, подошёл к будущему пионеру повязать пионерский галстук.
Пальцы плохо слушались его. Теряев ему помог.
– Спасибо, старик, – сказал юноша, вручил Теряеву барабан и отошёл.
А потом Теряев в пионерском галстуке, одуревший от радости, с барабаном на ремешке через плечо стоял среди остальных, уже принятых в пионеры, и ласково прикасался пальцами к барабану.
Теряев вдруг поморщился, как от нефизической боли, или острой жалости, или горечи прощания, и прослезился.
А над головами людей, в коридорах и залах музея, над тачанками и пулемётами грохотали детские голоса:
– Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира…
Ира и Витя стояли неподалёку от здания музея, возле Витиного фургончика.
– Все, – сказал мрачно Витя. – Теряев превратился в пионера. Теперь ему будет не до нас. Накрылась теперь наша баня.
Ира внимательно посмотрела на Витю и сказала:
– Хочу куклу.
– Чего?!
– Куклу хочу, – у Иры стало отчаянное, тоскливое лицо. – Должен же быть кто-то, кому ты нужен, кто нужен тебе.
– Я подарю тебе куклу! – испугался Витя. – Ирочка, ты только не плачь!.. Едем! В «Детский мир». Здесь совсем рядом, – и он взял Иру на руки и посадил в машину.
Ира засмеялась.
Обходя фургончик и садясь за руль, Витя пробормотал:
– Уж мне эти женщины! Никакой логики!
Был яркий, осенний день. Улетали птицы. Их клин был так высоко над землёй, что совсем не было слышно голосов. Зато был слышен голос Теряева. Он пел:
– Летят перелётные птицы
В осенней дали голубой.
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобой,
Родная навеки страна! —
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна…
– Корни не повреди, – предупредил Витя. – Бабушка сказала, что главное – это здоровые корни, хоть и слабые.
На крыше Теряев и Витя извлекали берёзку из плена штукатурки и железа. Они осторожно, пальцами и совками освобождали тонкие берёзовые корни.
– Бедная ты моя, бедная, – бормотал Теряев.
Во дворе, глядя вверх, стояли бабушка и Ира. У ног – ведро. Ира держала лопаты.
Суровый Сосед приблизился взглянуть в ведро.
– Навозная болтушка, – строго сказала бабушка.
Суровый Сосед брезгливо шарахнулся в сторону и тоже посмотрел вверх.
– Опять?! – мрачно сказал он.
На крыше передвигались Теряев и Витя, сидел Карлсон с биноклем и летал попугай Август.
Теряев и Витя, освободив березку, собрались уходить.
– Вы без меня идите, – сказал Карлсон. – Я здесь на посту посижу. За Землёй посмотрю. Вдруг опять пожар случится или ещё чего.
– Ну, извини! – простился Витя.
Витя и Теряев в лифте опускались вниз. Витя держал в руках деревце, а Теряев стоял у застеклённой створки и глядел, как у самого его лица мелькают металлические перекрытия и сетки шахты. Не оборачиваясь к Вите, он сказал:
– Ты знаешь, а я больше в Африку не поеду.
– Это ещё почему? – искренне удивился Витя.
Теряев обернулся к нему и посмотрел на березку в Витиных руках долгим нежным взглядом:
– Я за Ирой в лагерь поеду, – сказал Теряев. – Пропадёт она там без меня.
– А-а-а… – протянул Витя. – Ну, извини.
…Они сажали берёзку во дворе в заранее приготовленную для посадки ямку.
Витя вбивал в ямку колышек, чтобы потом привязать к нему деревце.
Теряев погрузил корни берёзы в навозную болтушку, в ведро.
– Подержи её там подольше, – сказала бабушка.
– Да будет лес! – сказал Теряев задумчиво.
– До солнца! До звёзд! – завопила Ира. – Даёшь непролазные дебри! Перевернем весь мир с ног на голову! – и она хлопнула Теряева по плечу.
Он посмотрел на Иру и сказал:
– С головы на ноги.
Ира посмотрела в задумчивые теряевские глаза и несколько поутихла.
Суровый Сосед ходил вокруг и всё собирался что-то сказать, но слова не находились.
Теряев опустил корни деревца в ямку.
Витя и Ира принялись зарывать, иногда поливая водой.
– Помногу-то землю не бросайте, – предупредила бабушка.
Она посмотрела на птиц в небе, на внука и его друзей, на Сурового Соседа, грустно сидевшего в отдалении, на посаженное деревце и сказала, ни к кому особенно не обращаясь:
– Выживет. Примется и выживет.
И берёзка пошелестела в ответ маленькими жёлтыми листьями.
Конец.
В сценарии использованы стихи А. С. Пушкина, Б. Заходера, М. Исаковского, Д. Садовникова, песня «Варяг» и детский фольклор русского народного поэтического творчества.
М – 1982.