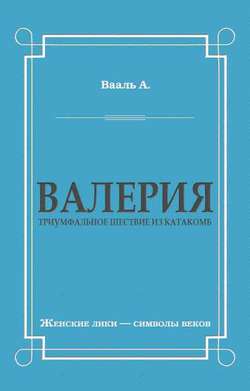Читать книгу Валерия. Триумфальное шествие из катакомб - Антуан де Вааль - Страница 4
Часть первая
Глава III
Грозные тучи
ОглавлениеС мрачным взглядом, небрежно лежа на диване, зевая над скучным текстом «дневника» – acta diurna – тогдашней государственной газеты, ожидал Максенций прихода Сафронии.
Все существо его показывало низкое и варварское происхождение. Это была плотная, широкоплечая фигура – живой образ грубой и беспутной силы. С низкого лба его спускались почти до бровей всклокоченные волосы; круглая толстая голова покоилась на тучной шее, что-то невыразимо наглое сверкало в его проницательных глазах. Он сам любил сравнивать себя с Геркулесом, своих телохранителей, состоявших из самых высоких и сильных солдат, он называл геркулесами.
Максенций кончил чтение «дневника» и только что хотел, не имея больше терпения ждать, послать второго вольноотпущенного в квартиру Сафронии, как доложили о прибытии вестового с крайне важным письмом.
– Пусть отнесет его к префекту канцелярии, Ираклию, или куда хочет, – ответил император, зевая, однако опомнился; ему пришло в голову, что тут наверняка известия с театра войны в верхней Италии, и велел подать письмо.
Вестовой был послан императорским полководцем Руфом, командовавшим армией на севере.
Максенций распечатал письмо и чем дальше он читал, тем больше омрачались черты его лица.
Он знал уже из прежних докладов, что Константин перешел Альпийские горы и при Турине одержал победу. Однако не обратил внимания на этот первый успех противника. Он так надеялся на испытанный, особенно в Египте, военный талант Руфа, что даже не сомневался, что тот дал победить себя только ради военной хитрости и скоро пришлет ему голову Константина.
Теперь полководец докладывал ему, что после взятия укрепленного города Турина неприятель пошел форсированным маршем на Бресчию, потом к Вероне и в обоих местах разбил императорские войска и взял Верону штурмом. Между убитыми находится и Рурций, начальник города. Как в Турине и Бресчии, так и здесь, вопреки военному обычаю Константин даровал гарнизонам жизнь. Со взятием Вероны верхнюю Италию нужно считать потерянной, как неудержимая поспешность, с которой противник устремился вперед, так и малодушие его собственных солдат не позволяют полководцу собраться с силами и еще раз сразиться с неприятелем на равнине реки По: поэтому он велел загородить Апеннинский проход, чтобы выиграть время для сбора вблизи Флоренции новой армии. Настоятельнейше просил он императора прислать ему форсированным маршем все имеющиеся в распоряжении силы, а особенно легионы, с нетерпением ожидаемые из Сицилии и Африки.
Это были известия, которые наконец-то вытряхнули императора из его обычной лености.
Бешено бросил он это письмо на пол недочитанным, а потом топтал его ногами и кричал:
– Флоренция, Флоренция? А, плут, изменник! Отдал без кровопролития Пласенцию, Парему и Болонию! Почему не поспешил я сам стать во главе моих легионов, чтобы на подобие Геркулеса живым словить кабана, ворвавшегося в мои поля?
Полный злости ходил император взад и вперед по своему покою. Возможно ли, чтобы Руф, не потерпевший еще ни одного поражения, чтобы его лучшие легионы, несмотря на их многочисленность, трижды были разбиты, один раз за другим? И с каким совершенством должны были неприятели каждый раз побеждать, чтобы привести его армию в полное расстройство?
Наконец Максенций вспомнил, что не прочел еще письма до конца. Он поднял его с пола. Заключение гласило:
«Как меня известил верно нам преданный жрец Митры в армии Константина – Гордиан, тот заказал, ссылаясь на представившееся ему небесное видение, новое войсковое знамя, на котором он изображает себя в виде бога солнца, над ним – тайный знак, обозначающий имя Бога христиан. Как ни неуклюжа басня о небесном видении, которое наверно Константин видел один, после весело проведенной ночи, однако, солдаты его, большая часть которых состоит из христиан, оказывают под этим новым знаменем чудеса храбрости.
Перед последней битвой я избрал из отдельных легионов пятьсот самых храбрых и обещал им высшие награды и повышения, если они возьмут то знамя. Никогда я еще не видел подобного буйного сражения; однако, будто поддерживаемое демоническими силами, то проклятое знамя даже не колебалось, из моих же пятисот едва один остался в живых».
– Так! – скрежетал Максенций зубами, сжимая кулаки. – Так! Назаряне посягают на мою корону и жизнь? Ах вы паршивые собаки, этим вы платите мне за то, что я вас спустил с цепи! Божественный Диоклетиан верно судил вас: почему же я уничтожил его истребительный эдикт?
В это мгновение явился, дрожа от гнева своего господина, вольноотпущенный, которого Максенций послал к Сафронии и доложил, что та женщина сама убила себя, объясняя, что она христианка и поэтому никогда не последует повелению императора. Это потрясающее известие не пробудило из груди Максенция угрызения совести.
– Она христианка и поэтому никогда не послушается повеления императора, – повторил он язвительно. – Да, это так! Они все государственные изменники, от последнего нищего до их епископа Мельхиада. Как бы они торжествовали, если бы Константин пробрался в Рим! Но клянусь бессмертными богами! Я вам отобью охоту! Иди, – кричал Максенций на вольноотпущенного, – иди и скажи Ираклию, чтобы он пришел ко мне после обеда; пусть он выловит этих вшей из моей накидки.
В мрачной злобе император стал опять ходить взад и вперед по комнате. Ведь изрубил же он в прошлом году с помощью своих преторианцев и геркулесов несколько сотен римских граждан, почему же не мог бы он и теперь для устрашающего примера загнать в флавийский амфитеатр несколько тысяч христиан и велеть изрубить их?
– Однако, – сказал он самому себе, – эта гадина неистребима; как моль на шерсти, так и они угнездились в целом городе, даже и во дворце. И какой желанный повод дал бы я этому галльскому мальчишке играть роль спасителя римского народа, если бы я изрубил кучу этих болванов.
От ярости против христиан император опять переходил к обдумыванию своего собственного положения.
– Если бы Руф был еще раз побежден при Флоренции, не была ли бы этим открыта неприятелю дорога в Рим? Пусть придут, – говорил Максенций самому себе, – я велю исправить городские стены и укрепить их валом и рвом. Пусть попробуют эти собаки залезть в мою барсучью нору: с окровавленной мордой уйдут они опять отсюда!
В это мгновение доложили о прибытии Руфа.
Ввиду серьезного положения императорский полководец считал необходимым лично переговорить с монархом и предложить ему тот военный план, который, по его уверению, один и мог бы еще спасти императора. Доверив главное начальство одному из своих полководцев, он беспрерывно, днем и ночью, ехал следом за вестовым.
Максенций был изумлен неожиданным появлением своего полководца; устные сообщения утверждали и объясняли то, о чем он докладывал в своих письмах.
– Конечно, – повторил император, – я велю укрепить Рим и держаться в оборонительном положении. Скорее не останется в нем ни одного камня на камне, чем я отдам его Константину!
– Коль скоро тот подойдет к воротам, – ответил Руф, который благодаря своей воле мог откровеннее других смертных говорить с императором, – тогда тебе твои стены и валы уже ничем не помогут. Для осады мы нуждаемся во всем, особенно в провианте. Прошлогодний голод опустошил склады, и я очень сомневаюсь, что префекту Руфину возможно было наполнить их из скудного урожая нынешнего лета.
– Я велю его живым изжарить, если не все амбары наполнены! – кричал Максенций, негодуя на слова своего полководца. – Кроме того, у меня счет к этому Руфину относительно его жены. Во всяком случае, запасов хватит для легионов на несколько месяцев.
– И какая тебе в том польза, – ответил Руф, – если ты удержишь Рим на два или три месяца? Уверен ли ты при этом, что народ не поднимет бунта в осажденном городе?
– Народ? Бунт? – смеялся император. – Как фигляр свою собаку, так и я с окровавленным бичом в руках заставлю римлян танцевать передо мной. Однако выскажи наконец свои планы!
– Ты не можешь удержать Рим продолжительное время против Константина, – повторил полководец. – Если же ты положишься на Сицилию и африканские провинции, то будешь иметь новые силы, чтобы в скором времени с сильным флотом явиться к устью Тибра. Я пойду на зиму с моими легионами в Капую и за Вольтурн. Константин, довольный тем, что владеет Римом, оставит нас на время в покое, а с наступлением весны мы двинемся с новыми силами вперед, как на суше, так и на воде. Притом я слишком надеюсь на союз других королей, для которых Константин, владеющий Британией, Галлией, Италией и Африкой, был бы слишком сильным союзником.
– Клянусь Геркулесом, – сказал Максенций, – я обдумаю твое предложение. Ха-ха! Если бы Константин имел меня в своей власти, наверно, он велел бы отрубить мне голову и носить ее на шесте на показ по всем городам римского государства. Я ему по крайней мере обещаю, что так сделаю с его головой!
– Если ты ее еще получишь, – ответил Руф сухо.
– Если я должен буду оставить Рим, – кричал император, еще больше рассерженный этим выражением своего полководца, – то и сперва подожгу его со всех четырех концов, и клянусь тебе, что Нерон в сравнении со мной в этом отношении был только мальчишкой! Я знаю, что могу надеяться на солдат.
Руф был римлянин старого закала; ужасные угрозы императора его возмущали на столько же, на сколько и требования, чтобы солдаты участвовали в поджоге. С мрачными складками на лбу смотрел он безмолвно и пристально на Максенция и потом сказал:
– Да, ты можешь надеяться на меня и на армию в сражении.
Тиран понял своего полководца. Вольноотпущенный доложил, что настал шестой час – час обеда.
– Не будем портить себе из-за Константина аппетита, – сказал Максенций, – за бокалом фалернского вина можно легче говорить об этом деле.
Еще вечером того же дня возвратился Руф в армию, ужасно расстроенный приказанием императора, который, доверяя уверениям ворожеев и толкователей знамений, поручил своему полководцу ретироваться с отрядом к Риму, но с мелкими боями, чтобы выиграть время для подвигающихся с юга легионов.
В это самое время в одной из галерей Терминов Тита сидел одиноко молодой сенатор Симмах, задумчиво устремив мрачный взор на мраморную группу Лаокоона, находившуюся в одной из ниш задней части галереи.
В Риме не было более гордого римлянина, не было и более усердного поклонника богов, чем он.
Между немногими достойными уважения людьми, которых мог представить тогда испорченный город, он был почтеннейшим человеком, со строгим нравом, получивший образование в новоплатоновской школе, имеющий притом, кроме происхождения из старой сенаторской фамилии, неизмеримые богатства. Многократно предлагал ему Максенций самые высокие посты, но Симмах не принимал их, потому что не хотел быть помощником тирана. Удалившись от общественной жизни, полный досады из-за разврата римлян, сердясь на сенаторов и воинов, которые, не помня славы своих предков, допускали Максенция даже к самым безбожным преступлениям над своими близкими и отдали честь своего имени, чтобы только спасти жизнь и имущество; он предался единственно воспитанию своего сына, который, тогда еще мальчик, должен был со временем поднять голос против святого Дамаска и Амвросия за падающих богов Рима. Был ли трагический конец Сафронии или известия с театра войны, о которых Симмах тайным образом узнал, причиной, омрачавшей его лоб?
То и другое вместе, но все-таки сенатор не питал сожаления к смерти женщины, умершей христианкой и не имел никакого сочувствия к угрожающему падению господства Максенция, которого в такой же степени презирал, в какой ненавидел Константина.
Из мрачного размышления молодой сенатор был выведен приходом старика, который с ласковой улыбкой подошел к нему и подал в знак приветствия руку.
Морщины на лбу Симмаха разгладились, когда он узнал старика; ведь это был его прежний учитель, Лактанций Формиан, учивший его однажды при дворе Диоклетиана в Никомедии, риторик.
– Прошло уже около восьми лет, – начал он после первого приветствия, – с тех пор, как ты вернулся из Азии в Рим, и я почти не мог надеяться застать тебя еще в живых, если бы фортуна не способствовала мне еще раз увидеть блестящего владельца мира, золотой Рим.
– Если ты считал это за счастье, то скоро можешь изменить свое мнение, – ответил Симмах, лоб которого снова омрачился.
– Я вчера только прибыл, – ответил Лактанций, – и уже от многих узнал очень дурные вести. Однако меня тронула до глубины души потрясающая смерть Сафронии. Я познакомился с ней в Никомедии и тогда уже удивился ее высоким убеждениям.
– Поступок этой женщины произвел бы на меня впечатление, если бы Сафрония вонзила себе нож в грудь не как страстная обитательница Востока и притом еще как сумасбродная христианка, а как настоящая римлянка, хладнокровно и твердо, как Лукреция. Меня возмущает то, что даже префект Рима в святилище своего дома не обеспечен от преследований императора-тирана. Однако еще позорнее то, что в Риме нет старого Брута, который осмелился бы поднять с пола окровавленный кинжал.
– Мне рассказывали и о Константине, о его победах над Руфом и о том, как он неудержимо дошел уже до Умбрии. Не узнаешь ли ты в нем орудия свыше, для наказания преступлений Максенция?
После этого вопроса Симмах устремил с горькой усмешкой взор на Лактанция: потом указал рукой на группу Лаокоона и сказал:
– Рассмотри эту картину, рассмотри ее хорошо! Видишь ли ты, как Лаокоон, терзаемый обеими змеями, извивается в немом страдании и взывает к небу? Видишь ли, как его оба сына, обвитые кольцами страшилища, взывают к отцу, который не может им помочь? Вот это картина Рима, – Рима, который будет растерзан Максенцием и Константином вместе с его населением и в смертельном объятии задавлен. Разница только в том, что те змеи вместе напали на своих жертв, между тем как эти с двойной кровожадностью разорвут добычу.
– Нет, нет! – вскричал Лактанций с удивительным жаром. – Ты не можешь Константина сравнивать ни с этой змеей, ни поставить его наравне с презренным Максенцием.
– Ты его не знаешь, добрый старик, – ответил Симмах с горькой усмешкой. – Ты думаешь, что он похож на своего отца Констанция Хлора, и забываешь, что его мать Елена, докийская служанка при гостинице, самого низкого происхождения и притом еще христианка.
Лактанций подавил ответ, готовый уже сорваться с его губ.
Сенатор же продолжал в страстном возбуждении, дрожащим от страдания и злости голосом:
– Знаешь ли ты, что Константин прикрепил проклятое имя Бога христиан на свое войсковое знамя? О Рим! Галлы и карфагеняне не причинили тебе такого позора, как этот император во главе римских легионов! Лактанций, если ты наподобие старого Гомера сохранил в своей груди неиссякаемый источник поэзии, то подними свой голос за бессмертных богов против распятого на кресте еврея, которого Константин хочет возвысить на престол Юпитера!
Черта глубокой скорби пробежала по лицу старика.
Прежде он – поклонник богов – старался как поэт и оратор побеждать христианство и этим заслужил расположение Диоклетиана. Тронутый вдруг милостью Божьей и приняв веру во Христа, старался он с тех пор неусыпно словами, а особенно философскими стихотворениями защищать свою новую веру и побеждать язычество, чтобы исправить данный им раньше дурной пример. Как больно было для него теперь узнать, что стихи, написанные им для прославления идолопоклонничества, еще не позабыты, тогда как его оправдывающие христианство сочинения не были известны даже его бывшему ученику!
На вызов Симмаха покачал он головой и с горькой усмешкой ответил:
– Если Юпитер не в состоянии метать молнии, чтобы защищать свой трон, и если сломаны копье Минервы и лук Аполлона, как же может перо в руке старика спасти богов Рима от падения?
Симмах только хотел ответить, как на галерею взошло множество приезжих, которым проводник начал громким голосом описывать статую Лаокоона. Рассерженный словами Лактанция, досадуя на помеху, попрощался он коротко со своим учителем и быстро ушел.
Трагический конец благородной Сафронии произвел во всех слоях общества Вечного города глубокое впечатление и, приводя многих в стыд и будя нравственное сознание, ясно представил глазам всех позорное унижение, в которое тиран привел аристократию и народ.
Префект канцелярии Ираклий, который имел везде своих шпионов, доложил императору после обеда о начавшемся в городе волнении.
Ираклий, бывший раньше христианином, был со времени своего отступления подобно всем апостатам неистовым врагом своих бывших единоверцев и необычайно быстро повысился на своем поприще от профессора красноречия до настоящего поста и стихотворениями. Еще год назад жил он в пустой Сардинии в изгнании, сосланный туда судейским приговором городского префекта Руфина, потому что он беспокоил кровопролитием общество христиан. Ходатайство его жены, Сабины, дамы из старого патрицианского поколения, руку которой он купил отступлением от веры, дало ему свободу; вследствие похвальной речи в день годовщины восшествия на престол Максенция заслужил он его расположение; приглашенный в тайную канцелярию, он был скоро поставлен во главе ее. Хитрый и уступчивый грек достиг этим значительного влияния. Он имел полное доверие тирана, страстям которого он служил и которыми потом сумел воспользоваться для своей цели.
Максенций очень хладнокровно слушал доклад своего тайного секретаря о расположении духа в городе и о глубоком впечатлении, произведенном смертью Сафронии на население.
– Да, – сказал он с усмешкой, залпом выпивая бокал вина, – в самом деле нужно обратить внимание на общественное мнение. Напиши поэтому сейчас повеление об аресте Руфина и позаботься, чтобы его привлекли к ответственности, потому что он – ну, потому что он, как передал мне Руф, не заботился как следует о снабжении города провиантом.
При этих словах глаза грека заблестели злорадством. Он не простил Руфину, что тот приговорил его два года тому назад к пожизненной ссылке в Сардинию: давно уже искал он повода отомстить ему за это, однако префект города оставался для него до сих пор недостижимым на своем высоком посту. Теперь наступил час мести, и Ираклий приветствовал его тем жаднее, что недавно Руфин с гордостью римского сенатора отказал, и может быть слишком резким словом, в несправедливом требовании греческого выскочки и дал ему почувствовать свое презрение.
Ираклий должен был овладеть собой, чтобы не выдать своей радости.
– Как? – спросил он, будто бы испуганный словами императора. – Сенатора Арадия Руфина, префекта города Рима, ты хочешь арестовать.
– И если мне нравится, приговорить его к смерти, – прибавил Максенций хладнокровно. – Что такое префект города? Такая маковая сенаторская головка сидит не крепче на своем стебле, чем плебейский волчец!
– Все-таки я советовал бы, если твое божество желает поднять руку на префекта города, подождать прибытия легионов с юга, – заметил лукавый грек.
– Легионов? – спросил, хмурясь, Максенций.
– Твое божество слишком долго уже питало этого ужа на своей груди. Ты один не хотел видеть, как Руфин старался приобретать расположение к себе римского народа. Я всегда дрожал, когда только вспоминал, какой громадной силой распоряжается этот тщеславный человек на своем посту, как префект города. Но теперь, когда Константин поднялся против тебя, он сделался вдвое опасным, и если он, как твое божество говорит, не сделал необходимых приготовлений о снабжении Рима провиантом…
– Этот подлый изменник! – вскричал Максенций. – Да он был соратником Константином.
– Ну, тогда я не имею ни малейшего сомнения, – продолжал коварный грек, – что найдутся в его доме компрометирующие сочинения, например, тайная корреспонденция, из которой заговор с Константином…
– Еще раз говорю тебе! – вскричал Максенций в бешенстве. – Напиши сейчас же повеление об аресте и позаботься, чтобы судьи исполнили свою обязанность!
– В этом непременно существует заговор, – говорил Ираклий, не обращая внимания на приказание императора, – доказательства которого найдутся и должны найтись, его жена Сафрония была замешана, и, не желая давать показания против своего супруга, сама лишила себя жизни. Так римляне должны читать это завтра в «дневнике».
Максенций должен был размышлять несколько секунд, чтобы понять отвратительный план Ираклия. Но потом он ударил рукой по колену и с величайшим удовольствием воскликнул:
– Клянусь дубиной Геркулеса! В целой Римской империи я не нашел бы другой гончей собаки, подобной тебе! Твой план отличен, превосходен: знаешь ли, что эта Сафрония была христианка и что она по этой причине отказалась повиноваться моей воле? Помести также и это в «дневнике». Этим прекратится разговор народа из-за этой женщины; угрозой же процесса удержу эту стаю собак во власти, и конфискация мне как раз кстати для постройки храма и для празднования предстоящей годовщины моего восшествия на престол. Какое дело римскому крысьему гнезду, – прибавил он с презрительной насмешкой, – откуда рожь, если только гадина может вдоволь нажраться?
Ираклий хотел прощаться, так как он горел желанием дать префекту города почувствовать свою месть, но жест монарха удержал его.
– Знаешь ли, – спросил Максенций, и его лоб опять омрачился, – знаешь ли, что Константин хитро выдуманным обманом сделал всю шайку христиан своими союзниками? Как животное Колизея в своей клетке выжидает, пока сторож отворит решетку, так ожидают эти христиане часа, в который Константин явится перед воротами Рима, чтобы в кровавом восстании нагрянуть на меня. Но, клянусь Геркулесом, они должны почувствовать мою руку! В течении восьми дней их епископ Мельхиад вместе со всеми священниками и диаконами должен быть пойман. Для этого нет более способного, чем ты, ты знаешь их убежища и их тайные знаки, и тебе составит удовольствие предать твоих бывших бесчестных товарищей казни. Коль скоро исчезнут пастухи, очередь будет за жирными баранами, при этом и тебе достанется доля. Остаток черни пусть спрячется потом в свои пещеры: его я уже не боюсь.
Как ни был раздражен апостат в своей злобе против церкви, которая отлучила его, и как ни старался он всегда найти случай, которым мог бы восстановить императора против христиан, это повеление все-таки напугало его. Ираклий вполне знал силу христианской веры, он во время преследования Диоклетиана так часто испытывал ее, что не мог сомневаться в совершенной бесполезности кровавых мер. Особенно теперь, когда Константин двигается к Риму, преследование казалось ему крайне опасным и в политическом отношении.
Кроме того, Ираклий ввиду неоднократных поражений Руфа сообразил уже возможность низвержения Максенция Константином. В его положении каждый другой вовсе не сомневался бы, что тогда и он заслужит смерть. Однако хитрый грек не терял надежды заслужить расположение победителя или же, во всяком случае, спасти свою жизнь, если только ему удастся помириться с церковью. А вместо того он должен теперь служить орудием новых кровавых распоряжений, которые даже в языческом населении сделались непопулярными и против которых даже его сердце возмущалось.
Хитрому греку достаточно было нескольких секунд, чтобы найти способ избавиться от неприятного для него поручения и притом сейчас же споспешествовать своим личным планам. Так как противоречие и опровергающие доводы обыкновенно еще больше укрепляли императора в его упрямстве, то он решил окольными путями достигнуть своей цели.
– Повелитель мой, – сказал он, – никогда еще не давали мне твои божественные уста поручения, которое я исполнил бы с большей охотой, чем это. И так как мне богами дано узнать твои повеления предварительно, то я после долгого и серьезного размышления нашел новое и единственно верное средство истребить назарян с корнем.
– Клянусь Геркулесом! – вскричал Максенций. – Я повелю поставить тебе на форуме самую красивую триумфальную арку, если твое средство окажется хорошим.
– Оно так же верно, как и просто, – ответил грек. – Кровавые пожары Диоклетиана, как и прежних императоров, воспламеняли только фанатизм этой стаи собак; ты должен вложить другие стрелы в лук, если хочешь их истребить. Горная вода вздымается перед преградами, встречающимися на пути, но если ты проведешь ее между узкими запрудами в пустыню, то она сбежит и иссякнет сама собой в песке. Итак, запрети христианам всякое общение в публичной гражданской жизни с поклонниками бессмертных богов. Вели поместить во всех училищах твой портрет и прикажи, чтобы учителя и ученики ежедневно перед учением воскуряли фимиам. Прикажи, чтобы твои жрецы каждое утро окропляли священной водой все жизненные припасы на базаре, чтобы все купцы до последнего торгаша поставили в своих лавках идолов. Браки, договоры – купчие контракты – должны считаться незаконными, если они не заключены при принесении жертв; никакой истец не должен являться перед судом, не поклонясь раньше богам. Этими и подобными средствами ты исключишь назарян из школ, торговли и наследства, суда и не пройдет одного поколения…
– Этот скучный опыт, – перебил его Максенций, зевая, – пусть сделает кто-нибудь другой; кого я хочу задавить, того сейчас хватаю за горло. Грек, конечно, хотя и носит имя, происходящее от Геркулеса, – прибавил он презрительно, – возится охотнее с ядами и тайными средствами. Я должен наконец, – сказал он с досадой и ударяя кулаком по столу, – отрубить этой лернейской змее ее сто голов, и если ты не хочешь быть головней, которую я воткну ей в шею, чтобы головы больше не вырастали, то я найду другого!
Ираклий не потерял ни на миг спокойствия.
– Твое божество знает, – ответил он, – как безусловно я исполняю твои приказания. Однако из ошибок Диоклетиана самой большой была та, что он конфисковал места собрания христиан и тем удалил ловушки, в которые попались лисицы. Возврати назарянам их церкви и кладбища и предоставь им полное право собираться; потом выжидай только одного из их праздников, и ты увидишь, как они все, во главе с их епископом Мельхиадом, со священниками и диаконами, попадут в ловушку. В середине следующего месяца они празднуют память Цецилии на Аппиевой улице; с радости от возвращенной им свободы при праздновании все настоятели будут в сборе, и ты только должен будешь послать туда преторианцев, чтобы изловить их всех.
– Хитрое предложение, клянусь Юпитером, – сказал император, – и все-таки заманчивое. Однако, – продолжал он после короткого размышления, – не скажут ли эти собаки, что я возвратил им их святыни, боясь Константина, и не будут ли они потом еще громче лаять?
– Но их лай ты потом скоро уймешь, – ответил Ираклий. – Нужно будет, – прибавил он, – с этими христианами поступать, как с гончими собаками: бросая им одной рукой кость милости императора, другой ты будешь махать перед ними кнутом. Тогда они будут пресмыкаться перед тобой.
– Я хочу это обдумать. В самом деле, Диоклетиан не был Геркулесом. Он сгонял этих зверей только в пещеру и, вместо того чтобы задавить всех, предпочел сочинить вздор.
– Ну, настоящий Геркулес выманит их из пещеры, чтобы потом задушить своей сильной рукой. Если ты так прикажешь, то я велю в канцелярии написать эдикт. И если потом еще опубликуешь его до годовщины твоего славного восшествия на престол, то ты увидишь, с каким восторгом благодарности эти простофили христиане примут участие в праздновании и с каким ликованием они будут встречать божественного Максенция.
Довольный пока тем, что Максенций не отклонил его предложения относительно конфискованных церковных имуществ, хитрый грек с последними словами ловко перевел разговор на другой предмет: на предстоящие празднования, которые, кроме строительства храма, были теперь ближе всего сердцу императора. И действительно, Максенций скоро оставил мысль о христианах, чтобы поговорить об этих проектах. Ираклий же сумел описать ему такую приятную программу празднования, что император остался в высшей степени доволен. Он имел к этому предположению прибавить только одно.
– Освящение цирка очистительной водой через жрецов, – сказал он, – кажется мне слишком водянистым, я хочу заменить его кровью. В тот момент, когда при скачках первый победитель достигнет цели и радостный крик народа громом разнесется по цирку, снаружи в отгороженном месте должна быть изрублена полусотня этих христиан. Их борьба со смертью и кровь, которая будет брызгать, – прибавил он с язвительным хохотом, – будет лучшее благословение, чем болтовня и святая вода жрецов.
Ираклий не осмелился противоречить, чтобы не испортить хорошего расположения духа своего господина. Он мечтал о списке заговорщиков, который должен был составить.