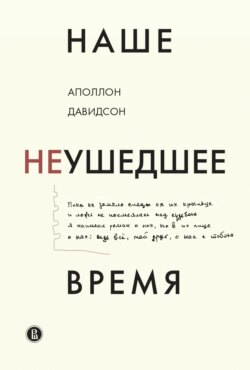Читать книгу Наше неушедшее время - Ирина Филатова, Аполлон Давидсон - Страница 4
II
«В нашей семье умирают от голода»
ОглавлениеВоспоминания часто начинают с истории семьи – o дедах, бабушках, а то и прадедах и прабабушках. Увы, я так не могу. Дедов я не знал: они, как и еще несколько моих родных, за восемь лет до моего рождения умерли от голода, который в 1921–1922-м настиг Самарскую губернию, да и бо́льшую часть всего Поволжья. Одна из бабушек вскоре умерла. Вторая – во время эвакуации из блокадного Ленинграда, в апреле 1942-го.
Моя семья попала в два страшных голода: в Поволжье и ровно через двадцать лет – в Ленинграде.
В детстве, если бабушке казалось, что я чего-то не хочу есть, она говорила:
– Ты голода не видел.
О голоде в Поволжье я знал только по рассказам выживших. А о ленинградском… я сам каким-то чудом выжил.
Какие настроения я видел тогда в среде старой петербургской интеллигенции? Той, которую Сталин назвал «перепуганными интеллигентиками»[14]. Советская власть этим людям была чужда, они от нее пострадали. Но победы Гитлера никто не желал.
С горькой иронией отнеслись к посланию Калинина, «всесоюзного старосты». Обращаясь: «Ленинградцы, дети мои», – он призывал потуже затянуть пояса. А люди-то умирали.
«Перепуганные интеллигентики»! Их уже столько пугали, таскали по ссылкам, чего им еще бояться? Но, наверно, они-то и были бо́льшими патриотами, чем те, кто так себя гордо называл. Верили в Бога, хотя в церковь не ходили. Верили в конечный разгром немецкого фашизма, хотя и понимали, что нужны не «несколько месяцев, полгода, может быть, годик». И прилагали к этому все силы, которые у них еще оставались. Продолжали работать, каждый на своем месте. Во время бомбежек мама дежурила на чердаке и крыше: нужно было гасить зажигательные бомбы в ящиках с песком. Иногда ходил с ней и я.
Не верили укоренившемуся слуху, будто первопричиной голода стал пожар продовольственных Бадаевских складов после немецкой бомбежки. Могло ли все содержимое складов погибнуть от одной бомбежки? И вообще – неужели громадный город полностью зависел от одной лишь группы складов, даже если она большая? А не был ли этот слух выгоден ленинградским начальникам или властям, куда более высоким? Или – больше того – ими и «запущен»? Свалить страшный голод на немецкую бомбежку и на нерадивых хозяйственников, которые чуть ли не всё продовольствие для огромного города якобы собрали в одно место, положили все яйца в одну корзину…
Был и другой слух, но его передавали друг другу только шепотом и только самым близким: власти, не надеясь отстоять Ленинград, готовились заминировать важнейшие объекты, а в отношении продовольствия больше всего боялись, как бы оно не досталось врагу[15]. Не хотелось верить, что это – правда, хотя считали, что от властей можно ждать чего угодно. И впоследствии это, в сущности, признал даже А.И. Микоян. По его словам, Жданов, а за ним и Сталин, в начале войны отказались посылать в Ленинград дополнительное продовольствие – те составы, которые шли в Германию и должны были с началом германского вторжения повернуть обратно.
Вот воспоминания, которые Микоян опубликовал, уже отойдя от активной деятельности: «В самом начале войны, когда немецко-фашистские войска развертывали наступление, многие эшелоны с продовольствием, направляемые по утвержденному еще до войны мобилизационному плану на запад, не могли прибыть к месту назначения, поскольку одни адресаты оказались на захваченной врагом территории, а другие находились под угрозой оккупации. Я дал указание переправлять эти составы в Ленинград, учитывая, что там имелись большие складские емкости.
Полагая, что ленинградцы будут только рады такому решению, я вопрос этот с ними предварительно не согласовывал. Не знал об этом и Сталин до тех пор, пока ему из Ленинграда не позвонил А.А. Жданов. Он заявил, что все ленинградские склады забиты, и просил не направлять к ним сверх плана продовольствие.
Рассказав мне об этом телефонном разговоре, Сталин дал мне указание не засылать ленинградцам продовольствие сверх положенного без их согласия. Тщетно я пытался его убедить, что спортивные помещения, музеи, торговые, наконец, дворцовые сооружения могут быть использованы как склады»[16].
Правда, не было ли и лукавства в этом признании Микояна? Что это были за составы, которые везли продовольствие к западным границам в плодородные области, которые сами снабжали страну? Ведь это было то продовольствие, которое советское правительство поставляло Германии вплоть до первого дня войны.
А об отношении Сталина к ленинградцам – еще одно признание Микояна. «Транспортировка в Ленинград продовольствия по воздуху вначале осуществлялась бомбардировщиками “дуглас”, которые я мог направить туда, поскольку контролировал поставки от союзников.
Транспортных самолетов в современном понимании тогда у нас еще не было. Мне удалось сконцентрировать, за счет других направлений, под Ленинградом около 50 бомбардировщиков “дуглас” и перевозить на них грузы в Ленинград. Дошло до Сталина. Он спросил меня: “О чем ты думаешь? Зачем боевые самолеты используешь не по назначению?” Пришлось уступить. В конце декабря 1941 г. почти все самолеты, доставляющие продовольствие в Ленинград, были переведены на выполнение других заданий.
Кузнецов[17] имел по этому поводу продолжительный разговор с Поскрёбышевым, стараясь, чтобы тот внушил Сталину “необходимость ˝дугласов˝ для снабжения города”. Но Сталин не согласился их отдать на эти цели»[18]. Военный совет Ленинградского фронта просил маршала Кулика, командующего 54-й армией, находившейся между Мгой и Волховом, дать в помощь Ленинграду одну-две дивизии. «Имея такую возможность, Кулик этого не сделал»[19].
* * *
В Ленинграде с середины ноября 1941 года встречи между родственниками и друзьями – если они не жили рядом или поблизости, – почти прекратились. Не было сил. Раньше люди пригибались при свисте снарядов. Теперь уже – нет. Не потому, что стали храбрее, – просто не было сил.
С 20 ноября снова снизили нормы выдачи хлеба. Служащим, иждивенцам и детям – по 125 граммов, да и то с примесью целлюлозы. Вместо жиров, сахара и всего, что полагалось по карточкам, – немного яичного порошка, кусочек американского кокосового масла или что-то еще в этом роде. На месяц! Вода – из Фонтанки, куда десятилетиями сливали нечистоты. Нам-то еще повезло – жили рядом с Фонтанкой.
Кто умел – как-то доставал дуранду, так в Ленинграде называли жмых. Ни мы, ни наши близкие этого не умели. В какой-то мере нас выручило, что мама еще летом запаслась чечевицей. Пережив голод 1921 года в Поволжье, она всегда боялась его повторения. И когда чечевица еще была, пока еще работали коммерческие магазины и столовые, сделала запас. Но, конечно, этого хватило ненадолго. В одной из листовок, которые немцы бросали на город, были слова: «Чечевицу съедите – город сдадите». Долгое время после войны мне казалось – нет ничего вкуснее. И я до сих пор люблю чечевичную похлебку.
* * *
Декабрь 1941-го и январь 1942-го – настолько страшные, что рука не поднимается описывать. Да и не уверен, что так уж отчетливо все помню. От голода память, как и все чувства, притупляется. Восприятие становится не очень отчетливым.
Еще в декабре не стало человека, который тогда называл себя моим «дедом», и его жены. Им было около семидесяти лет. Такие люди в то время выдержать не могли. Они были обречены. «Дед» с женой ушли из дома. Может быть, надеялись на помощь санитарных машин. Замерзли на улице…
Не стало моего двоюродного брата и двоюродной сестры – им не было и восемнадцати. Никто не знал, когда наступит его черед. Обтянутые кожей лица, как черепа, серо-землистого цвета. Врачи говорили, что по губам можно определить, выживет человек или нет: если совсем серые – не жилец. Цинга – два коренных зуба у меня выпали. Оказалось, что хуже всего переносят голод мужчины. Большинство знакомых, умерших еще в декабре, – мужчины. Слышал о случаях людоедства, а свидетельство этого видел только один раз: в соседнем дворе лежали обструганные берцовые кости, похоже человеческие. В магазине видел, как вырывают друг у друга даже маленькие кусочки хлеба. Видел, что голод мог доводить до озверения, но в кругу близких такого не припомню. Скорее – самопожертвование. Помню, меня поразило: бабушка пришла к нам узнать, живы ли мы. Пришла с Васильевского острова к Пяти углам.
Однообразные дни… Без воды, без света, без тепла. Главное – без еды. Не раздевались ни днем, ни ночью. В пальто. В очередях за пайком, за хлебом – сырым, глинистым. Иногда его привозили только к полудню. А бывало, и на следующий день. Очереди занимали с раннего утра.
Я рубил топориком мебель для буржуйки. Начал с мелкой, потом дошел до дивана, но старинный дубовый сервант – не сумел. Не хватило сил. Это его спасло, он сохранился и по сей день стоит у меня в квартире.
«Теперь, через 50 лет после снятия блокады, часто приходится слышать от переживших ее, как они героически сражались с голодом и холодом, становились донорами из патриотических побуждений, дружно и вдохновенно расчищали разбомбленные дома и улицы, чистили и убирали любимый свой город. Все это верно. Только это полуправда. Героизм, конечно, был. Но его, скорее, можно отнести ко второму периоду блокады, когда стали более регулярно поступать в магазины и столовые продукты, появилась надежда на близкое снятие блокады, да и на фронтах обозначились реальные успехи Советской армии. Оставшихся в живых ленинградцев тогда действительно охватило желание скорее восстановить город, создать привычную обстановку прежней своей жизни. В тяжелейший же период, октябрь – декабрь 1941 г. и январь – март 1942 г., у погибающего от голода и холода населения была одна проблема: выжить и сохранить жизнь своим близким и родным»[20]. В этих словах блокадницы В.С. Гарбузовой немало правды.
На что надеялись? Что войска маршала Кулика, генерала Федюнинского возьмут Мгу, Тихвин, прорвут, наконец, кольцо.
К началу марта подвоз продовольствия немного вырос. Чуть прибавили хлебные нормы. Развивался черный рынок: можно было обменять какие-то вещи на хлеб, конечно, нелегально. В нашем доме был продовольственный магазин. Туда – продавцам – ушло многое из того ценного, что мы имели.
Но это были лишь крохотные послабления. Голод продолжался. Люди по-прежнему умирали.
Шла эвакуация по Дороге жизни, по льду Ладоги. Решиться или нет? Надо ли? И хватит ли сил? Желающих – множество, хотя еще в середине февраля пошел слух, что эвакуированные могут лишиться права на свою жилплощадь. Но жизнь – дороже жилплощади. К тому же извечная надежда: авось, не отберут.
* * *
В марте 1942-го началась принудительная высылка из Ленинграда. Людям присылали повестки: выселяетесь, такого-то числа обязаны быть на Финляндском вокзале. По какому признаку выселяли? Никто ничего не объяснял. Говорили о якобы трех категориях населения: немцах, эстонцах и тех, кто уже раньше был репрессирован.
Высылать тех, кто и так-то, может быть, не доживет до завтра, умрет от голода! Да, умом Россию не понять!
Моего отца выслали (снова в Сибирь) 19 марта 1942 года, и его ссылка очень подействовала на маму и всех нас.
Мы наскоро собрались и двинулись тоже: бабушка, мама со мной, ее сестра с сыном и жена брата с двумя сыновьями. 25 марта мы на детских саночках привезли свой убогий скарб на Финляндский вокзал. Мороз кончился, снег таял. Отъезд был обставлен чуть ли не празднично: каждому дали по миске каши с двумя сардельками.
Но, чуть отойдя от города, на Ржевке, поезд остановился и простоял там два дня. Когда отправится – никто не знал. О еде не было и речи. Тела тех, кто не выдержал, складывали у подножек вагонов прямо на снегу.
Затем – Борисова Грива, это ленинградская сторона Ладоги. Потом на полуторке – по Ладоге. Нас всех накрыли брезентом, вероятно, чтоб не пугались зарева боев на южном берегу. Я, конечно, брезент приподнял. И увидел зарево. Но, главное, увидел, как грузовик перед нами ушел под лед – попал в воронку. Шоферам было трудно: конец марта. Поверх льда – вода. Дорога жизни по льду уже на исходе.
Дальше – другой берег, Большая земля и путь до Свердловска… 20 дней. На станциях наш поезд обычно отгоняли на самый дальний путь: на ближних – воинские эшелоны, скорые пассажирские. Кормежка – на станциях. За день поезд может пройти три станции, а иногда сутками стоять на полустанках или среди поля. Да если бы и пришел на станцию – попробуй получить свой суп, кашу и чай! С несколькими судками надо пробраться под составами, которые отделяют нас от станции. Иногда их пять или шесть. И все время оглядываешься: как бы не ушел поезд. О его отправке зачастую не объявляли.
Перед нами шел эшелон с высланными из Ленинграда. Говорили, что это были эстонцы, но кто знает? До Большой земли они ехали как свободные, а после Ладоги – под конвоем. Наверно, им получать пищу было еще труднее, чем нам. Во всяком случае, когда наш эшелон приходил на станцию сразу вслед за ними, на перроне, бывало, лежали две горки трупов: в начале поезда и в конце. Иногда их успевали накрыть брезентом, иногда нет.
У нас мучились от кровавого поноса. И откуда-то сразу взялись вши. В Ленинграде у нас их не было.
Дважды обстреливали немецкие истребители: возле станции Буй и где-то еще, когда мы стояли среди поля. Те, кто могли, прятались под вагонами.
До Свердловска доехали не все. В нашей семье – из четырех взрослых только двое. Бабушка, Лидия Петровна Макрушина, скончалась в день приезда в Свердловск. Тетя Лиля, Елизавета Дмитриевна Макрушина-Сырейщикова, еще в поезде. Двух ее сыновей взяли в детдом. Да и нас с мамой ждал невеселый прием. Отчим считал, что нас нет в живых, и у него была уже новая жизнь.
Дальше – скитания ленинградцев в эвакуации.
В результате голодовки у меня очень обострилась врожденная болезнь почек, я три года не учился, валялся по больницам. За два года сдал программу экстерном, а третий год так и не наверстал. Приехал в Москву и лег в больницу, в военный госпиталь на Пироговке.
* * *
Во время войны о ленинградском голоде в советских газетах почти не писали. А после? В 1949 году по приказу свыше закрыли Музей обороны Ленинграда, куда ленинградцы отдавали свои блокадные дневники и личные вещи, надеясь, что память о блокаде не исчезнет. Уничтожили 25 тысяч экспонатов. Руководителей музея репрессировали.
Летом 1986-го на советско-американской общественно-политической конференции в Баку я говорил с американским историком и публицистом Гаррисоном Солсбери. Его книга «900 дней. Блокада Ленинграда» вышла в Нью-Йорке в 1969 году и была к тому времени, наверное, лучшей книгой о блокаде.
Он был настроен мрачно. Легко понять. Ему было уже 78 лет. Эта книга – дело всей жизни (он работал над ней четверть века) переведена на многие языки, а надежда на издание в СССР даже не брезжила. Ее в сокращенном виде опубликовали в 1992 году в журнале «Звезда» (по инициативе академика А.А. Фурсенко), а отдельной книгой – только в 1996-м. Автора давно не было в живых. Тогда-то мы и смогли прочитать в эпилоге, озаглавленном «Ленинградское дело»:
«Не только закрыли Музей обороны Ленинграда, но и конфисковали его архивы, а директора увезли в Сибирь. И не только художественная литература запрещалась вообще или кромсалась цензурой, прятали, арестовывали официальные документы: например, все документы Ленинградского Совета обороны поместили в архивы Министерства обороны, и ни один советский историк не имел к ним доступа, до сих пор они хранятся под грифом высшей секретности… Из памяти была вычеркнута ленинградская эпопея; насколько это физически возможно, создавались “провалы памяти”, как у персонажей Оруэлла, и строительные кирпичики истории – официальные документы, статистика, воспоминания о том, что произошло, – уничтожались или конфисковывались»[21].
Скрывалось и подлинное число погибших в блокаде. Лишь в конце 1980-х и в начале 1990-х стало известно, что погибло до миллиона двухсот тысяч ленинградцев. И что если с Большой земли шли в Ленинград составы с военным снаряжением, то продовольствие долго не поставлялось.
В недавно изданных воспоминаниях говорится, что в первые годы блокады город был оставлен на произвол судьбы. И что в глазах Сталина город был объектом неприязни. «Думаю, что ее причина – чувство собственного достоинства ленинградцев, способность к самостоятельному мышлению»[22].
Да, потом появилось немало воспоминаний и исследований о блокадном Ленинграде. Но все же куда меньше, чем заслуживает гибель миллиона ленинградцев и трагедия тех, кто каким-то чудом уцелел.
Чуковский в 1945 году написал:
В Новой Зеландии или в Америке, —
Всюду, куда б ни заехали вы, всюду, везде одинаково
Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго и Кракова —
На вас молчаливо укажут
И тихо, почтительно скажут:
«Он был в Ленинграде… во время осады…
В те годы… вы знаете… в годы блокады!»
И снимут пред вами шляпы[23].
Не скажу о Новой Зеландии, но в нашей стране отдается ли ленинградским блокадникам дань такой памяти, какой они достойны?
А погибшие от голода в Поволжье в 1921–1922 годах? Один из известных советских историков написал о них книгу «Победа над голодом»[24] – о мерах советского правительства не столь уж, увы, эффективных. А о самих миллионах умерших?
14
Речь на Красной площади 7 ноября 1941 года // Сталин И.В. Cоч.: в 16 т. Т. 15. М.: Писатель, 1997. С. 84–86.
15
В.С. Семёнов, известный дипломат, зам. министра иностранных дел, писал, основываясь на свидетельствах очевидцев: «Жданов праздновал в Ленинграде труса. Он и Ворошилов, отправленный сразу командовать Северо-Западным фронтом, фактически считали падение Ленинграда неизбежным» (От Хрущёва до Горбачёва. Из дневника чрезвычайного и полномочного посла, заместителя министра иностранных дел СССР В.С. Семёнова // Новая и новейшая история. М., 2004. № 4. С. 102).
16
Микоян А.И. Так было. Размышления о минувшем. М.: Вагриус, 1999. С. 35–36.
17
Кузнецов Александр Александрович – партийный деятель, в то время один из организаторов обороны Ленинграда.
18
Микоян А.И. Указ. соч. С. 36.
19
Там же. С. 35.
20
Гарбузова В.С. Предисловие // Болдырев А.Н. Осадная запись (блокадный дневник). СПб.: Европейский Дом, 1998. С. 21.
21
Солсбери Г. 900 дней. Блокада Ленинграда. М.: Пресс, 1996. С. 587–588.
22
Новая газета. 2019. 13 мая.
23
Чуковский К. Ленинградским детям // Ничто не забыто: 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда. 1941–1945. СПб.: ДЕТГИЗ-Лицей, 2005. С. 300.
24
Поляков Ю.А. 1921-й. Победа над голодом. М.: Политиздат, 1975.