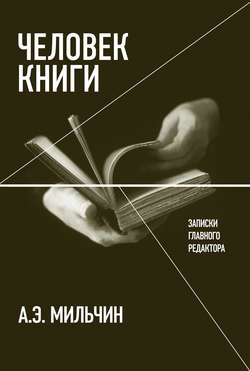Читать книгу Человек книги. Записки главного редактора - Аркадий Мильчин - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
О себе, о семье, о войне
О себе и о семье
Каким я был учеником
ОглавлениеСправедливо будет сказать, что учеником по способностям и успеваемости я был средним, не плохим и не хорошим.
Отчетливо помню, что мне плохо давались описательные дисциплины – география, история, ботаника и т. д. Теперь, кажется, я понимаю – почему. Я не обладал хваткой памятью, такой, которая позволяла бы с одного чтения запомнить содержание параграфа учебника и пересказать его, а именно этого мне хотелось. Прочесть же несколько раз и потом в качестве репетиции пересказать прочитанное самому себе не хватало времени и терпения. А пересказывать своими словами я не умел, не знал, как этому научиться. Моя робость и стеснительность запирали, связывали мой рот при ответах в классе, и мне надо было знать текст параграфа учебника наизусть, чтобы уверенно, без запинки отвечать учителю. Никак не мог я понять, что важно усвоить суть, а не форму, и безуспешно старался запомнить текст учебника в той форме, в какой он был напечатан. Отсюда и страдания, и неуверенность. Да, видимо, и текст учебника не вызывал интереса, был скучным. А вот все дополнительное к теме урока я читал с удовольствием, во мне просыпался дух открытия новых знаний. К тому же это не требовалось запоминать, и, как ни странно, дополнительные сведения, добытые собственными стараниями, укладывались в мозгу сами, и изложить их я мог без всяких усилий.
Все же и память у меня была неважная. Свидетельством может служить такой факт. Я с трудом учил и запоминал стихотворения. Мне нужно было до десяти раз повторить наизусть текст стихотворения, чтобы запомнить его и прочитать вслух в классе. В пятом или шестом классе на экзамене по русской литературе я вытянул билет с заданием: Назовите свое любимое стихотворение и прочитайте его наизусть. Первый вопрос не помню, а этот запечатлелся на всю жизнь. Меня можно было смело зачислить в счастливчики, но… стихи я читать не привык, и любимого стихотворения у меня не было. Стихотворения же, которые мы учили в течение года, выветрились из моей головы. А тут такая удача. С большим трудом я вымучил «Тучки небесные, вечные странники…» из классной программы, да и то мне повезло, что учительница, директор нашей школы Любовь Марковна, человек очень занятой, прервала мое художественное чтение на середине: конца я толком не знал.
Не могу не заметить, что и в последующем, когда я читал лекции на курсах повышения квалификации редакторов или выступал с докладами на конференциях, мне не удавалось формулировать мысли так свободно, без бумажки, как хотелось. Меня преследовала боязнь, что я что-то заранее продуманное либо забуду сказать, либо сформулирую не так точно и убедительно, как сделал это предварительно в письменной форме. Поэтому я всегда запасался подробным конспектом лекции или доклада и лишь изредка заменял их планом из кратких пунктов, которые надо будет развернуть в связную доказательную и убедительную беседу со слушателями. Причем буду ли я невидимой нитью прочно привязан к написанному тексту или смогу свободно излагать то, что хочу донести до слушателей, во многом зависело от контакта с аудиторией. Если я видел и чувствовал, что заинтересовал, увлек слушателей, то отрывался от конспекта и начинал импровизировать, хотя нередко потом и жалел об этом, поскольку выяснялось, что не все из задуманного сумел сказать, пропустил нечто важное.