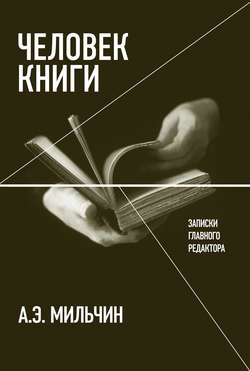Читать книгу Человек книги. Записки главного редактора - Аркадий Мильчин - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
О себе, о семье, о войне
О себе и о семье
Что побудило меня писать записки и зачем я стал их писать
ОглавлениеДолго колебался, стоит ли затевать такое сложное дело, но затем все же стал писать, а вот теперь даже сел за компьютер.
Начала меня подталкивать к этим запискам моя дочь Вера. Слушая кое-какие мои любопытные издательские истории, она не раз говорила: «Почему бы тебе об этом не написать?»
Затем Наталья Евгеньевна Петряева, познакомившись с краткой моей биографией, посланной ей в Киров по ее просьбе (она хотела побольше узнать обо мне), написала мне: «Боже мой, неужели Вы не пишете мемуаров?! Ведь Вам есть что рассказать, и Вы знаете, как рассказать не только о книгах, но и о людях, их делающих». Эти слова Наталья Евгеньевна написала после того, как прочитала еще и беседу со мной в журнале «Книжное дело» (1994. № 1). Наталья Евгеньевна – врач, дочь известного книговеда и краеведа Евгения Дмитриевича Петряева, взявшая на себя руководство кружком вятских библиофилов после его кончины. С ней я познакомился на Первых Петряевских чтениях в Кировской областной библиотеке, после чего между нами завязалась переписка, оборвавшаяся с ее смертью.
И я понемногу стал кое-что записывать через пень-колоду, но с большими перерывами, отвлекаясь на текущие статьи по своей специальности. Все же именно дочери и Наталье Евгеньевне я обязан тому, что написал около десяти очерков-воспоминаний о курьезных эпизодах из жизни издательства «Книга», которые согласилась напечатать редакция журнала «Знамя» и напечатала их в № 2 за 2000 год. Очерки удостоились похвалы такого взыскательного человека, как соавтор моей дочери в ряде работ А.Л. Осповат.
Затем на семейном праздновании моего дня рождения (отмечали 75-летие) мой троюродный племянник Яша Каллер очень горячо, с большим эмоциональным напором настаивал на том, чтобы я обязательно записал то, что помню, хотя бы для того, чтобы родные (в частности, он) могли познакомиться с подробностями моей жизни. Он снова заставил меня задуматься, и я стал наводить порядок в разрозненных записях.
Однако когда у меня появлялась возможность публиковать статьи и книги на профессиональные темы, я откладывал записки в сторону. Все же мне казалось, что эти статьи и книги нужнее читателям, чем автобиографические записки. Тем не менее время от времени мысленно я возвращался к словам Яши. Он несколько раз признавался мне, что я своими разговорами оказал на него немалое влияние. Пренебрегать его просьбой не хотелось. Но, увы, профессиональные интересы были сильнее.
Прежде чем начать хоть какие-то записи, я часто задавал сам себе вопрос: «Зачем мне это делать?» Ведь я не обладаю такой хваткой памятью и таким литературным даром, чтобы эпизоды моей жизни предстали перед теми, кто будет читать текст, живыми и яркими. С другой стороны, я перешагнул за 85 лет. И каких. Ведь я был свидетелем и в какой-то степени участником грандиозных исторических событий. И тут каждое свидетельство по-своему ценно, и некоторые эпизоды моей частной жизни могут иметь не частное значение. Но в целом эти записки вряд ли пригодны для публикации и как печатное произведение достоянием читателей вряд ли станут. Да я на это и не рассчитываю. Причем причин тут несколько.
Во-первых, я как личность, сам по себе, не могу представлять большого интереса: все же я человек хотя и не совсем рядовой, но только в некоем специальном, издательском кругу, а для широкого читателя не могу быть интересен, поскольку деяния мои достаточно ограниченного специального значения.
Во-вторых, литературным талантом я не обладаю, хоть и много написал, но язык и стиль моих писаний – всего лишь язык и стиль грамотного интеллигентного человека, не более того, и написать воспоминания, достойные того, чтобы стать явлением литературы, я не могу.
В-третьих, я пишу эти записки тогда, когда память уже сильно ослабла и многие детали безвозвратно утрачены, а без них трудно воссоздать реальные эпизоды такими, какими они были в жизни. К сожалению, я не вел дневника, а уходя в 1985 году на пенсию, не позаботился о том, чтобы взять с собой копии многих документов, касающихся истории тех издательств, в которых я работал, а ведь это могло бы сделать мои воспоминания более полезными для историков отечественного книгоиздания.
В-четвертых, если я и встречался с некоторыми замечательными людьми, то все же не могу рассказать о них что-либо существенное, ибо многие встречи были непродолжительными, а главное, я не записал по свежим следам, как именно они протекали, что именно эти люди говорили. То же касается и встреч длительных, например с Лидией Корнеевной Чуковской, Норой Яковлевной Галь.
Да и мысль: «А не придаю ли я себе и своей жизни слишком большое значение?» – мелькала то и дело. Отвечал я себе на это так: «Возможно, некоторое преувеличение тут присутствует, но в то же время нельзя отрицать, что кое-что важное для отечественного книгоиздания я сделал, да и многое из его истории знаю, о чем как будто никто не написал».
Вот почему, несмотря на некоторые сомнения, я все же решился на эти записки. В конце концов, даже если их прочитают хотя бы жена, дочь и внук, а может быть, и племянник Яша, и то неплохо. Узнают больше обо мне и о том времени, в котором мне пришлось жить. Хотя мне их немного жалко. Ведь чтение такого большого массива текста отвлечет их от чтения других произведений, быть может, гораздо более нужных и полезных им лично. В общем, те, кому я хоть чем-нибудь интересен, найдут для себя материал, отвечающий их запросу.
Правда, есть еще одна основательная, по сути главная, причина, которая побуждает меня вести эти записки. Это те люди, друзья и знакомые, с которыми меня свела судьба. Общение с ними, их письма составляют безусловную ценность. Кому как не мне рассказать о них, о том, как они жили, что думали о себе и нашей жизни, как переживали и оценивали события в стране и в своем городе. Если не сделаю этого я, этого не сделает никто, и память о них превратится в беспамятство. Только письма моего эпистолярного ленинградского друга Олега Вадимовича Рисса занимают три толстые папки, а письма эти необыкновенно интересны, как интересна и отразившаяся в них его жизнь и судьба.[1]
Поначалу я хотел писать только об издательстве «Книга», поскольку большая часть моей жизни была связана именно с ним. Оно создавалось при моем участии. Оно достигло выдающихся для своего времени результатов в книгоиздании. В нем я проработал с 1964 по 1985 год, т. е. 22 года, из которых последние 18 лет главным редактором. Кому же, как не мне, рассказать об истории его становления, развития и гибели, хотя гибель эта приключилась уже без меня. Правда, на фоне грандиозных перемен в жизни России, совершившихся в конце прошлого и начале нынешнего, ХХI века, все это выглядит мелким. Все так разительно менялось и меняется, что события, казавшиеся раньше важными, сейчас уже не выглядят такими. И тем не менее то, что существовало прежде, не следует предавать забвению. Без истории отдельных людей история страны и общества не может быть полноценно осмыслена.
Поэтому в поисках ответа на вопрос, зачем я пишу, могу ответить и так: в надежде, что если записки попадут в архив, они, если мир не рухнет, смогут стать достоянием исследователей:
• издательского и книжного дела в стране;
• библиофильского движения в 70–80-е годы ХХ века;
• истории литературы и печати советского периода.
Уже по этому вступлению можно понять, что автор – человек не просто скромный, а даже, можно сказать, чрезмерной скромности. Это видно и из его автохарактеристики – главки, которую он сам озаглавил «Каким я представляю себе себя самого, свой характер»:
Если бы меня попросили назвать главные черты моего характера, я бы затруднился это сделать. Во мне много противоречий. Я одновременно:
• трудоголик – и лентяй;
• инициативный, деятельный – и пассивный, склонный плыть по течению, ничего не предпринимая;
• скромный – и тщеславный;
• упорный, упрямый – и легко поддающийся влияниям;
• педант, обожающий порядок, – и неряха, из лени палец о палец не ударяющий, чтобы поддерживать порядок повседневно;
• дисциплинированный – и расхлябанный;
• быстро соображающий (схватывающий на лету) – и крепкий лишь задним умом (особенно в споре);
• настойчивый в достижении важной цели – и нерешительный, готовый отступить при столкновении с трудностями, не умеющий противостоять агрессивному или грубому нажиму; за признание за собой последнего отрицательного качества я подвергся критике Мариэтты Чудаковой, сторонницы взгляда, что мужчина должен быть мужиком, умеющим постоять за себя, защитить свою семью, друзей и т. д.; с ней трудно не согласиться, но, с другой стороны, люди не могут быть и не бывают одинаковыми, а если все будут мужиками, то тогда что – кто кого перемужичит? К тому же пожертвовать собой за близких я вполне способен, но считаю, что добиваться своего можно не только мужиковатостью;
• щедрый – и скуповатый, расчетливый;
• неуступчивый, когда это касается исповедуемых принципов, – и больше склонный к компромиссам (к худому миру), чем к доброй ссоре;
• безрассудный – и трусоватый;
• доброжелательный к людям – и равнодушный, безразличный к ним;
• сопереживающий – и черствый;
• склонный к самоедству, готовый покаяться, если чувствую за собой вину, – и с трудом воспринимающий критику.
И не могу сказать, чего во мне больше – хорошего или плохого.
Для чего я это написал?
Чтобы предупредить читателей этих записок, если таковые все же найдутся, что я предстану в них в более благостном виде, чем был на самом деле.
А еще я должен обязательно отметить одну особенность моего характера, которая очень мне мешала в жизни и работе, а именно робость, стеснительность. Отсюда стремление не выделяться среди других, быть как можно менее заметным и соответствующим образом одеваться.
Одна наша знакомая художница, с которой мы не виделись много лет после окончания института, встретившись со мной и женой, подметила: «Аркадий не изменил стилю своей одежды». И это была правда. Всегда предпочитал холодные, синеватые тона.
Я всегда ощущал себя в компании человеком очень скучным, не знающим, о чем говорить с окружающими, и загорающимся только от разговора о работе.
Неуверенность в себе – один из моих комплексов. Он несколько ослаб после того, как в доме моего приятеля Юры Лейтеса в Москве (было это еще в годы учебы в институте) графолог, посмотрев на мой почерк, уверенно сказал, что это почерк человека талантливого. Не особенно доверяя графологическим выводам, я тем не менее с тех пор почувствовал себя несколько увереннее: «А вдруг правда?»
В первой части записок папа рассказывает о своих родителях и запорожском детстве, а начинает этот рассказ с главки о происхождении нашей фамилии.
1
По этим письмам был составлен многостраничный труд, который папа назвал: «Жизнь обыкновенного необыкновенного человека Олега Вадимовича Рисса, воссозданная по его письмам и воспоминаниям А. Мильчиным»; благодаря редактору Студии Артемия Лебедева Катерине Андреевой, которой я искренне признательна за помощь, этот труд теперь можно прочесть в интернете по адресу: www.oleg-riss.ru. (Здесь и далее все пояснения курсивом в тексте и в примечаниях принадлежат мне. – В.М.)