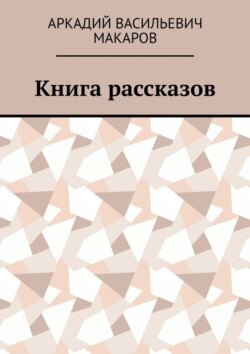Читать книгу Книга рассказов - Аркадий Васильевич Макаров - Страница 13
Не в силе Бог, а в правде
Александр Невский
ШИБРЯЙ
Оглавление– Во, малец-оголец! – дед Шибряй красной клешнёй, крепкой, как пассатижи, ухватил гранёный стакан водки, и медленно, чтобы не расплескать, двигал его по сухой пыльной траве к деревянной ноге, выструганной из круглого полена, с седёлкой на толстом конце для пристыковки культи. Нога была отстёгнута, и дед Шибряй сидел на ней, как на брёвнышке. Культя, выпроставшись из тесной расселины, медленно шевелилась свекольно-красная, наслаждаясь свободой. Она тихо жила отдельно от тела, не подчиняясь ему. По крайней мере, у меня было такое впечатление, что дед Шибряй сам по себе, а культя, сама по себе.
Шибряй вскидывал руки, торопливо глотал водку, чмокал, сосал губами воздух, сморкался, а в это время культя блаженно разгибалась и сгибалась в коленном суставе. Теперь, спущенная на культю обвислая, просторная штанина, подметала землю. Культя в штанине продолжала шевелиться, слепо тычась в потёртую ткань, как поросёнок в мешковину.
Давняя война покалечила Шибряя, откусив у него полноги и почти всю кисть правой руки. Полевой хирург из остатков кисти сгондобил полуживому бойцу Красной Армии, что-то наподобие ухвата, рогача то есть.
Не раз с благодарностью вспоминал бывший солдат своего спасителя. «Насчёт работы – не знаю, а за конец и стакан сам держаться будешь!» – смеясь, говорил врач, когда Шибряй, ещё плохо соображая, очухался после лошадиной дозы наркоза.
Вернувшись, домой изувеченным, но живым, Шибряй всегда отшучивался, если речь заходила о его клешне: « Обидно вот – говаривал он, баб щупать нельзя. Чувствительность потеряна, а так, ухват, как ухват, горшки сподручней в печку ставить».
Всегда хмельной, встречая нас, пацанов, он выставлял клешню вперёд, и с криком: «Забадаю-забадаю! « – бросался к нам. И мы с визгом разбегались врассыпную кто куда; уж очень страшны были эти два красных рога.
Теперь мы с Шибряем сидим на берегу Большого Ломовиса, вкушая радость жизни и свежий чистый воздух. К вечеру от реки тянуло прохладной влагой и умиротворённостью. Разрушенный мост, с брёвнами, схваченными ржавыми железными скобами, покачивался сбоку отражением на волнах. Изломанные брёвна проезжей части моста грустно мокли в воде, как чёрные кости доисторического Ящера.
Дело в том, что однажды весной, мост был взорван пьяными подрывниками. Одна из льдин, на которой находился глиняный горшок с аммоналом, огибая «быки», поднырнула под мост, Огонь бикфордова шнура достал детонатор. Взрывчатка сработала. Я, ещё школьник, был свидетелем, как медленно падали с неба обломки досок и большие куски льда.
Хорошо ещё, что на мосту в это время никого не оказалось…
Мост восстанавливать не стали, льдины больше никто не подрывал, а за селом забухала свайная машина, загоняя железобетонные столбы в илистый берег, готовя опоры под новый мост.
Наша река – Большой Ломовис, как-то незаметно обмелела, истончилась и запаршивела. Невесть откуда приехавший люд, понастроил по берегам реки дома. Не имея здесь корней, раскопал под самый обрез чернозёмы под огороды, заваливая берег бытовым мусором и всякой прочей дрянью.
Местная власть на это смотрела сквозь пальцы, а старожилы села только покачивали головами, да грустно причмокивали, вспоминая какой поилицей и кормилицей была «тады» река.
Теперь Большой Ломовис, как и всё вокруг, хирел, покрывался паршой, а некогда белую песчаную косу пожрали чертополох и сочная канадская лебеда – «американка», от которой воротила морду, даже всегда голодная и ненасытная общественная скотина.
Когда-то в чистых струях Большого Ломовиса водились раки, круглые жирные пескари, а так же такая привередливая к чистой воде рыба, как ёрш. Сейчас всё больше попадались на крючок прудовые породы рыб: небольшие в ладошку, карпята, или тощие, с изъеденной водяной молью чешуёй, плоские караси, перешедшие на полуводный образ жизни, откормленные крысы, резвясь, гоняли утят.
Каждый уважающий себя человек, рыбачить в Большом Ломовисе не осмеливался, и только Шибряй, по прозвищу «Клюкало», не изменял своей давней привычке уходить от семейных ссор и неурядиц, прихватив незамысловатую удочку, на тихий бережок гибнущей речки, пытать рыбацкое счастье.
Прозвище «Клюкало» прикипело к нему, как холщовая потная рубаха.
Кличка имела двоякий смысл: говорила о его склонности хорошо выпить, а по возможности и опохмелиться, и о его деревянной ноге.
Правда, Шибряй ходил всегда без клюки, припадая на правую сторону, как землемер во время работы. Издалека казалось, что он, считая шаги, отмеряет себе дорогу.
Свою деревянную ногу он не раз использовал в пьяных побоищах. Приём у него был простой; когда случалась свалка, он падал спиной на землю, быстро выпрастывал ногу из ремней и, ухватив её здоровой рукой за железом окованный наконечник, ловко орудовал ею, как былинный богатырь палицей, за что пользовался огромным уважением у сельчан.
В таких делах равных Шибряю во всём селе не было.
С Клюкалой, как водиться, мы сошлись совершенно случайно. Здесь у старого взорванного моста, поодаль от села, речка имела более пристойный вид. Главное – не было такой загаженности, и можно уютно посидеть у воды, спрятавшись за сваи.
Сюда меня привели сердечные дела – вожделенная встреча с местной красавицей, которая вчера благосклонно приняла мои ухаживания.
Всё было незатейливо и просто. Распалённая в теснине маленького чуланчика, где за тонкой перегородкой, скрипя и покашливая, чутко спала её мать, она легкомысленно пообещала мне назавтра у этого старого моста вдалеке от любознательный глаз, жадных до чужих тайн.
Не дожидаясь потёмок, я был уже в полной готовности, прихватив на всякий случай бутылку водки, с большим трудом отоваренную (водку давали в то время по талонам) у знакомой продавщицы, подруги моей пассии.
С нею, то есть с бутылкой, меня и попутал старый Шибряй, забредший сюда после очередных баталий с женой.
Привычно отстегнув ногу, он уселся на неё и забросил удочку в тихий омуток. Дед был явно чем-то расстроен, и по рассеянности даже не насадил на крючок червя
Я подошёл, поздоровывался с ним, и напомнил ему про это. Он, почему-то обрадовавшись, ударил себя клешнёй по голове:
– Во! Ё-ка-лэ – мэ-нэ! Совсем худой стал – и весело матюкнувшись, стал медленно насаживать большого и красного, как обмякший фаллос, дождевого червя, косясь намётанным глазом на мой отягощённый карман.
Что делать? Брошенный на меня взгляд говорил о многом, и я не устоял. Пришлось расстёгивать на бутылке тонкий алюминиевый поясок на узком горлышке зелёной бутылки. Стакана не было, и я вопросительно посмотрел на Шибряя.
– А у меня аршин завсегда здесь! – он вытащил из расселины в деревяшке ватную засаленную седёлку, воткнул в дупло руку и вытянул оттуда старинный щербатый стакан с тяжёлыми гранями, дунул в него, выметая соринки, и поставил возле меня. – Во, – заначка! – захвалился дед. – Бутылка со стаканом входит – и молчок! Даже моя бабка до них не достучится. Не веришь? Давай сюда бутылку, сам увидишь.
Но бутылка была уже расстёгнута, а Шибряю, на этот раз, можно было верить не глядя.
Летний вечер долог. Дотемна было далековато, да и хмель в любовных делах сваха хорошая.
Приняв водочки, мы с дедом разговорились.
Известно, что когда собираются пить французы, то заводят разговор о девочках, американцы – о бизнесе, немцы – о машинах, ну, а если пьют русские, то начинают наперебой говорить или о работе, или о политике. Это уж точно.
– Ты что, демократ или как? – осторожно прощупывая меня, спросил Шибряй.
– Да, как сказать? Вроде коммунистом никогда не был.
– Во-во, я тоже так думаю, – дед сглотнул слюну. – Демократы – оно, конечно… Что говорить?
Закуски у нас не было и, налив ещё по половинке стакана, мы потянулись к куреву. Мои папиросы были настолько паршивы, что я попросил у старика махорки. Набив самокрутку самосадом (сама садик я садила, сама буду поливать…) я похвалил деда за табачок. Он, не спеша, в это время мастерил из газетного листа козью ножку, ловко помогая себе языком. Жёлтые крупки табака сыпались сквозь его клешню на землю.
– Я табачок в козьем молоке вымачиваю. Козье – весь дёготь в себя забирает, а медок остаётся – поучал он меня.
Разговор о политике как-то сразу смолк. То ли дед имел, что против демократов, то ли ещё по какой причине. Самодельный поплавок, сделанный из обломка гусиного пера, давно ушёл под воду, и какая-то неразумная рыбёшка устала, наверное, ждать, когда её снимут с крючка.
Схватив клешнёй удилище, дед не вставая, выкинул прямо к моим ногам, приличных размеров белого карася. Светясь чешуёй, карась пружинисто приплясывал возле меня на траве.
– Ах, ты хрен моржовый! Бери его за зебры, за зебры хватай! – нервничал Шибряй.
Карась был, наверное, настолько голоден, что крючок ушёл почти до самого заднепроходного отверстия. По крайней мере, освобождая леску, я вывернул наизнанку все карасиные внутренности. Измученная рыба, наконец-то освобождённая от крючка, лениво шевелила жабрами, выталкивая кровавые сгустки прямо в мои ладони.
– Хе-хе! Вот она, закуска-то – подло посмеивался дед, – курятиной (имея в виду курево) сыт не будешь.
Шибряй схватил карася, подбросил его клешнёй вверх и ловко поймал здоровой рукой.
– Не жалко вина-то? – заботливо спросил дед, глядя, насколько поубавилось в бутылке. – У Машки, что ль Косматки разжился? Ты, малый, с ней поаккуратней. Она мужика, как вот этот карась, в заглот берёт.
Я налил деду остаток водки и протянул стакан.
– Вот таких уважаю! Ты-то ещё своё выпьешь, а моё дело к концу идёт. Стариков завсегда почитать надо. Может быть, вот последний остатний разок вино принимаю…
– Ты что, дед, пить бросаешь, никак?
– Нет, бросать в моём возрасте вредно, Подшипники поплавишь, – дед подержал перед носом стакан, грустно вздохнул, отпил половину, остальное протянул мне. – На, держи! Я не жадный…
Маленько поскоблив карася жёлтым, как рог, ногтём, старик перекусил его, положил одну долю мне на колено, а вторую стал аппетитно жевать. Было слышно, как захрустела под его, ещё крепкими зубами, голова незадачливой рыбёшки.
– Солитёра не боишься? – осторожно намекнул я.
– Это пусть лучше солитёр меня боится, я его в вине утоплю, – похвалялся дед.
Вечер остывал. Свежо и зябко трепетали узкие, как ланцеты, серебристые на исподе листья ивняка. Медленно ворочая крылом, бесшумно проплыла низом большая чёрная птица. Оставляя на песчаной кромке маленькие крестики следов, возле самой воды, выставив острое шильце клюва, пробежал маленький куличок. На том берегу, прячась, в зреющих хлебах, принялся точить ножницы неугомонный коростель. В тёмном небе, неопознанным летающим объектом, повисла одинокая яркая звезда. Не мигая, она весело смотрела на убогое наше пиршество.
Пить, – не работать! Спина не болит. Я растянулся на ещё тёплой, начинающей вянуть траве.
– Ты мне деньжонок не дашь взаймы? – невзначай поинтересовался Шибряй.
– Чего, дед, корову собрался покупать? – пошутил я.
– Корову, не корову, а молочка из-под бешеного бычка принёс бы. Я такие места наизусть знаю.
Эх, какой же русский остановится на полдороги! Особенно если есть на то причина и возможности.
К нескрываемому удивлению и радости моего сотрапезника, деньги у меня нашлись. Достав две десятирублёвки, я протянул их деду.
Сунув ногу в деревяшку, как в разношенный валенок, Шибряй быстро, не по-стариковски вскочил.
– Ты погоди, погоди пока, я мигом! – и заспешил, ковыляя к притихшим поодаль домам.
Моя зазноба, наверное, поостыв, одумалась, что дала такое опрометчивое слово. И теперь, управившись с делами, сонно позёвывая, смотрит, рассеяно телевизор.
Одно воспоминание о её тесном халате, оживило мою изощрённую фантазию до такой степени, что мне захотелось тут же окунуться в воду.
Тёплая, ещё не успевшая остыть, чёрная вода обняла меня, покачивая, как плавучий бакен. Покой и умиротворение. Умиротворение и покой. Нет никакой перестройки, пожаров и революций. Нет заблудившейся по дороге России, а есть мир и тишина. И эта высокая и чистая звезда, как лампада у Господа в горсти, освещает меня и мою малую родину, свернувшуюся калачиком на мягком ложе земли…
У обреза берега, на фоне синеющего неба, заслонив лохматой головой звезду, вытянулся тёмный силуэт Шибряя.
– Ах, ты мля! Всех карасей, поди, испугал! – Радостно возник дед.
Выскочив на траву, я мигом залез в одежду. Сухая и тёплая, он сразу же заслонила меня от зябкого вечернего воздуха.
Вдали от посторонних глаз, я, разумеется, купался нагишом, и теперь наслаждался шелковистым и податливым импортным трикотажем моего спортивного костюма.
Шибряй шумно отстегнул ногу, сунул мне её под нос:
– Во, – смотри какой загашник!
В деревяшке, горлышком вниз, плотно, как патрон в патроннике, сидела она, родимая.
Дед куражился:
– Жалко ногу узковато отесал, двустволки не получилось, а то можно было бы дуплетом стрельнуть.
Потянув за металлический козырёк и сняв кепочку с бутылки, Шибряй, теперь уже на правах хозяина, налил первый стакан мне.
– На, дёргай!
Водка была тёплой, противной на вкус, Но, что поделаешь? С чего начали тем, и кончать надо.
Дед же пил медленно, со знанием дела, и с большим достоинством. Да и куда спешить, когда спешить некуда?
– Ты вот давеча намекнул про патрон в патроннике, а сам, поди, и автомата в руках не держал, – отдышавшись, ввернул Шибряй.
Я служил три с половиной года в Германии, и мне, конечно, приходилось и не раз держать в руках боевой автомат, и даже стрелять по бегущим целям, на полигоне, естественно. Я об этом сказал деду.
Узнав, что я служил в Германии, дед оживился:
– Эх, и побили мы этих гадов в своё время!
– Да и нас они, вроде, тоже не жалели, сказал я. – Тебе где ногу-то оттяпали?
– Это уж потом, у мадьяр под Секешфехерваром – накатано выговорил, не споткнувшись, это трудное название венгерского города, Шибряй. – Вот где вина попили! Страсть! Рванёшь, какой никакой погребок гранатой, а там бочки с вином, старые до того, что плесенью все бока обросли. Подумаешь – дрянь какая-то, а из этих бочек вино хлещет ну, как кровь из борова. Сладкая, и сразу на задницу сажает… Я ведь до войны-то и вкуса этой заразы не знал. Думал, и почему это люди так жадно вино глотают? Лучше бы морс пили. Я всего в своей жизни насмотрелся. Когда раскулачивали, я ещё пацаном был, ну, так лет десять-двенадцать. Жигарь тогда нас всех под монастырь подвёл. Побираться заставил. Зверюга был, а не человек! Ну, ты его знаешь. Он еще и деда твоего к стенке ставил за то, что мой отец у вас в риге хоронился, когда свой дом-пятистенок поджёг, – дед Шибряй что-то вспомнив, горестно вздохнул. – А дело было на Рождество. Ты знаешь сам, праздник большой. Церква-то тогда позакрывали, а у нас вон какой приход был, а и то храм под МТС отдали. Ну, власть властью, а народ-то куда денешь? Народ Бога ещё помнил, и праздники отмечались, – дед поперхнулся. – Как живых вижу. Мать чугунок из печки вытаскивала, мясо парилось. Жили-то ещё, слава Богу, ничего. Отец за чистой скатертью сидел, порядок знал. Только встал перед иконами перекреститься, тут кто-то дверь в сенях ногой вышиб. А это Жигарь, он тогда ещё коммунистом был, со своими шестёрками. Наган – в руки и орёт, как припадочный: «А, сволочи! Мясо жрёте! А комбед картошку пустую, со щами лопать должен. Щас я вас сделаю!» – и бумагу какую-то отцу под нос суёт, мол, имущество ваше описано, а дом под сельский совет приспособим, и, чтобы со всеми сучонками до вечера помещение освободили. У отца моего, царство ему небесное, хоть и спокойный был, а вот-то
голова и задёргалась. Он сгрёб Жигаря и выкинул его с крыльца головой в сугроб. Зашёл в избу и трясётся весь. Мать в голос завыла, запричитала. На улице тихо стало. Вдруг из печки дым повалил. Едкий, такой, дышать нечем. Мы из дома-то и высыпались. Кто что успел прихватить. Это Жигарь трубу соломой забил, чтобы сподручней нас выкуривать было. Ворота открыты и скотина по – дурному орёт. Почуяла беду, наверное. До-олго ещё комбед гулял, по всему селу запах мясной шёл. Стоим мы, значит так перед домом, жмёмся, друг к другу, а дым из открытых дверей клубами выходит, вроде дом горит, а это ещё печка не погасла. Дрова дубовые были. Отец, как сквозь землю провалился, нет его с нами и всё. С тех пор я отца так и не видел. Он, говорили, ещё долго застреленный у церковной стены лежал. Хоронить не велели, народу острастка нужна. Мать, а у неё трое детей было, в чужое село ушла. В своём жить у родственников никак не хотела. Сёстры побираться пошли, а я маленько подрабатывать начал кому дрова нарубить, кому воды натаскать. Хлеба с картошкой в то время люди ещё не отказывали. Так и жили мы у одной старухи. Света не видели. Эх, да что вспоминать! Слёзы одни! А ты говоришь… Давай лучше по глоточку!
Мы с Шибряем молча выпили и затянулись цигарками. Каждый думал о своём. Река, как сторожевой пёс, тихо ластилась у ног.
– Хорошо, хоть война началась. Я до сыта только на фронте и поел, – прокашлялся Шибряй. – А война – она что? На войне тоже живут. Я себя там человеком почувствовал – одет, обут, сыт – чего ещё? Начальство о тебе заботится. А смерти я нет, не боялся, уж очень жизнь паскудная была. Повоевал я так недельки две, сидя в траншее, а потом команда к отступлению была. Вы, говорят, товарищи на провокацию и панику не поддавайтесь, отходите организованно. Ну и подались мы к лесу, а там, в засаду попали. Все и разбежались, кого не покосили. Я с перепугу, чего греха таить, в какую-то чащу забухался, выйти не могу. Кружил, кружил, да так и уснул под корягой. Замаскировался. Винтовку трёхлинейку между ног сунул. Куда же я без неё? Я с ней, как с невестой, так и проспал. Утром очухался – лес. Ни души единой. Только какая-то птица по дурному кричит. Дней пять или шесть я вот так и кружил по лесу. Жрать захотелось, страсть как! Где рябинки, где листик, какой прихватишь – и всё. Я уже слабеть начал. Винтовку, как собаку на привязи, за собой таскаю. Вдруг однажды за деревьями говорок какой-то услышал. Вроде наши. Подобрался, смотрю, – мужики одни, одеты – кто как, а за плечами автоматы немецкие и охотничьи ружья. Я тогда про партизан ещё ничего не слышал. Ну, и увязался за ними наподдалеке. Подойти страшно, а одному в лесу подыхать не хотелось. Стою я так за стволом дерева, гадаю: подойти – не подойти… И вдруг вроде веточка обломилась, и что-то трахнуло меня по голове, как будто бревном каким сшибло. Глаза кровью залило, ничего не вижу, и оглох сразу. Очнулся я какими-то вожжами скрученный. А это меня хохол один, Незовибатько звали, Фамилия у него такая была, прикладом по шее грохнул. Зашёл сзади и заломил. Мы вместе с ним потом на немца ходили. У меня с его лёгкой руки голова всего с месяц дёргалась и гудела, как столб телеграфный. Но, ничего, прошло… Придурок, а не злой был. Вот теперь бы с кем выпить – и в гроб. Ох. И дела мы с ним проворачивали! – дед в потёмках набулькал в стакан на слух и, шумно причмокивая, долго пил водку.
– Накось, поддержи старика! – Шибряй, дотронувшись клешнёй, расплескивая, сунул стакан мне прямо в лицо.
Деда явно уже повело, да и я чувствовал, что натощак пить вредно.
– Слышь? – встрепенулся мой собеседник. – Фамилия, какая, – Незовибатько. У них, у хохлов, все фамилии какие-то… Чудак был человек. Ежей любил. Вспорет ему, бывало, брюхо, и вытряхнет из шкурки. Мясо – жарить. А шкуру, как рукавицу, натянет на руку, и, смехом так, сзади по плечу или по спине и похлопает. Весёлый был! Ему за это не раз по морде перепадало, а всё – за своё. Как поймает ежа, оденет его на руку, – да исподтишка, исподтишка… Вот обожди, случай какой расскажу, – пьяненько хихикнул дед. – Мы с этим Незовибатькой фрица одного заарканили. Командиру сведенья нужны были. Вот и послали нас двоих в деревню за языком. Приметили мы дом один, где немцы квартировали, ну и притаились на задах, за огородами. Дело-то к ночи было. Осень. Примораживать стало. Сидим, ждём. Он, хоть и немец, а перед сном тоже на двор ходит, оправляется. А какие тогда в деревне уборные, – одна крыша, да и то – небеса. Ждём, значит, у кого живот послабее. Долго ждали, аж, ноги занемели. У них, известное дело, галеты – не скоро дождёшься. Матюкаюсь я так потихоньку, вдруг вышел один. Только он стал приспосабливаться, – так я ему сзади шнурок на шее и передёрнул. Он опрокинулся на землю, – и молчок, Вроде, как похрапывать стал. Ну, мы его за руки, за ноги и поволокли к кустам прямо так, со спущенными штанами. А там, в кустах наше прикрытие сидело. Я шнурок чуть приспустил, а мой напарник ему в это время кляпом рот и забил. На плащ-палатку завалили немца, как барина, и – бегом к лесу. Километров так пять или шесть волокли, а потом на ноги поставили. Штык в спину и – «шнель, шнель». Скорее, значит. Ну, доставили мы его прямо к землянке – честь по чести. Командир нам за это на радостях по фляжке спирту выдал, Знающего человека привели. Ну, они там с переводчиком начали шпрехать, а мы со своим дружком Незовибатько, с фляжками – да на кухню! У нас ведь тогда немецкое довольствие было. Не довольствие, а – одно удовольствие. Как что подбирается, так мы сразу дозоры по дорогам расставляем. Интендантский обоз пасём – пять минут испугу, и жратвой обеспечены. Галеты, конечно. Сосиски в баночках. Шоколад, кофе. Ну, и спирт, конечно… – дед шумно сглотнул слюну, и зашарил по карманам. – Вот, мля, где-то семечки были! – но ничего не обнаружив, стал, рассыпая махорку, крутить козью ножку. – Да, были времена, как на жеребце стремена, вскочишь и не знаешь, то ли понесёт, а толи из седла выбросит… Ты как, сосиски немецкие пробовал? – поинтересовался Шибряй. Видно закуска у него не выходила из головы.
– Да приходилось, иногда в самоволке в гаштет заглянуть, дупелёк-другой опрокинуть. У них этого товара на каждом шагу. Только вот горчица какая-то квелая, как детский понос. Сунешь туда сосиску, а на языке преснота одна.
– Вот и я говорю, как солома. Нашему брату этих сосисок надо вязанку, чтобы в животе их почуять. Ну, мы, это, отвлеклись. Немец-то наш жидкий оказался. Всё сразу начальству и выложил. А начальству он на другой день, как сопля на рукаве, – не нужен. Куда его приспособить? Сам подумай! За собой таскать не будешь… Не, пленных мы сразу в расход пускали. Что на них, молиться что ль?
– Да, – поддержал я деда, – действительно, куда его, немца девать? Если бы собака была, то на цепь посадить можно. А-то ведь человек…
– Ну, вызывает на следующий день командир, – продолжает уже порядком захмелевший Шибряй, – а у меня морда не просохла. Голова, как колун. Иду. Стучусь в дверь. Прибыл, мол, партизан Шибряев по Вашему приказанию! Командир улыбается. В хорошем настроении, значит. «Вы – говорит, – товарищ Шибряев и Незовибатько, этого немца нашли, а теперь его потерять надо. Отведи этого Ганса куда-нибудь в сторонку, и билет ему на тот свет потихоньку выдай. Этот фриц, мужик хоть и хороший, а дела мы с ним все сделали, и управились быстро, так что ты его сразу и сделай. Понял?». «Об чём разговор?! – отвечаю.
Я эту задачу уже предвидел, когда мы с Незовибатько с таким нетерпением за сараями его ждали. А этот фриц, ну, никак из землянки уходить не хочет. Пригрелся. Хоть и немец, а понятливый был. Достаёт из кармана фотографию и говорит: – «Хаус! Хаус! Фамилия» – семья, значит. А на фотографии немчура сидит: воротнички белые, чистые, опрятные, и улыбаются все, как на празднике каком. Ну, этот фашист слюни и распустил. Плачет: -«Нихт шиссен! Нихт шиссен!» – вроде как, – «Не стреляй!», если по-нашему. И всё —«Хаус, хаус! Фамилия!» – дом, семья, по-ихнему. И адресок командиру суёт. Напиши, мол, – где и что.
Ну, я его, немца-то, немного встряхнул, чтобы в порядок привести. Пора, мол, и на отходную. Загостился ты здесь.
Вышли мы из землянки, солнце в нос шибануло, аж, чихать я стал. Морозец такой. Лес. Тишина, На сосне иней лёгкий, дунешь, – как с одуванчика. Ну, и пошли мы с фрицем к овражку. Ещё летом мы там завсегда ежевикой баловались. Думаю, – хлопну я его здесь. Зима на носу. Небось, не протухнет. А к весне мы всё равно лагерь снимать будем.
Иду я, значит, так с немцем в затылок, а неподалеку наши ребята дрова на баньку пилили. Суббота, вроде, была, – банный день. Смеются: – «Веди, – кричат, – своего немца, нам подсобить, Дрова попилить, поколоть. Пусть перед смертью разомнётся. Грех свой фашистский искупит честным трудом!»
Ну, подошли мы с фрицем, а ребята ему в руки пилу суют. На, мол, потолкай-потяни её туда сюда. Ну, немец заартачился, никак пилу в руки брать не хочет. «Ах, ты – думаю, – падла фашистская! Буржуй недорезанный! Руки-то, вон пухлые какие! Да белые. Как у бабы. Небось, и пилы-то никогда от рождения в руки не брал. Не держал. А здесь как раз Незовибатько очутился. Похмелёный уже. Морда красная, как варежкой натёртая. Сияет весь. «Я. – говорит, – эту курву немецкую щас на козлы раком поставлю!» Ну, хватает его, вроде как, шутя, и заваливает на козлы, на бревно, значит. А ребята ему мигом под козлами руки-ноги связали. И стоим, курим. Гадаем, – что делать? «А чего думать! – орёт Незовибатько. – Давай мы эту блядь немецкую пополам перепилим. Они моих батьку с ненькой из-за меня живых в доме сожгли!» Ну, и затрясся весь. Хватает пилу, и суёт один конец мне в руки: – чего стоишь, подсоби, мол.
Вообще-то я к чужой смерти привычный, а тут – закрыл глаза, и рванул пилу на себя. Немец сразу обмяк весь, только как-то ойкнул нехорошо. А Незовибатько от меня пилу на себя тянет. Не пила – бритва! Я её сам точил-наводил. На это дело мастер во, какой был!
Ну, дёргаем мы пилу, а из этого фашиста мокрота сразу так и пошла. Много мокроты было. Подёргался он так на козлах, вроде, как рыдать стал, а уж половина его с бревна съехала… Оттащили мы этого фрица к оврагу. Да так с обрыва и спустили.
Я быстро зашарил по траве, ища бутылку.
– Чего искать, чудак? Вот она!
Я задавлено протолкнул в себя тёплую мерзость содержимого.
Дед за мной доделал бутылку до конца.
Две бутылки на голодный желудок сделали своё гнусное дело. Сбиваясь с разговора, Шибряй запел какую-то героическую песню, перемежая слова матерщиной. Я пытался его поддержать.
Мы материли власть, войну, коллективизацию, проклятых фашистов коммунистов и демократов.
Молча стояли за спиной ночь и та яркая немигучая звезда, осветившая чью-то дорогу.
Дед вдруг сразу повалился навзничь и, булькая горлом, захрапел.
Темнота и меня, толкнув в грудь, опрокинула на траву. Звёзды, кружась, как мошкара, облепили мне лицо. Последнее, что я помню, – были слова: «Эх, ты, грёбарь!», и белые брыкучие груди, которые мне никак не удавалось зацепить губами…
А потом был сон тяжёлый и страшный.
Снилось мне: утро, трава под ногами, изба деда Шибряя. «Хаус! Хаос, хаос» – на немецкий лад тараторит дед, показывая, на слепые от раннего солнца два крестовых, в наличниках, окна. На крыше Шибряевой избы, прямо на коньке верхом, сидит комбедовец Жигарь, прилаживая огромный красный флаг, но это ему никак не удаётся, – мешает большой чёрный наган, который он никак не хочет выпускать из рук. Сам Шибряй сидит на завалинке. Босиком. Обе ноги здоровые. Мне видно, как в траве шевелятся его белые и упругие, как грибы, пальцы. Дед держит в руках двуручную пилу. Ну, совсем, как гармошку, От пилы разлетаются красные, огненные брызги. Дед двумя руками, растягивая и сжимая пилу, блаженно улыбаясь, перепиливает себе ноги. Руки у деда в крови. Кровь стекает у него по штанине и, журча ручейком, бежит в заросший крапивой овраг. Напротив деда стоит тот несчастный немец, плачет, тянет к деду, тоже испачканные кровью руки, и умоляет отдать ему пилу – он тоже на ней хочет попилить-поиграть. «Gib mir! Gib mir! Дай мне!» – настойчиво твердит он…