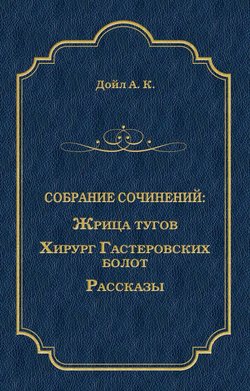Читать книгу Жрица тугов. Хирург с Гастеровских болот. Рассказы (сборник) - Артур Конан Дойл, Исмаил Шихлы - Страница 5
Жрица тугов
Глава IV
ОглавлениеДжон Терстон никогда не отличался особой наблюдательностью, и я уверен, что за три дня пребывания под кровлей его дяди я узнал о жизни дома больше, чем он за три недели.
Мой приятель был всецело поглощен химией и целые дни проводил за опытами и реакциями, радуясь симпатичному собеседнику, с которым можно потолковать о своих открытиях. Что касается меня, я всегда питал слабость к изучению и анализу человеческой натуры, и я находил много интересного в этом маленьком мирке, жить в котором закинула меня судьба.
Говоря короче, я с таким рвением отдался наблюдениям, что начал серьезно опасаться за успешность моих научных занятий.
Первым моим открытием было то, что истинным хозяином Дункельтвейта был не дядя Иеремия, а секретарь дяди Иеремии.
Профессиональное чутье говорило мне, что страсть старика к поэзии, бывшая вполне безвредной в дни его молодости, превратилась теперь в манию, овладевшую его мозгом и не оставлявшую в нем места никакой посторонней идее.
Копперторн, потакая этой мании и направляя ее согласно своим выгодам, добился того, что во всех других отношениях приобрел над стариком неограниченную власть. Он совершенно бесконтрольно распоряжался всеми финансовыми и хозяйственными делами своего принципала.
Надо отдать ему справедливость – у него хватило такта проявлять свою власть мягко и деликатно, не оскорбляя своего раба-хозяина: поэтому он не встречал со стороны последнего никакого сопротивления.
Мой друг, вечно занятый анализами и реакциями, не отдавал себе отчета в том, что давным-давно стал в доме совершенным нулем.
Выше я уже выражал убеждение в том, что если Копперторн и испытывал нежные чувства к гувернантке, то эта последняя и не думала отвечать ему взаимностью. Но через несколько дней я пришел к заключению, что между этими двумя личностями, кроме нежных и не находящих взаимности чувств Копперторна, должна была существовать еще какая-то иная связь.
Я не раз видел, как Копперторн обращался с гувернанткой манером, который нельзя назвать иначе, как повелительным. Раза два-три я снова видел их гуляющими по саду поздно вечером и поглощенными оживленной беседой.
Я никак не мог угадать, что именно могло их связывать. Эта тайна дразнила мое любопытство.
Легкость, с какой люди влюбляются на лоне природы, вошла в поговорку; но я никогда не отличался особенной сентиментальностью и потому относился к мисс Воррендер совершенно бесстрастно. Я принялся изучать ее, как естествоиспытатель изучает какое-либо редкое насекомое, – старательно, но хладнокровно. Для этой цели я так распределил мои занятия, чтобы быть свободным в те часы, когда она выходит с детьми на прогулку. Таким образом, мне много раз пришлось гулять с ней, и во время этих прогулок мне удалось близко познакомиться с ее характером, чего я не достиг бы никаким иным способом.
Она в самом деле много читала, отлично знала несколько языков и имела большие природные способности к музыке.
Но под этим культурным налетом в ней хранилась большая доля природной дикости.
В разговоре у нее подчас проскальзывали словечки, заставлявшие меня вздрагивать.
Впрочем, этому нельзя было слишком удивляться: она рассталась со своим племенем, уже будучи взрослой женщиной.
Припоминаю одно обстоятельство, которое особенно поразило меня. Тут чрезвычайно резко сказалась дикость ее натуры.
Мы шли по проселочной дороге. Мы говорили о Германии, в которой она провела несколько месяцев, как вдруг она остановилась как вкопанная и приложила палец к губам.
– Дайте мне на минутку вашу палку, – понизив голос, обратилась она ко мне.
Я подал ей палку, и она тотчас же, к великому моему удивлению, пролезла в отверстие в заборе и присела. Я все еще удивленно смотрел ей вслед, как вдруг перед нею выскочил из травы заяц. Она швырнула в него палкой и попала; тем не менее зайцу удалось улизнуть, хотя и прихрамывая на одну ногу.
Она вернулась ко мне, вся запыхавшись, но с торжествующим выражением на лице.
– Я видела, как он шевелится в траве. Я попала в него!
– Да, и сломали ему ногу, – холодно добавил я.
– Вы сделали ему больно! – со слезами в голосе вскричал мальчуган.
– Ах, бедный зверек! – в один момент переменив тон, вскричала мисс. – Я, право, в отчаянии, что ранила его!..
Она в самом деле как будто сильно сконфузилась и всю остальную прогулку больше молчала.
Я со своей стороны не мог слишком строго судить ее. Эта сцена была, очевидно, просто-напросто вспышкой старинного инстинкта, который заставляет дикаря бросаться на добычу; тем не менее эта вспышка производила крайне неприятное впечатление в Англии, когда автором ее являлась прелестная, по последней моде одетая дама.
В один прекрасный день, когда ее не было дома, Джон Терстон показал мне ее комнату. В ней было много индусских вещиц, доказывавших, что она покинула родину не с пустыми руками. Присущий Востоку вкус к ярким цветам тоже наложил свой отпечаток на эту девичью комнату. Она купила на ярмарке целую кипу синей и красной бумаги и завесила ею стены своей комнаты, скрыв под нею скромные обои.
Эта попытка воссоздать Восток в скромном английском жилище имела в себе что-то трогательное.
В первые дни моего пребывания в Дункельтвейте странные отношения, существовавшие между секретарем и мисс Воррендер, возбудили во мне только любопытство; но потом, когда я заинтересовался красавицей-англоиндианкой, мною овладело другое, более глубокое чувство.
Я тщетно ломал себе голову, чтобы разгадать соединявшую их связь. Почему она гуляет с ним по ночам по саду, днем как нельзя очевиднее показывая, что ей противно его общество?
Очень возможно, что дневное отвращение было просто-напросто уловкой, рассчитанной на то, чтобы скрыть истинное отношение к нему. Но такое допущение противоречило прямоте ее взгляда и откровенному выражению резких черт ее гордого лица.
А в то же время – как объяснить иначе эту необъяснимую власть над нею секретаря! Эта власть проскальзывала в массе разных мелочей, но проявлял он ее так скрытно и осторожно, что ее можно было заметить лишь при очень тщательном наблюдении.
Однажды я поймал его на таком повелительном, таком грозном взгляде, устремленном на лицо девушки, что минуту спустя едва мог поверить, чтобы это бледное бесстрастное лицо способно было на такие взгляды. В те минуты, когда он смотрел так, она сгибалась и дрожала, точно от физической боли.
«Нет, нет! – думал я. – Тут замешана не любовь, а страх».
Я так заинтересовался этим вопросом, что заговорил о нем с Джоном. Он в это время находился в своей небольшой лаборатории и был поглощен рядом опытов по добыванию какого-то газа, заставившего нас обоих раскашляться. Я воспользовался этим обстоятельством, заставившим нас выйти на свежий воздух, чтобы заговорить об интересовавшем меня вопросе.
– Сколько времени, вы говорите, мисс Воррендер находится в доме вашего дяди?
Джон бросил на меня ехидный взгляд и пригрозил своим обожженным кислотой пальцем.
– Вы что-то очень интересуетесь дочерью покойного и незабвенного Ахмет Кенгхис-Кхана, – сказал он.
– Само собой, – откровенно признался я. – Я впервые встречаюсь с человеком такого романтического типа.
– Будьте осторожны, душенька, – назидательно пробурчал Джон. – Заниматься перед экзаменами таким делом отнюдь не годится.
– Не болтайте глупостей, – возразил я. – Если бы кто-нибудь услыхал вас, он, наверное, вообразил бы, что я влюблен в мисс Воррендер. Нет, нет! Я смотрю на нее как на любопытную психологическую проблему, но и только.
– Вот, вот, и больше ничего. Только проблема.
Джон, должно быть, еще не очухался от своего одуряющего газа. Его тон становился положительно невозможен.
– Вернемся-ка лучше к моему первому вопросу, – сказал я. – Итак, сколько времени она живет здесь?
– Около десяти недель.
– А Копперторн?
– Больше двух лет.
– А не были они знакомы раньше?
– О нет, это вещь совершенно невозможная, – категорически заявил Джон. – Она приехала из Германии. Я сам читал письмо старого коммерсанта, в котором он описывал ее прошлую жизнь. Копперторн же все время безвыездно жил в Йоркшире, кроме двух лет, проведенных им в Кембриджском университете. Ему пришлось покинуть университет при каких-то не особенно-то лестных для него обстоятельствах.
– А именно?
– Не знаю. Дело сохранили в тайне. Мне кажется, дядя Иеремия знает, в чем тут соль. У него есть страсть отыскивать разное отребье и ставить его на ноги. Он наверняка когда-нибудь нарвется с каким-нибудь субъектом подобного сорта.
– Итак Копперторн и мисс Воррендер всего несколько недель назад были совсем чужими друг другу?
– Совершенно. А теперь, я думаю, мне пора взяться снова за мои реторты.
– Плюньте вы на них! – вскричал я, удерживая его за руку. – У меня есть еще кое о чем поговорить с вами. Если они знакомы всего несколько недель, как он мог приобрести над ней такую власть?
Джон посмотрел на меня, разинув рот.
– Власть?
– Ну да, влияние, которое он имеет на нее.
– Милый Гуго, – серьезно начал мой приятель, – у меня нет привычки цитировать Евангелие, но теперь мне сам просится на язык один текст, а именно: «Слишком много знания сделало их безумными». Вы слишком много занимались последние дни.
– Вы, значит, хотите сказать, что никогда не замечали тайных отношений, существующих между гувернанткой и секретарем вашего дяди? – вскричал я.
– Хватите-ка бромистого калия, – сказал Джон. – Это сильно успокаивает, особенно если взять дозу в двадцать граммов.
– Обзаведитесь очками. Вам, право, не мешает обзавестись ими.
Метнув эту парфянскую стрелу, я повернулся и пошел прочь, чувствуя себя сильно раздосадованным.
Не прошел я и двадцати шагов, как увидал парочку, о которой только что говорил с моим приятелем.
Она стояла, прислонившись к солнечным часам; он стоял против нее. Он что-то горячо толковал ей, делая по временам резкие жесты. Склонившись над нею длинным телом, он походил, со своими жестами длинных рук, на огромную летучую мышь, взвившуюся над жертвой.
Я помню, что мне сразу же пришло в голову это сравнение, еще более утвердившееся, когда я увидал ужас и испуг, просвечивавшие в каждой черточке ее прелестного лица.
Эта картинка служила такой прелестной иллюстрацией к упомянутому выше тексту, что мне страшно захотелось вернуться в лабораторию и заставить Джона неверующего полюбоваться ею.
Но я не успел привести моего намерения в исполнение, потому что был замечен Копперторном. Он повернулся и начал удаляться от меня по направлению к лесу; мисс пошла за ним, сбивая на ходу зонтиком придорожные цветы.
Я вернулся к себе, решив взяться за занятия. Но как я ни заставлял себя, мой ум никак не хотел сосредоточиться на книгах: он все время обращался к тайне.
Джон сообщил мне, что прошлое Копперторна не лишено пятен; несмотря на это, ему удалось приобрести огромное влияние на своего патрона. Я объяснял себе это тем тактом и искусством, с какими он потакал и поощрял поэтическую манию принципала. Но как объяснить не менее очевидное влияние этого человека на гувернантку? У нее нет никакой слабости, которой можно было бы потакать.
Эта связь была бы вполне понятна, если допустить, что они взаимно влюблены друг в друга; но инстинкт светского человека и опыт наблюдателя человеческой природы говорили мне, что тут нет места любовному увлечению. А если не любовь, то тут мог быть только страх, – и все виденное мной подтверждало этот вывод. Что же именно могло произойти здесь за эти два месяца, что вселило в надменную черноглазую принцессу такой панический ужас перед этим англичанином с бледным лицом, мягким голосом и вкрадчивыми манерами?
За разрешение вот этой-то задачи я и принялся, да с такой энергией, с таким усердием, что забыл совсем про свои научные занятия и про страх перед грядущим экзаменом.
Я попробовал заговорить об этом с самой мисс Воррендер, когда застал ее одну в библиотеке (дети были отправлены в гости к детям одного соседа-сквайра).
– Вы, должно быть, чувствуете себя очень одинокой здесь в дни, когда нет гостей, – начал я. – По-моему, в этих местах слишком мало развлечений.
– О, для меня очень приятно общество детей, – возразила она. – Но я все-таки буду очень сожалеть, когда уедет отсюда мистер Терстон или вы.
– Я тоже буду в отчаянии в день отъезда. Я никак не ожидал, что мне понравится здесь. Но наш отъезд не лишит вас общества: мистер Копперторн всегда будет с вами.
– О да, это совершенно верно, – как-то уныло согласилась она.
– Это очень милый, любезный и образованный господин, – спокойно продолжал я. – Недаром к нему так привязался мистер Терстон-старший.
Говоря так, я внимательно наблюдал за своей собеседницей.
На ее щеках проступила легкая краска, а пальцы нервно барабанили по ручке кресла.
– Его манеры немного чересчур сдержанны, но…
Тут она прервала меня и сказала, злобно сверкнув своими черными глазами:
– К чему вы начали этот разговор?
– Прошу прощения, – смиренно ответил я. – Я не знал, что он не понравится вам.
– Я имени его не желаю слышать! – гневно вскричала она. – Это имя я ненавижу. Если бы подле меня был кто-нибудь, кто любил бы меня, – любил бы так, как любят там, за далеким морем, – я бы знала, что сказать такому человеку!
– А именно? – спросил я, пораженный этим неожиданным взрывом.
Она наклонилась ко мне так близко, что я почувствовал у себя на лице ее горячее лихорадочное дыхание.
– «Убейте Копперторна», – прошептала она, – вот что я сказала бы. «Убейте его, а потом приходите говорить мне о своей любви».
Я не нахожу слов, чтобы передать всю силу и ярость, которые она вложила в эти слова. Лицо ее приняло такое бешеное выражение, что я невольно сделал шаг назад.
Неужели эта змея есть та самая красавица, которая держит себя с таким достоинством и спокойствием за столом дяди Иеремии?
Я, правда, надеялся при помощи моих хорошо рассчитанных вопросов заставить ее обнаружить свой характер, но никак не ожидал вызвать такой взрыв. Она, видимо, заметила на моем лице выражение испуга и удивления и моментально изменила тон, разразившись нервным смехом.
– Вы, конечно, сочтете меня сумасшедшей, – поспешила сказать она. – Да, да, во мне сказывается мое индусское воспитание. В Индии всегда и во всем не признают половинчатости – в любви и в ненависти одинаково.
«Убейте Копперторна», – прошептала она…
– За что же вы ненавидите мистера Копперторна? – спросил я.
– Собственно говоря, – ответила она, смягчая голос, – слово «ненависть» будет чересчур сильно; скажем лучше «отвращение». Этот господин из таких людей, к которым чувствуешь беспричинное отвращение.
Она, видимо, жалела, что дала себе увлечься, и пробовала теперь пойти на попятный.
Видя, что она хочет переменить разговор, я помог ей в этом. Я сделал какое-то замечание о сборнике индусских гравюр, которые она рассматривала перед разговором. У дяди Иеремии была великолепная библиотека, особенно богатая изданиями подобного рода.
– Эти гравюры не отличаются точностью, – сказала она, поворачивая страницу. – Но эта вот недурна, – продолжала она, указывая на одну из них, изображавшую вождя, одетого в нечто вроде юбки, с ярким тюрбаном на голове, – очень недурна. Именно так одевался мой отец, когда садился на своего белоснежного боевого коня, чтобы вести воинов Дуаба в бой против Ферингов. Они предпочитали моего отца всем другим, потому что знали, что Ахмет Кенгхис-Кхан не только великий полководец, но и великий жрец. Народ хотел иметь вождем только испытанного «борка» и никого другого. Теперь он умер, а все, кто следовал за его знаменем, либо рассеяны, либо погибли в боях, между тем как я, его дочь, живу простой наемницей в чужой далекой стране.
– О, когда-нибудь вы, наверное, вернетесь в свою родную Индию, – сказал я, стараясь хоть чем-нибудь утешить ее.
Несколько минут она рассеянно переворачивала страницы. Затем она вдруг испустила легкий радостный крик.
– Посмотрите-ка! – вскричала она. – Вот один из наших изгнанников. Это один из Бюттотти. Он изображен очень похоже.
Гравюра эта изображала туземца с не особенно симпатичной физиономией; в одной руке он держал небольшой инструмент – нечто вроде кирки в миниатюре, а в другой – квадратный кусок пестрой материи.
– Этот платок – это его «roomal», – пояснила мисс Воррендер. – Само собой, они не показываются с ним в публичных местах. Равным образом он не возьмет с собой и священного топорика, но во всех других отношениях он изображен вполне точно. Я много раз путешествовала с этими людьми в безлунные ночи, с «люгхами» впереди, когда иностранцы не придавали никакого значения громким «пильхау», раздававшимся повсюду. О, такой жизнью стоило пожить!
– Но что такое значит «roomal», и «люгхи», и прочее? – спросил я.
– О, это наши индусские слова, – смеясь, пояснила она. – Вы не поймете их.
– Но под этой гравюрой стоит подпись: «Представитель племени Дакка». А я всегда считал Дакков за воров.
– О да, англичане все считают их такими, – согласилась она. – Конечно, Дакки – воры, но ворами считают многих, которые и не думали быть ими. Этот человек – святой человек; это, по всей вероятности, один из «гуру».
Возможно, что она дала бы мне еще много пояснений насчет нравов и обычаев Индии, так как очень любила поговорить обо всем, касающемся этой страны, но тут я вдруг заметил, что лицо ее изменилось. Она пристально посмотрела на окно, к которому я стоял спиной. Я обернулся и увидал в окне, на уровне подоконника, лицо секретаря.
Признаюсь откровенно, я не мог не вздрогнуть: эта голова с присущей ей мертвенной бледностью лица выглядела так, точно лежала на подоконнике отрубленной.
Копперторн открыл окно, как только увидал, что его заметили.
– Я в отчаянии, что должен обеспокоить вас, – просовывая голову в комнату, сказал он, – но неужели, мисс Воррендер, вы находите приятным сидеть в душной комнате в такую чудную погоду? Не угодно ли вам пройтись по саду?
Несмотря на вежливость слов, они были произнесены секретарем таким сухим, почти угрожающим тоном, что походили скорее на приказание, чем на просьбу.
Гувернантка поднялась с места и, не сказав ни слова, вышла взять шляпку. Это было новым доказательством власти, которой пользовался над ней Копперторн.
Когда он взглянул на меня, на его тонких бескровных губах заиграла нестерпимо насмешливая улыбка. Он как будто вызывал меня этим новым проявлением своего могущества. Он выглядел настоящим демоном в адском ореоле, которым освещали его сзади лучи заходящего солнца.
Он смотрел на меня так несколько мгновений, с дьявольским ехидством на лице. Наконец я услышал его тяжелые шаги, направлявшиеся по дорожке к дверям дома.