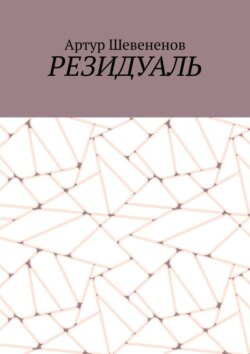Читать книгу Резидуаль - Артур Шевененов - Страница 4
THE RESIDUALE
By Arthur V. Shevenyonov
Немного инквизиции на… инквизицию: продолжение автоморфности
ОглавлениеВ эту жуткую пору, когда «время коротко», а люди подвергаются страшным испытаниям, – не должно ли явить милость, употребив икономию паче акривии? Но первая – не тень ли мудрости любовной, этой соли закона, коей не подменить ригоризмом, ревнованием по букве, верностью в малейшем в ущерб большему? Как видится, еще Христос предлагал надмевающимся блюстительством рассмотреть и рассудить: коль скоро закон весьма широк и много требовательнее видимого, нешто и в этом случае вместят? Итак, чуждо мудрости предпочтение буквы слову, которое тем яснее и живительно, что не сводится к куче омертвелых да обессмысленных букв.
Но что это нас снова потянуло на духовную лирику? Просто в очередной раз напросилось стечение тем-повесток, что важны сами по себе, а тем паче – в связи друг с другом. Так, иллюстрируя и далее испытывая тему совпадений и подкреплений, снова вспомним об авторе того, что зовем талебовостью: будучи оба номинально (хотелось бы надеяться, far from in name only) единоверными, – так ли велики «ширина» и «глубина» нашего совпадения, и должна ли быть значительной даже во вторичном или периферийном, а не только в важнейшем? Вопрос весьма неоднозначный, так как содержит массу аспектов, располагающий к подмене и поспешному агрегированию. Но не столь уж трудно выделить отдельные центральные аспекты, проиллюстрировав оные кейсами – экспериментами на стыке рефутирования и доказывания от противного.
С одной стороны, как и всякая религия, Православие несвободно от субстратов заимствования, с некоего времени (по итогам истории применения, словно правом узуса) воспринимаемого как исконное, так что и охранительство чужого – эта реализация ошибки типа поддержки ложной гипотезы или, в инквизитивных терминах, оправдания ереси – видится как консерватизм в чине тождествования традиции. Этот мета-миф не единственен, и мифы будут атаковать учение извне: к примеру, [мифы] о Троичности в смысле редукции к известным модусам троебожия вроде египетского либо ведического (с «опровержениями» и лаврами по примеру тестирования заведомо абсурдной и некогда столь же академически доминантной «гиперрациональности»). Но сейчас отвлечемся от этих моментов (как и от собственной валидности отдельных пунктов аксиоматизации конкретной системы – в смысле ли догматов или более слабых допущений в рамках анализа «при прочих равных», довольно рутинно перерастающего в обронзовелую догматику). Речь пойдет именно о соотнесении органичном, внутреннем, как и совпадении альтернативных видений, в том числе в рамках поиска единого (возможно, представимого альтернативно как этакого мультиверса преломлений). А также о случаях, когда частное не только тестируемо соотнесением с целым, но во много и вмещает таковое. Случаи редкие, сродни подозреваемой единственности реализации жизни и разума на Земле вопреки потенциальной множественности кандидатов среди «сложных событий» с малой композитной вероятностью оказаться случайными. Это едва ли сводимо к «черным лебедям» как роду outliers – наблюдений или кейсов слишком крупных да с диспропорциональным размером эффекта, чтоб не «испортить» линейных регрессий или даже Бейес-поправок (обновлений приоров). (Читатель, наверное, уже заметил, что имя Bayes передаем как «Бейес» во избежание ненужного, вводящего в заблуждение созвучия с англ. bias=«искажение, предубеждение», как ни связуйся и сия неприятность с резидуалью.) Хотя бы тем, как едва ли могут рассматриваться в привычных терминах малых, гладких, маржинальных изменений выборки.
Но сузим мысленный эксперимент до кейса еще более предметного. К примеру, неоплатонизм, что лежит в основе самых различных систем верований – от православия до гностики, ислама и каббалы, – может ли тем самым служить необходимым либо достаточным основанием для всякого из них, как и единой базой сравнения и соотнесения? Как ни правдоподобно, едва ли. И патристика, если и являет истинность сверх замечательного согласия в веках и меж культурами да личными «бэкграундами», скорее паче и вопреки шатким заимствованиям из зародышевого язычества (пусть и просвещенного), словно чудо, демонстрирует сие. Примерно то же можно предполагать для Вселенских соборов: едва ли дело в демократической процедуре голосования или даже обилии профессиональных богословов помимо черно-белых клиров и представительству мирян: или речь о чуде благодати, или же вольно иначе всякому скептику провозглашать собственную реформацию.
Примерно то же касается столь давно привычных тезисов, как memento mori. Разумеется, все давно усвоили сию максиму, или даже дополнительную заповедь, как свою искони. Притом, что толковать ее удобно в произвольную сторону по спектру меж иррелевантными крайностями: от манихейского жизнеотрицания (материя как плен, бытие сплошь суета) и буддо-стоического безразличия (всякая часть «реальности» суетна и иллюзорна либо преодолима) до жизнеутвердительного. Но и последний сценарий терпит вариативность толкований: от эпикурейского и гедонистического смакования всякого мига до смиренного чаяния принесения плода по итогам жизни всей, пусть не без промежуточных потерь, падений, трат. Последнее, пожалуй, ближе к православному видению, и здесь нет явного противоречия с талебовым «эмпириоскептицизмом», среди прочего определяющим «штангу антихрупкости» (Талеб 2014), или баланс (возможно весьма диспропорциональный, или асимметричный в части весов распределения), как и волюнтаристское истолкование «практики как мерила правды». Так, вместо марксистского «точка сидения определяет точку зрения, бытие – сознание» в классовом разрезе, предлагается «рисковать собственной шкурой»: дескать, только серьезность ставок определяет качество принятия решений и свободу от «людической иллюзии», или смешения лабораторно-игрового и реального поведенческих контекстов. Как ни верно начало критики (а ваш искренне зрел в этом «голого короля» еще в бытность философским младенцем, ибо все эти эксперименты-за-конфеты едва ли имитировали жизненную насущность, а тем менее – нижнюю грань, не подлежащую тривиальному росторгу), все же налицо подмена достаточного необходимым. Иначе алчность и репугнантность снова становятся адекватной подменой рациональности (в т.ч. когнитивной), а многое на кону – якобы гарантией правоты и совершенства гипотез. Даже Отцы Церкви под страхом геенны огненной, для коих блаженнее тысящекрат сожженным быти, неже о чесом согрешити, едва ли вольны были гарантировать правоту догматизации вне смиренного упования на милость и промыслительное утешение свыше. Как начало и конец фатализма. Вполне и просто сродни открытости невзыскующей, «держанию добра» по «испытании всякого духа» (что не эквивалентно изначальной невзыскательности), «простоте голубей при мудрости змеиной», пути крестному и подвигу веры Авраамлей и Моисеовой.
Не знаю и не стану судить на данном этапе, насколько близки талебова «штанга» и мой «леверидж-опцион» открытости. (Обязаны ли мы вообще в чем-либо сходиться сверх того, что оба исповедуем Православие, где поощряется согласие о главном и разномыслие в прочем?) Но его избыточный фатализм граничит со своей противоположностью – недолжным волюнтаризмом. Ибо первый исповедует агностическое неведение о природе и истоке значительных, судьбоносных событий (многие из коих – поворотные моменты – вполне рукотворны и структурно примитивны, а не только реплицируемы), в меру принципиальной критики [платоновости] как этакого рода постмодернового отвержения структур как таковых, включая ведение истоков и отношений, или переходов. Последний же (волюнтаризм в дизайне квазипортфеля выбора) словно назначает заведомо произвольные веса, соответственно, большему и малому рискам. Положим, магнитуды Х и х либо их распределение (Х, х) и впрямь экзогенны, тогда как баланс весов меж ними – единственное и достаточное, что можно выбирать для оптимизации эффективности чаемых выплат: Шарп-метрики и пр.
Но реальность красивее, ежели веровать в таковую возможность – или балансировать меж мерами красоты.
Так, модель жизнеутверждения обнаруживаем и у Антония Сурожского, причем со ссылкой на Виктора Гюго: «если юности свойственен огонь в глазах, то старости приличествует очами же излучаемый свет». Столь же правдоподобно (и мнимо приписываемо православности) культивировать приготовление к смерти, причем в смысле отрицания временной жизни как суеты, сколь необходимо обличить сей миф как слабую форму лжесвидетельства. Антоний предлагает ценить жизнь, памятуя, что оборваться все это – суета купно с возможностью любить – может в любой миг. Здесь и только здесь «поворотный момент» непроизволен, как исконен и фатализм конструктивный.
Но, рассмотрев, не найдем ли приложения принципа, пронизывающего наше повествование красной нитью с первых строк: простота – о полноте? Не всякий миг в отдельности может или должен быть исполнен смыслом, не всякое и событие само по себе, но – в связи с прочими (что предлагалось изначально и как историографический принцип, альтернатива обеим крайностям) или же на некоей полноте – «времени», усилий, ресурсов. Тогда приносится плод, вершится простое вполне. Причем полнота сия может охватить и целую жизнь, а не отдельные интервалы; но всяко не может и не должна жизнь как таковая оказаться тщетною или равно видимо бессмысленною. В любом случае, тогда, апостериорно, опрощаются как магнитуда, так и вес (причем не столько ожидаемого платежа-плода, сколько реализуемого) – эндогенизируется то и это, более не балансируя меж извнешним и априорным.
Так не проявить ли гуманизм об икономии, снисходя к немощам благоупасаемых? Что и делаем, призывая не размениваться: на худшее, меньшее, суетное и бессмысленно же расточительное. Чем экспериментировать, выбирая на мириаде меньшего, не проще ли обратить взор к полноте? Впрочем, это может потребовать честности предельной, весьма рискованной – едва ли терпящей априорную лояльность или безусловный деферент к авторитетам. Посему, тестируя Православие с тысячи подходов, я и остаюсь верным, что не частного держался и не идолам удобной условности кланялся. Но о сем частном в конце реализуется целое и полное – то, что роднит розных сперва принципиальной открытостью, затем и доказанностью надежного. Словно воплощение традиции в чистом виде – не наслоение охраняемых мифов и заимствований, но то исконное, что связуется с окончательным, как Усия – с Троичностью, указывая на полноту видения Единства. Резидуали, о коей речь позже. Пути, о коем и реализуется на деле жизнь, при всем потенциале путей альтернативных, априорных. Примерно как с Землей, этой точкой сходимости жизни и разума – малым пересечением многого, «узкими вратами». Когда ни времени, ни ресурсов искать далее, уклоняясь в суетные игры, уж нет. Да и имелись ли?..
Сколь красива апостериорная щедрость учения и этнокультурного кода, готового делиться и знакомиться, столь нелепо и неказисто стремление тиранично навязывать и постулировать необходимость в достаточном (а тем паче – в недостаточном, как и вообще подмене одного другим). Чем грешат и окоснелый «научный метод», и либерализм (не терпя ни альтернатив, ни ответственности пропорционально власти) – иронично ровно в том редком случае, где демократия не только полезна, но и необходима, в смысле реализации свободы о мысли, а не о бегании мышления как издержек либо потенциала опасного инакомыслия. Сколь прекрасно и торжественно смиренное осознание недочетов и мены, столь уродливо горделивое непризнание того и сего. Но стоит ли дивиться тому, сколь чужды автоморфности идолы? Сколь богопротивны в том, как не признают ими же поставляемых законов, мня себя иммунными, неизреченными, всевластными вне жертвенности и праведности.
А меж тем, инквизициям (методам, клубам-режимам) не мешало бы… исповедаться, покаяться, обратиться – как минимум, пройти инквизицию же. Иного пути к восхождению, воскресению, творчеству как творению из ничего, нет. Сама по себе критика всякой альтернативы как таковой есть род опасной прелести. Род риска, неприемлемого всем – самой жизни. Опасности ультраэкзистенциальной. Как следствие отказа от ультралиберализма (полной свободы искания в доброй совести) и ультрареализма (поиска главного – реальности, что стоит за так или иначе тестируемыми видимостями). Правоверия как такового. Которое не сводится к банально-спорной взвеси гедонизма и аскетизма, смешанной стратегии меж крайностями – ни к эллинской мере, ни к западной умеренной размеренности. Но к мудрости как третьему, объемлющему, восходящему без возношения, любвеутверждающему без заклания правды-как-таковой. И без поиска смысла в прагматично-упрощающем, коллективном бегании такового.