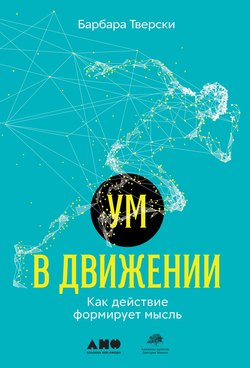Читать книгу Ум в движении. Как действие формирует мысль - Барбара Тверски - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Мир в уме
Глава 1
Пространство тела: пространство – для действия
Тела и их части
ОглавлениеПри классической ориентации особенно эффективное (как и для объектов) распознавание тел обеспечивают контуры – когда мы смотрим на тела извне. Однако в их – и только их – случае нам доступен также внутренний взгляд. Это глубоко личное внутреннее восприятие тела таит в себе много дополнительных возможностей. Мы знаем, как тела ощущаются изнутри и что они могут делать. У нас не может быть этого знания в отношении стульев и даже насекомых (Кафки[5] касаться не будем), собак или шимпанзе. Нам известно, что ощущается, когда мы стоим навытяжку или сидим ссутулившись, взбираемся по лестнице или на дерево, прыгаем и приплясываем, застегиваем пуговицы и завязываем шнурки, поднимаем вверх большой палец или замыкаем в колечко большой и указательный, плачем и смеемся. Мы знаем не только, как это – совершать перечисленные действия, но и – а это более существенно – что значит совершать их, т. е. выпрямляться или сутулиться, плакать или смеяться. Важно то, что мы можем отобразить[6] тела других и их действия на собственные, а это предполагает, что мы понимаем тела других, не только распознавая их, но и интернализируя[7].
Перед этим мы отображаем собственное тело в своем мозге, в гомункуле – «человечке», распростершемся от уха до уха в верхней оболочке мозга, его коре (см. рис. 1.1). Кора – это толстый бороздчатый слой поверх эволюционно более старых частей мозга. Снаружи мозг выглядит как гигантский грецкий орех. И подобно этому плоду мозг разделен спереди назад на две не вполне симметричные «половины», или полушария – правое и левое. По большей части правое полушарие управляет левой стороной тела и получает сигналы от нее, левое – наоборот. Каждое полушарие делится на равнины, так называемые доли, разделенные впадинами, или бороздами. Трудно говорить о коре головного мозга не в географических терминах, и, безусловно, имеются аналогии между формированием равнин, пластов и впадин на земле и в мозге. Складки создают дополнительную поверхность, важную как для земли, так и для мозга. Входные сигналы от различных сенсорных систем[8] частично идут по собственным каналам в отдельные доли коры, например зрительные – в затылочную долю в задней части головы, а звуковые – в височные доли над ушами. Каждая доля поразительно сложна, имеет много областей, много слоев, много связей, много типов клеток и много функций. Что примечательно, даже отдельные нейроны могут быть специализированными, т. е. отвечать за распознавание определенного ракурса лица или отслеживание объекта, движущегося за ширмой. В мозге человека их миллиарды. По свежим оценкам, 86 млрд.
В действительности вдоль центральной борозды расположились две пары гомункулов: одна отображает ощущения от тела, другая – двигательный сигнал, поступающий к телу. Пара с левой стороны мозга отображает правую сторону тела, а та, что с правой, – левую. Сенсорный и двигательный гомункулы смотрят друг на друга. Двигательный гомункул вынесен (возможно, существенно) в переднее (научно выражаясь, фронтальное) расположение, сдвинут к глазам и носу. Он управляет выходным сигналом, указывающим мышцам, как двигаться. Сенсорный гомункул расположен ближе к задней части головы (дорсально, от лат. dorsum – тыльная сторона). Он передает входной сигнал от всевозможных ощущений, на которые реагирует наше тело: расположения в пространстве, боли, давления, температуры и многого другого. Гомункулы – странные маленькие человечки с непропорционально большой головой, гигантским языком, громадными ладонями и хилыми телом и конечностями.
Невозможно не заметить, что пропорции коры головного мозга сильно отличаются от пропорций тела. Размеры репрезентаций разных частей тела в коре головного мозга не отражают размеров соответствующих частей тела, а пропорциональны количеству нейронов, приходящих в них или исходящих из них. Если конкретно, то у головы и кистей рук больше кортикальных нейронов относительно их телесного размера, чем у туловища и конечностей. Большее количество нейронных связей означает большую чувствительность в отношении сенсорики и более артикулированное действие в двигательном отношении. Непропорциональные размеры элементов коры головного мозга представляются глубоко обоснованными, если вспомнить о множестве точных действий, которые должны выполнять лицо, язык и кисти рук, и о сенсорной обратной связи, необходимой для управления этими действиями. Наш язык участвует в сложных скоординированных действиях, необходимых для жевания, сосания и глотания, для говорения и пения, а также для многих других видов деятельности; список вы можете продолжить сами. Наш рот улыбается и кривится в недовольстве, выдувает пузыри, свистит и целует. Пальцы и кисти рук стучат по клавиатуре и играют на пианино, бросают и ловят мяч, плетут и вяжут, щекочут младенцев и гладят щенков. Напротив, пальцы ног используются удручающе мало, почти ничего не умеют и не привлекают нашего внимания – пока мы их не ушибем. То, что функциональная значимость превалирует над размером, глубоко укоренено в нас или, правильнее сказать, находится у нас прямо в верхней части головы.
Значимость берет верх над размером не только в головном мозге, но также в речи и мышлении. Мы убедились в этом в ходе лабораторного исследования. Сначала мы выяснили, какие части тела чаще всего упоминаются в разных языках. Согласно закону краткости Ципфа, чем чаще используется термин, тем короче становится: например, метро[9], ТВ, НБА. Было высказано предположение, что если часть тела имеет название в разных языках, то она важна независимо от культурного контекста. В топ-7 вошли голова, кисти, стопы, руки, ноги, грудь, спина. Все имеют короткие названия и действительно очень важны даже в сравнении с другими полезными частями тела, такими как локоть или предплечье. Мы предложили одной большой группе студентов ранжировать эти части тела по значимости, а другой группе – по величине. Как и ожидалось, аналогично гомункулу в головном мозге, значимость и размер не всегда совпадали. Значимость отражала размер корковой территории, а не телесные габариты: голова и кисти были названы очень значимыми, хотя они не такие уж большие, а спина и ноги, пусть и крупные, получили более низкий уровень значимости.
Затем мы задались вопросом: какие части тела люди быстрее всего распознают – большие или важные? Мы попытались получить на него ответ двумя способами. В одном исследовании участникам показывали пары изображений тел, каждое в своей позе и у каждого выделена какая-то часть. Навскидку кажется, что люди должны быстрее находить крупные части. Чтобы сделать все части равноправными независимо от размера, мы выделяли ту часть тела, о которой спрашивали, точкой в центре. Во втором исследовании испытуемые сначала видели название части тела, а затем изображение тела с выделенной этой частью. В обоих экспериментах в одной половине пар изображений была выделена одна и та же часть тела, а в другой половине – разные. Участникам предлагалось указать «то же» или «другое» как можно быстрее. Задание это легкое, ошибок было очень мало. Нас интересовало время реакции. На что люди будут быстрее реагировать – на значимые или на крупные части тела? Вы, наверное, уже догадались, что значимые части распознавались быстрее.
Триумф значимости над размером оказался еще заметнее при сравнении частей тела, обозначенных словами, чем при сравнении изображений частей тела. Название – это цепочка букв; оно лишено конкретных характеристик картинки, таких как величина и форма. Следовательно, название более абстрактно, чем изображение. Аналогичным образом ассоциации с названиями объектов более абстрактны, чем с их изображениями. Названия предметов отсылают к абстрактным характеристикам, таким как функция и значимость, тогда как картинки с предметами связаны с конкретными характеристиками, воспринимаемыми органами чувств.
Первый факт общего характера, который полезно запомнить: ассоциации с названиями более абстрактны, чем ассоциации с изображениями.
Помните, что все части тела, использованные в наших исследованиях, были значимыми в сравнении с такими общеизвестными, но менее важными частями, как плечо или лодыжка. Примечательно, что слова, обозначающие каждую часть тела, – голова, кисти, стопы, руки, ноги, грудь, спина – имеют множественные расширенные применения, настолько распространенные, что мы не осознаем их «телесного» происхождения. Вот лишь несколько примеров: глава государства, потерять голову; правая рука (о человеке), из первых рук, опустить руки; подножие горы, ножки стула, ног под собой не чуять, уносить ноги, встать на ноги; лицо компании, первое лицо государства; прикрыть спину, действовать за спиной[10]. Обратите внимание: в некоторых из этих словоупотреблений с переносным смыслом обыгрывается внешний вид части тела в сочетании с пояснением, как в случае спинка и ножки стула; другие используют функцию части тела, скажем глава государства и встать на ноги. Конечно, названия многих других частей тела также имеют расширительное переносное употребление: можно «и пальцем о палец не ударить» и «во все совать свой нос». Вспомним и многочисленные места, что притязают на звание пупа земли, – чтобы посетить их все, придется путешествовать много месяцев; пуп – это удивительная точка у нас на животе, остаток «линии снабжения», когда-то соединявшей нас с матерью. Начав обращать внимание на употребление слов в переносном смысле, замечаешь и слышишь их повсюду.
Подобно знанию пространства, мы получаем знание собственного тела посредством нескольких органов чувств. Мы видим свое тело, как и тела других. Мы слышим, как звучат наши шаги, хлопают ладони, щелкают суставы и говорит рот. Мы чувствуем температуру и текстуру, давление, удовольствие и боль, расположение своих конечностей благодаря как ощущениям от поверхности кожи, так и вследствие проприоцепции – ощущения своего тела изнутри. Нам незачем смотреть, чтобы знать, где находятся наши руки и ноги, мы чувствуем, что потеряли или вот-вот потеряем равновесие. Для того чтобы просто стоять и ходить, нужна невероятно тонкая и точная координация множества сенсорных систем – а если нужно забросить мяч в корзину или пройтись колесом! Мы не рождаемся с этими умениями.
Младенцам предстоит научиться очень многому, и они учатся очень быстро: их мозг за секунду создает миллионы синапсов – связей между нейронами. Вместе с тем мозг и уничтожает синапсы, иначе он превратился бы в месиво, где все соединено со всем, в орган, наделенный многочисленными возможностями, но непригодный к сфокусированному действию, не способный усилить важные связи и ослабить малозначительные, выбрать одну из массы возможностей и направить ресурсы на действие. Наряду с прочим уничтожение синапсов позволяет быстро распознавать объекты в мире и подхватывать падающую чашку, но не горящую спичку. Однако этот процесс имеет свою цену: мы можем принять койота за собаку, а тяжелый камень – за резиновый мяч.
Отсюда следует Первый закон когниции: за любое приобретение приходится платить. Поиск лучшей из многих возможностей отнимает время и утомляет. Обычно мы просто не имеем достаточно времени или энергии, чтобы найти и обдумать все варианты. Это друг или незнакомец? Собака или койот? Мы должны быстро вытянуть руки, если нам бросили мяч, но столь же быстро увернуться, если в нас швырнули камень. Вообще жизнь – это цепочка компромиссов. В данном случае имеет место компромисс между тщательным рассмотрением возможностей и эффективным и продуктивным действием. Этот закон, как и все остальные в психологии, является упрощением с обычными оговорками мелким шрифтом. Тем не менее он настолько фундаментален, что мы будем снова и снова к нему возвращаться.
5
Аллюзия на повесть Франца Кафки «Превращение» (1915). – Прим. ред.
6
В оригинале здесь и во множестве аналогичных случаев используется глагол map, который адекватнее всего передается как «отображать(ся)» или «задавать соответствие». – Прим. науч. ред.
7
Интернализация (в российской психологии чаще используется термин «интериоризация»), буквально «переход извне внутрь», – закрепление в психологических структурах человека образов, понятий, действий, способов поведения и т. д., изначально представленных вовне, например в виде образца какого-то действия, показанного другими. – Прим. науч. ред.
8
Систем органов чувств. – Прим. науч. ред.
9
В оригинале co-op, от cooperation. – Прим. пер.
10
Часть непереводимых идиом заменена воплощающими идею автора фразеологическими оборотами из русского языка. – Прим. пер.