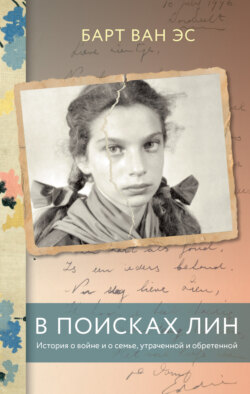Читать книгу В поисках Лин. История о войне и о семье, утраченной и обретенной - Bart van Es - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеЯнварь 2015 года. После нашей с Лин декабрьской встречи, когда я приехал всего на один день, я снова в Нидерландах, чтобы продолжить интервью. Мы решили, что мне полезно побывать там, где она жила. Фотографии помогут пробудить ее память, и я своими глазами увижу места действия. Поэтому я еду в Гаагу.
Исторически Гаага всегда считалась деревней, а не городом. На обычный экзаменационный вопрос «Назовите столицу Нидерландов» ответить трудно, потому что голландцы склонны говорить скорее о «главном городе», чем о «столице», а главный город Нидерландов, бесспорно, Амстердам. В Гааге просто находится резиденция правительства. Хотя Гаагу выбрали местом созыва Генеральных штатов новой республики еще в XVI веке, но такого предмета для гордости, как собственный университет или хотя бы городские стены, город так и не удостоился. Протестантские делегаты семи провинций, отколовшихся от Испанской империи, встретились здесь именно потому, что эта территория была нейтральной и безопасной. Они собирались в крепости, окруженной рвом, в которой и по сей день заседает парламент Нидерландов. В Гааге нет большого порта или торговых традиций, однако будет справедливым считать, что именно тут и родилась страна. Город стоит на песчаных дюнах и болотистом побережье, осушенном в IX веке местными крестьянами. Как и большая часть территории Нидерландов, эти земли, отвоеванные у Северного моря, намыты вручную.
В Гаагу я ехал по трассам, проложенным по бывшему морскому дну – однотонному ковру из одинаковых квадратов. По сравнению с Англией, где я живу с подростковых лет, голландская глубинка кажется безупречно современной – плоская, идеально организованная и однообразная. Каждые несколько минут я проезжал очередной аккуратный фермерский домик из красновато-коричневого кирпича, увенчанный островерхой крышей. Во дворах – чистенькие тракторы и силосные башни и ни следа сельскохозяйственного хлама, какой валяется у фермеров по ту сторону Северного моря. Даже скот – и тот как по шаблону: прямоугольные коровы, проштампованные одними и теми же черными и белыми пятнами в разных сочетаниях. Прямые серебристые канавы делят землю на равные длинные ломти, которые теряются в утреннем тумане.
На подъезде к городу фермы сменяются блестящими сооружениями из стекла и стали: автомобильными салонами, оптовыми базами, шумовыми барьерами, теплицами, внутри которых искусственно поддерживается уровень углекислого газа и освещения. Все эти постройки, как, впрочем, и фермы, кажутся едва ли не декорациями. Голландия из окна машины выглядит как место, лишенное всякой истории.
Свернув с шоссе, я вскоре попадаю в район с обветшалыми террасными домами из красного кирпича. Паркуюсь на Плеттерейстрат, той самой улице, где когда-то жила Лин. В начале прошлого века, когда были построены эти здания, город переживал расцвет. Повсюду висели плакаты в стиле ар-нуво, превозносившие его достоинства – мол, это тихая гавань для жителей перенаселенных сельских районов и для иммигрантов из колоний и с Ближнего Востока. Внезапно из просто города Гаага превратилась в город космополитичный. В 1900 году здесь разместилась организация, которую вскоре назвали Международным судом ООН. Обосновалась она в роскошном, только законченном Дворце мира. Как и на заре своего существования, Гаага снова стала нейтральной территорией, где встречались представители мировых держав. Улица Плеттерейстрат, достроенная в 1912 году, заняла свое место в этом городе надежды.
В наши дни на улице по-прежнему сплошь жилые дома, на углу магазин, два-три частных гаража торгуют подержанными автомобилями. В доме 31 вместо квартиры на первом этаже – маленький спортивно-оздоровительный центр, на матовом стекле желтеет надпись «Физиофитнес». Я нажимаю кнопку звонка и жду. Дверь открывает высокий молодой человек в тренировочном костюме. За ним в холле – двое пожилых мужчин в спортивной одежде: растянутых шортах, линялых хлопковых фуфайках, ярких кроссовках и длинноватых носках.
Меня впускают и оставляют одного в маленькой прихожей, а в комнате, которую некогда снимала госпожа Андриссен, продолжается занятие. До меня доносится подбадривающий голос инструктора.
Справа – шкаф под лестницей, где спряталась Лин, узнав, что Синтерклааса не существует. Прямо передо мной – ее бывшая комната, теперь это кабинет с дипломами тренеров на стенах. В окна проникает бледный январский свет.
Трехкомнатную квартиру я осматриваю быстро. Все очень приличное, обыкновенное и скромных размеров. За кабинетом, в бывшей спальне родителей Лин, теперь стоят массажный стол и анатомическая модель – скелет в красной шапочке с помпоном. К этому помещению примыкает кухонька, где стоит чайник, а на столе лежат брошюры по фитнесу. В запущенном заднем дворике хранится всякая всячина: металлический бак, лопата для уборки снега, велосипед, несколько шлакоблоков, стопка тарелок, поломанные стулья. Я заглядываю через забор и прикидываю, где могла располагаться маленькая фабрика Чарльза де Йонга.
Пробыв в квартире от силы минут десять, я выхожу, вежливо помахав на прощание инструктору и его пожилым подопечным.
Я стою на улице – никаких планов у меня больше нет – и вдруг задаюсь вопросом, что делать дальше. Я ученый, но не специалист по нидерландской истории или нацистскому террору. Если я побываю по всем адресам, где разворачивалась история Лин, будет ли это исследованием? Поколебавшись, но так и не найдя ответа, иду дальше по улице.
К концу межвоенного периода в этом районе селилось все больше евреев. В 1920 году, когда дома еще были новыми, на Плеттерейстрат жило всего семь еврейских семей. К 1940 году их стало тридцать девять. Почти напротив дома Лин стоял еврейский сиротский приют, который въехал в специально отведенное для него здание в 1929 году и вскоре начал принимать беженцев из Германии. А их, после прихода нацистов к власти, в Нидерланды прибыло тридцать пять тысяч.
Люди, что устраивались в этих террасных домах в 1920–1930-х, происходили не из старых сефардских семей, бежавших в Нидерланды из Португалии в конце XV века. Вновь прибывшие были немецкими и польскими евреями, но их маршрут тоже был исторически сложившимся. Множество восточных, ашкеназских евреев, в основном говоривших скорее на идише, чем на иврите, с XVIII века мигрировали в Нидерланды. Первую немецкую (или «Хохдойч») синагогу в Гааге построили в 1720-х. За последующие века тот же путь через континент проделали десятки тысяч евреев. Здесь, в Нидерландах, не было погромов, можно было вступать в гильдии, стать свободным горожанином и даже передать этот статус по наследству. В городе имелись кварталы, населенные евреями гуще, чем другие, но границ между ними не существовало. Поколение за поколением иммигранты перенимали вкусы и привычки соотечественников и становились настоящими голландцами. Поэтому, когда в 1811 году Наполеон напрямую подчинил себе Нидерланды и потребовал провести перепись населения, многие евреи воспользовались случаем, чтобы натурализовать свои фамилии. Например, Иозеф Ицхак, коренной житель Гааги, выбрал простой и очень по-голландски звучащий вариант Йозеф де Йонг.
Потомки первых переселенцев-португальцев держались особняком от новоприбывших – в основном рабочего люда. Они же были своего рода аристократией, тесно связанной с политической властью и торговлей. Сефардские евреи, занимавшиеся в Португалии ростовщичеством после 1179 года, когда Латеранский собор запретил христианам давать деньги в рост, в XVII веке вынуждены были бежать от преследований на юге, осели в крупных портовых городах на побережье Северного моря – и преуспели. Хотя в Голландии сефарды составляли менее одной сотой процента населения, они владели четвертью сахарных плантаций в Суринаме и играли решающую роль в финансовых структурах новой республики. Например, когда в 1688 году король Вильгельм III Оранский отправился истребовать себе британскую корону, именно португало-еврейский банкир Исаак Лопес Суассо выделил необходимые два миллиона гульденов, чтобы оплатить шеститысячную армию шведских наемников.
Если уж на то пошло, в Гааге сефардская община обосновалась и адаптировалась куда увереннее, чем в Амстердаме. Именно в Гааге в 1677 году исключенный из еврейской общины философ Барух Спиноза, известный своим свободомыслием, был с почестями погребен под плитами протестантской церкви Ньеве-Керк. По тем временам такое признание было исключительным, хотя вскоре церковники и нарушили покой могилы, когда друзья философа не смогли вносить плату за место.
Хотя Гаага не имела статуса города[2], здесь тем не менее размещалась королевская резиденция, и поэтому подавать жалобы всегда было легче. Так что, когда в 1690 году у местных жителей возникло небольшое затруднение по поводу некоторых предписаний Талмуда, решение приняли быстро. Все дело в том, что в шабат иудеям запрещается переносить любые предметы в общественных местах. Вопрос был в том, что такое «общественное место». В Амстердаме пришли к выводу: раз весь город – это единое целое, обнесенное стеной, его можно считать «домом». Увы, в Гааге городских стен не было. Однако ученые раввины рассудили, что если два каменных мостика над гаагскими каналами заменить подъемными, то город, по логике вещей, также может быть «домом». С этим вопросом представители еврейской общины и обратились в магистрат: можно ли за ее счет перестроить мосты? Два года спустя, в соответствии с истинным духом политического компромисса, каменные мосты были снесены и заменены подъемными.
Немецким и польским иммигрантам, жившим на Плеттерейстрат в 1920–1930-х годах, подобные расходы вряд ли были по карману, даже если допустить, что и они могли бы толковать Божьи заповеди столь же изобретательно. Однако Речной район был славным, хотя и небогатым. Как и сейчас, он отличался многообразием, и здесь соседствовали разные народы и религии. Нееврейское население высказывало некоторое недовольство количеством мигрантов – что правда, то правда, – и правительство в ответ установило ограничения на въезд. Относились к евреям неоднозначно: одни их боялись и считали социалистами, другие – капиталистами и сионистами, кто-то думал, что они малообразованные и бедные, кто-то, наоборот, – что эти богатые умники расхватали лучшие рабочие места. В 1930-х евреям трудно было получить столик в ресторане. Тем не менее даже в 1937 году за нидерландскую фашистскую партию (Национал-социалистическое движение, NSB) проголосовали всего четыре процента.
Оставив позади бывший сиротский приют, я сворачиваю с Плеттерейстрат на боковую улочку в надежде отыскать кафе. Прохожу мимо здания начальной школы, на фасаде которой аккуратным шрифтом югендстиля указан год постройки – 1923. С тех пор фасад украсили граффити: из нарисованного окна выглядывает жираф, на спине у него улыбающаяся девочка. На стене первого этажа – еще мурал с детскими лицами и плексигласовая табличка, сообщающая, что это протестантская христианская школа. Дальше по улице виднеется что-то вроде торгового квартала, туда я и направляюсь в поисках кофе.
Однако место оказывается вовсе не таким, как я ожидал. Да, оно, как и издалека, выглядит чистым и опрятным, витрины заманчиво сияют, но в них на высоких барных табуретах сидят женщины в нижнем белье, а позади них видны темно-красные кабинки с тусклой подсветкой. На некоторых витринах шторы задернуты, в других – надписи бегущей строкой: «Чувственный массаж», «Две женщины» или «Секс-отрыв». На другой стороне улицы двое мужчин мочатся у стального уличного писсуара, озираясь вокруг.
Пока я шагаю себе дальше, чувствуя себя чужим, трудно не встречаться взглядом с женщинами за стеклом. Глаза мои скользят от одной витрины к другой, и я прекрасно понимаю, что выгляжу как заурядный зевака – вроде большинства мужчин в уличной толпе. В теплом свете, да еще с плотным слоем косметики на лице женщины как будто лишены возраста и напоминают отчаянно скучающих продавщиц. Молодая блондинка смотрит на меня, улыбается, а когда я прохожу, снова утыкается в свой телефон.
Пройдя квартал за три-четыре минуты, я снова оказываюсь на главной улице, которая ведет к вокзалу. Отсюда можно дать круг до Плеттерейстрат, где я оставил машину.
Снова поражаюсь, какой неизвестной представляется мне эта привычная вроде бы страна, из которой меня увезли сорок лет назад, когда мне было три года, и куда я возвращался каждым летом, в каникулы. Теперь я, пожалуй, в большей степени англичанин, потому-то чистенький квартал с проститутками мне так чужд. Голландцы относятся к подобным вопросам прагматично: для них логично заниматься сексом, или принимать наркотики, или получать эвтаназию, не скрываясь, честно и по установленным правилам, а если квартал «красных фонарей» оказывается меньше чем в сотне ярдов от начальной школы, тут уж ничего не поделаешь.
По моим ощущениям, за прошедший час я совершил нидерландское погружение: проехал по безупречному шоссе, увидел протестантскую начальную школу, квартал красных фонарей и дом, некогда принадлежавший еврейской семье, а теперь ставший фитнес-клубом. Это страна толерантности: каждый может заниматься чем угодно и не вмешивается в чужие дела, пока они не затрагивают его собственные интересы. Вот что делает Нидерланды прогрессивным государством. Но, быть может, по той же причине немцам слишком часто позволяли поступать так, как они поступали? Нидерланды 1930-х годов все еще представляли собой размежеванную страну, где бок о бок жили протестанты, католики, либералы – и все они вежливо здоровались, но не более того. Человек соблюдает законы, поддерживает чистоту, все остальное – его личное дело, и ввязываться ни к чему.
Из восемнадцати тысяч евреев, проживавших в Гааге в 1940 году, уцелели две. Из четырехсот старопортугальских евреев, глубоко укорененных в жизнь государства и города, – восемь. Весь еврейский сиротский приют, находившийся в здании через дорогу передо мной, был ликвидирован 13 марта 1943 года – не уцелел никто.
2
Статус средневекового города предполагал, помимо прочего, наличие городских стен. – Примеч. ред.