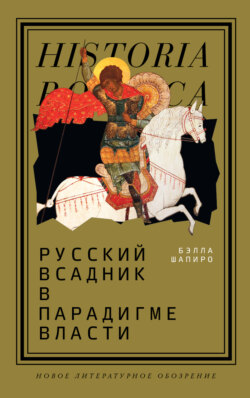Читать книгу Русский всадник в парадигме власти - Бэлла Шапиро - Страница 7
Часть 1. Всадник Московского царства
ГЛАВА 2. ВЕЩНЫЙ МИР МОСКОВСКОГО ВСАДНИКА: САКРАЛЬНОЕ/СВЕТСКОЕ
1.2.1. «ДВУГЛАВЫЙ ПОД КОРОНОЮ ОРЕЛ»: КОНСКОЕ УБРАНСТВО В СИСТЕМЕ АТРИБУТОВ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ
ОглавлениеУбранство коня – одного из наиболее мифологизированных животных в русской культуре, активно формирующих сакральное пространство, – исторически имело глубоко символическую основу. Особое место в этой системе принадлежит коню царскому, парадное убранство которого составляло фон для восприятия образа государя189.
Главными по смыслу были покровцы для покрывания седел заводных лошадей, идущих перед царской каретой190. Покровцы лошадей, находившихся под царственными всадниками, несли перед ними или за ними191. Одним из самых ценных покровцов в царской Конюшенной казне считался «покровец с царствы» начала второй четверти XVII в.192, вышитый по лазоревому атласу «пряденым золотом, серебром и разноцветными шелками; в середине на красном фоне вышит герб Московского государства – двуглавый орел с Георгием Победоносцем на коне в центре; конь вынизан мелким жемчугом. В кайме покровца – десять кругов из белого атласа с вышитыми золотом, серебром, разноцветными шелками и жемчугом гербами областей Московского государства: Казанской, Сибирской, Новгородской, Тверской, Рязанской, Болгарской, Пермской, Вятской и Нижегородской; круги обведены рельефно вышитыми золотом и серебром обводками с жемчужным низаньем; жемчуг обильно украшает все шитье покровца. По краю – серебряная бахрома, подкладка – желтой камки»193. В описи Бутурлина (описи Конюшенной казны, составленной стольником Ф. Бутурлиным в 1706–1707 гг.) этот покровец указан первым среди всех царских покровцов.
Как покровец был декоративным дополнением седла, так и расшитый рельефными золотными узорами конский плат был частью убранства русского арчака. При седловке седла и платы подбирались по принципу внешнего сходства, в том числе сходства орнаментации. Платы расшивались по бархату, по сукну, атласу194 и по алтабасу: так, в царской казне имелся «плат алтабас серебрян; по нем травы шиты золотом волоченым, в травках вшит бархат червчат, да зелен; круживо плетеное с городы, золото с серебром»195. В подобной трудоемкой, но эффектной технике украшались и другие парадные конские вещи, такие как седла, попоны и чепраки.
Золотосеребряное шитье дополнялось металлическим кружевом и жемчужными работами (низаньем и саженьем): эти техники были важнейшими для декорирования светских и культово-ритуальных предметов. На протяжении столетий именно жемчуг выступал основным украшением предметов царского наряда и обихода. Золотосеребряное кружево с включением жемчуга украшало церемониальные вещи (например, завесы к тронам царей Петра и Ивана196), религиозные облачения, свадебные платы (ширинки) и парадное конское убранство (конские попоны, чалдары197 и чепраки). Текстиль, украшенный жемчугом, традиционно служил наиболее эффектным дополнением золота; в русской культуре он ассоциировался с вещественным выражением высокого статуса.
До настоящего времени сохранилось не так много образцов русской жемчужной работы. Лучшие экземпляры в большинстве своем выполнены в Царицыной мастерской палате и других мастерских Московского Кремля (для сложных работ в технике низания привлекались мастера Серебряной палаты). В основном это вещи, издавна хранившиеся в составе царской казны и патриаршей ризницы198. Большинство из них датируется второй половиной XVII в.: этот период стал временем расцвета русских работ с жемчугом; от прочих их отличает композиционное совершенство, сложность техники и разнообразие применяемых материалов.
Одним из таких шедевров является жемчужный чепрак, изготовленный в Царицыной мастерской палате во второй половине XVII в. Это подседельный покров из червчатого бархата, закрывающий спину, бока, бедра и частично голени царской лошади199. Он «бархатный, червчатый, низанный жемчугом, угловатым и круглым, в виде развода из цветов, с коймою и с обводкою вокруг узора из волоченого золота, в виде веревочки; у цветов в срединах, равно и по некоторым лепесткам вставки золотые, чеканные с припаянными гнездами, в которых посажены изумруды и красные яхонтики; с трех сторон чепрака, вместо бахромы, пришиты к золотой тесемочке так называемые ряски или ниточки жемчужные длиною примерно около полутора вершка с закрепами в виде русских пуговок из серебряной позолоченной проволоки. Подкладка под чепраком зеленая канвовая. На чепраке вставок в виде цветков сорок две. На середине репей, в котором посажен красный яхонт, граненый россыпью и кругом его на шести листках посажены через один три лалика и три изумрудца. Во всем же чепраке: яхонтов – 75, изумрудов – 65, жемчуга – 130 золотников»200. Декоративным оформлением служит сетка из золотого шнурка с включением жемчуга. По манере исполнения она схожа с декором, который в XVII столетии носил название „гривы“: с „гривой конской“, т. е. с „плетеной из пряденого золота или серебра сеткой, которою покрывали гриву лошади для украшения“201, и с „гривой одеяльной“»202.
Частью удивительного по красоте конского убранства были «персидские ковры, для лошадей, удивительно вытканные серебром и золотом»203; каждый из которых несли два человека, а также тигровые и леопардовые покровы, серебряные удила, повода из золотного шелка и красный штофный чепрак, украшенный финифтью и кованым золотом. Драгоценный ковер исполнял роль попоны для коня митрополита и в «шествии на осляти»204, символизировавшем Вход Господень в Иерусалим. Шествие было «особой церемонией: митрополит садится на коня, покрытого ковром, которого за повод ведет князь, и если не он, то его сын или самый знатный боярин, – вспоминал итальянец-иезуит П. Кампани. – В… сопровождении толпы народа они торжественно продвигаются к церкви, где совершается богослужение»205.
«Наметные барсы» – парадные конские попоны из шкур экзотических зверей, сделанные на красном текстиле, задействовались в самом роскошном убранстве, где они выступали заменой привычным текстильным покровам206. Выглядели они эффектно: «послам [шлезвиг-голштинского герцога Фридриха III] для въезда были подведены две большие белые лошади, покрытые вышитыми немецкими седлами и украшенные разными уборами… За лошадьми шли русские слуги и несли попоны, сделанные из барсовых шкур, парчи и красного сукна»207. Отмечает дюжину лошадей «в богатых чепраках и седлах, под дорогими покрывалами из мехов рысьих и барсовых» и свидетель торжественного въезда в Москву конного поезда Марины Мнишек208.
Также на седла накидывались шкуры рысей и леопардов, не сшитые в попоны209. «Для нашего въезда царь прислал нам 200 экипажей, запряженных каждый в одну лошадь, очень рослую, – писал персидский дипломат Орудж-бек, – кучера, экипажи и лошади были покрыты львиными и тигровыми шкурами, отчасти для большей пышности, отчасти для защиты от холода»210. В описях царской казны такие покровы упоминаются как «барсы, бабры и ирбасы»211. Стоит добавить, что в «Расходных книгах товарам и вещам для царского обихода» также фигурирует «покровец попугайной желт», небольшой коврик, сшитый из шкурок полутысячи попугаев212.
В церемониях с участием царских лошадей вышеописанные вещи были представлены с большей или меньшей полнотой, разной для верховой и упряжной лошади. Особой роскошью отличалось убранство «выводных» лошадей, сотенные ряды которых вели слуги, предваряя появление царской лошади или царской кареты. Так, в 1600 г. торжественно доставляли в Троице-Сергиев монастырь полиелейный колокол и драгоценную ризу на икону. «Сначала, в течение всего утра, выходили из города различные конные отряды и размещались для встречи царя при его выезде из городских ворот. Около полудня царь отправил вперед свою гвардию, которая была вся конная, числом в 500 человек… За гвардией двадцать человек вели двадцать прекрасных коней с двадцатью очень богатыми и искусно отделанными седлами, и еще десять для царского сына и наследника… За ними вели, таким же образом, двадцать прекрасных белых лошадей для царицыных карет; на этих лошадях были только красивые попоны, а на голове узда из красного бархата», – вспоминал англичанин В. Парри213.
Следом за каретными лошадьми шествовали монахи и горожане, а «позади них вели царского коня <…> а также коня царевича; седло и прочая сбруя царского коня были в изобилии осыпаны драгоценными, прекраснейшими каменьями»214. Далее следовали церковные иерархи, царь, ведший за руку сына, и царица в сопровождении придворных дам. Позади ехали три роскошные огромные кареты, запряженные, соответственно, десятью, восемью и шестью прекрасными лошадьми. За ними шли придворные, и уже затем везли ризу и колокол, сопровождение которых составляло в общей сложности 4 000 человек. Убранство коней, роскошь карет и парадных одежд участников процессии поражали воображение очевидцев.
Наиболее многочисленной группой среди всего парадного убранства царской лошади являются гербовые седла XVII в., включая «седло детское, луки и извести окованы золоченым, расчеканенным травами серебром; на передней луке вычеканены лев и единорог, на задней – двуглавый под короною орел»215. Эти предметы изготавливались для церемониальных нужд двора – не только царской семьи, но ее телохранителей, военачальников и «сотенных людей» Государева полка216. Гербовым декором седел и арчаков были следующие сюжеты: «на задней луке двуглавый орел»; «на задней луке двуглавый под короною орел»; «на задней луке двуглавый орел, лев и единорог; «на задней луке двуглавый под короною орел, между львом и единорогом»; «на передней луке в травах лев и гриф, на задней двуглавый, под тремя коронами, орел»; «луки и извести с… меж трав львом, единорогом и соколами»; «на задней луке и известях всадник, поражающий дракона, соколы в травах, единорог и лев»; «на задней луке двуглавый под тремя коронами орел, на передней единорог и Самсон, раздирающий пасть льва»; и особенный по богатству содержания «меж трав на передней и задней луках двуглавые орлы; на передней орел под короною со скипетром и державою; по сторонам орла: единорог, лев и крылатые грифы; ближе к известям, вооруженные саблями и копьями, всадники и пешие стрелки»217.
Изображение герба на оправе обоих лук седла наиболее характерно для второй половины XVII в.218 Самое раннее седло, украшенное текстилем с гербовым сюжетом, выполнено в Царицыной мастерской палате в годы правления Ивана IV; покрытое вишневым бархатом с вышитыми пряденым золотом и серебром двуглавыми орлами, травами и «инорогами», возможно, оно принадлежало лично царю219.
Другие элементы седельного сбора украшались аналогично. Царские стремена имели гравировку в виде двуглавого орла, которая располагалась в центре круглого подножия220. Сохранились легкие дугообразные стремена из золоченого серебра, выполненные в мастерских московского Кремля для царя Алексея Михайловича: они имеют резное изображение двуглавого орла в картуше221, расположенное традиционно, в центре круглого подножия.
В седельный сбор входили пистолетные ольстры222, оформление которых в парадном убранстве было очень эффектным: «бархатные, шитые травами, золотой канителью, и блестками, с двумя жемчужными двуглавыми орлами на отворотах, украшенными местами изумрудами и красными яхонтами… У орлов: головы, шеи, туловища, и часть крыльев из мелкого жемчуга; вместо глаз две яхонтовые искры, а на срединах туловищ, где обыкновенно бывает Московский герб, по одному треугольному изумруду, в золотых гнездах. В коронах над орлами двадцать четыре яхонта. Три короны, крышки над патронами, обнизь вокруг бархата, подле герба, равно каймы по краю отворотов и средины в шестидесяти четырех травах вышитых на самых ольстрах, низаны по местам одинаковым с орлами жемчугом, местами с обводкой золотым трунцалом и канителью»223.
Гербовыми изображениями украшались и прочие детали конского убранства. Под седло подкладывали покровы различных типов – чалдар, чепрак, попону – которые в парадном варианте также имели символический декор224. Сверху седло покрывалось роскошными, пышно декорированными наметами, покровцами и платами. Обыкновенно все части седельно-сбруйного комплекта представляли комплекс, выдержанный в едином художественном стиле. В едином стиле выдерживалось убранство не только верховых, но и упряжных лошадей, участвующих в парадных церемониях. Так, в число деталей убранства, украшенного гербовыми сюжетами, входили и шорные кровли (часть упряжи на цуг)225.
Одними из наиболее необычных и эффектных украшений царской лошади были цепи (чепи) «из серебра, или вызолоченные, [которые] разделялись на поводные и гремячие; первые были из колец, и висели от удил до передней седельной луки, в виде поводьев, а вторые из нескольких, скрепленных между собою, дутых погремушек, прицеплялись у той же луки и висели иногда ниже живота лошади»226. Цепи входили в число символов царской власти, являясь главной деталью так называемого Большого конского наряда227. Современники отмечают, что эта деталь очень украшала лошадей, производя много «странного шума и сильного звона»228.
Очевидцы вспоминали, как, по случаю пасхальных торжеств, «царь сидел на большом красивом сером коне, увешанном большими цепями из тяжелых золотых или позолоченных серебряных звеньев. Между звеньями кое-где висели прикованные к ним образы орла и святого Георгия»229. Символическим декором цепей были львы, одноглавые орлы с распущенными крыльями, двуглавые орлы и двуглавые орлы «у коих крылья распущены, а в когтях каждого по скипетру и державе», расположенные на восьмиугольных золоченых прорезных звездах230.
Ноги коней также богато украшались: наколенками и подковами «тоже производившими звук от привешенных к ним серебряных цепочек»231, и особыми украшениями у копыт под названием «остроги, в виде шпор, с бубенцами»232. Размещались гербовые символы и на оголови, в том числе на решмах и на «плащах» из набора наузольников233.
Сюжеты декора имели вполне конкретно понимаемую современниками символическую основу. Традиционными для украшения парадного убранства царской лошади были не только изображения ездеца, но и фигуры четырех гербовых животных – грифона, орла, единорога и льва. Система государственной символики с их участием оформляется с 3 февраля 1561 г., когда «царь и великий князь печать старую меньшую… переменил, а учинил печать новую складную: орел двоеглавной, а середи его человек на коне, а на другой стороне орел же двоеглавной, а середи его инърог»234. Реформа царской печати и государственной символики была напрямую связана с новым царским статусом Московского государя. С принятием Иваном IV царского титула, вероятно, следует связывать появление на голове ездеца короны235.
Единорог вошел в систему российских государственных символов с февраля 1561 г.; в течение следующего столетия он периодически из нее выходил и вновь возвращался. Семантика ездеца и единорога в этот период была равнозначна. Часто единорог изображался в паре со львом; сочетание имеет древние корни, но в русской геральдике эта парная эмблема получает наибольшее распространение со времен правления первых Романовых236. В конском церемониальном убранстве чаще всего встречались две композиции: первая – из противостоящих льва и единорога, а другая – из таких же фигур, расположенных по сторонам от орла. Чеканными накладками с одиночными изображениями львов были украшены бархатные тебеньки седла царя Михаила Федоровича. Это седло, входившее в полный наряд царской лошади, было выполнено в 1637–1638 гг. в мастерских Московского Кремля теми же мастерами, которые чуть ранее изготовили царские регалии: венец, державу, скипетр и саадак237.
Четвертым символом был грифон, или, как его называли на Руси, гриф. Его изображения также служили для обозначения наиболее статусных вещей. Так, в царской Конюшенной казне имелся «покровец изорбатной золотной; по нем травы разных шолков. В средине четыре грифа, кругом бахрома золотная. Подложен тафтою зеленою»238. Особое значение покровца подчеркивается материалом, выбранным для его изготовления. Это изорбаф (изорбат, зарбаф) – золотный иранский шелк, одна из наиболее статусных тканей, чье название в буквальном переводе означало «золотая ткань»239.
Эти четыре фигуры (грифон, единорог, орел, лев) в сочетании с ездецом следует рассматривать в качестве единой российской государственной символической системы240, чья аллегорическая образность превращала узкоприкладное241 в ритуально значимое.
Очевидно, что парадное конское убранство, искусно выполненное из драгоценных материалов, какими были золото, золотные ткани, драгоценные камни и жемчуг, представляло не только часть художественно-эстетической и материальной культуры, характеризующей уровень развития общества. Отмеченное государственной символикой, парадное убранство царской лошади приобретало особый статус. Со временем изменяясь в деталях, такое убранство неизменно составляло фон, подчеркивающий значение фигуры правителя. Великолепие церемонии усиливало величие царского образа, а символические сюжеты церемониального убранства, насыщенные гербовыми и геральдическими фигурами, наполняли его новым смыслом.
189
Шапиро Б. Л. Гербовое убранство царской лошади: Россия позднего средневековья и Новое время // История: факты и символы. 2017. № 1. С. 14–26.
190
«Корунные» кареты и телеги занимали не последнее место в формировании эффектного царского выезда. См.: Забелин И. Е. Троицкие походы русских царей. М., 1847. С. 8.
191
Денисова М. М. Конюшенная казна. Парадное конское убранство XVI–XVII веков // Государственная Оружейная палата Московского Кремля. М., 1954. С. 269.
192
Шапиро Б. Л. Церемониальный текстиль XVII века: низаные жемчужные работы мастерских Московского Кремля // Вестник КемГУ. История. 2018. № 1 (73). С. 74–78.
193
Денисова М. М. Конюшенная казна. С. 268. Близко по внешнему виду и по смыслу к покровцам Конюшенной казны примыкали покровцы саадачные: они выносились среди прочих государственных и воинских регалий вместе с саадаком.
194
Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск с рисунками, составленное по высочайшему повелению. Т. 1: Народная гражданская одежда, с 862 по 1700 год. СПб., 1899. С. 23; Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. Ловчий снаряд. М., 1884. С. 144.
195
Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов 1613–1725 г. Вып. 2. М., 1883. С. 499.
196
Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в. // Сборник статей по истории материальной культуры XVI–XIX вв. Труды ГИМ. Выпуск XIII. М., 1941. С. 182.
197
Чалдар – попона с нашитыми металлическими бляхами. Его военное происхождение выдают металлические бляхи или пластинки, нашитые по полю; со временем пластинки заменяются на касты с драгоценными камнями или полностью исчезают (но остается сложная разъемная конструкция панцирного покрова). Поверх чалдара укладывали попону или чепрак, затем седло. См.: Шапиро Б. Л. Текстильное конское убранство в системе атрибутов царской власти // Вестник КемГУ. История. 2017. № 1 (69). С. 75; Gifts to the Tsars. 1500–1700. Treasures from the Kremlin. Exhibition Catalogue. New York, 2002. P. 194.
198
Сегодня находятся в Оружейной палате Музеев Московского Кремля.
199
В основе декоративного решения чепрака лежит низанье жемчугом – круглым «окатным» высокого качества, и более простым неправильной формы, так называемым «угловатым». Из жемчуга на материи выложен цветочный узор с обводкой из волоченого золота веревочкой, из жемчуга же сделана и сквозная сетка в виде «ряски» из жемчужных нитей, окружающая чепрак с трех сторон. Нити сетки имеют длину около 7 см; они заканчиваются закрепами в виде пуговок из серебряной позолоченной проволоки. Сетка расположена на зеленом канвовом подкладе. По манере исполнения эта сетка схожа с жемчужной сеткой подшейного науза и с так называемыми «гривами»: с «гривой конской», то есть с «плетеной из пряденого золота или серебра сеткой, которою покрывали гриву лошади для украшения», и с «гривой одеяльной». См.: Когут Е. В. Науз с владельческой надписью из собрания Музеев Московского Кремля // Московский Кремль. Материалы и исследования. Вып. 28. Оружейное собрание Музеев Московского Кремля. Памятники, история, проблемы изучения. М., 2018. С. 128–135; Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. С. 174; Шапиро Б. Л. Жемчужный чепрак второй половины XVII в. из мастерских Московского Кремля // «История кружева – история страны»: Сборник статей Международной научно-практической конференции. Москва, 3 ноября 2016 г. М., 2016. С. 21–27.
200
Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. М., 1955. С. 81, 139. В схожих материалах и техниках выполнен арчак на парадного коня царя Федора Алексеевича «луки которого украшены эмалью ослепительно зеленого оттенка с узором виноградных лоз. Крупные сапфиры, изумруды, алмазы создают общую цветовую гамму, приятную для глаз. Подушка вышита цветами, скомпонованными из жемчуга и изумрудов. Орнамент в виде городков, вынизанный жемчугом по краю подушки, свидетельствует о том, что арчак сделан в Москве». См.: Оружейная палата. М.: Московский рабочий, 1964. С. 302.
201
Савваитов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора. СПб., 1896. С. 28. Украшением царского выезда были «12 белых лошадей, „обвязанных шелковыми сетками“, [которые] везли колымагу царицы, окруженную 200 стрельцами». См.: Черная Л. А. Придворная культура Алексея Михайловича: от Артаксеркса до Орфея // Исторический вестник. Романовы: династия и эпоха. 2013. Т. 3. № 150. С. 31.
202
Такая грива упоминается в «Приходной и расходной книге товарам и кроильные платью» за 1627 г.: «от царицы из хором принесена одеяльная грива – по атласу по червчатому низаны травы жемчугом; меж трав в гнездах 22 яхонты лазоревых, да 25 изумрудов, да 17 лалов; подкладка киндяк лазорев». См.: Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов 1584–1725 г. Вып. 1. М., 1877. С. 339.
203
Лизек А. Сказание Адольфа Лизека о посольстве от императора Римского Леопольда к великому царю Московскому Алексею Михайловичу в 1675 г. // ЖМНП. 1837. № 16. С. 365.
204
Подобным образом оформлялось «шествие на осляти» при интронизации патриарха или митрополита, но здесь осла вел придворный – конюший, боярин или окольничий, который не представлял царя, а только выполнял почетную функцию. См.: Успенский Б. А. Царь и патриарх… С. 458. Ритуал также исполнялся в Кремле: «А после обедни Патриарх Иосиф вышел из Церкви Положения честныя Ризы пречистыя Богородицы, и сойде по лестнице, и сяде на осля у лестницы с приступки, и поехал с Патриарша двора в Ризоположенские ворота, а вел под Патриархом осля за конец повода боярин Василей Петрович Шереметев, а по среди повода вел окольничей князь Андрей Федорович Литвинов Масальской, а у губы осля, с правую сторону, вел его Патриарш боярин Василей Янов, а с другую сторону за узду вел осля стремянной конюх; те же, которые вели и в неделю». См.: Чин Патриаршия круг города на осляти шествия, бываемого в день постановления Российских патриархов, и следующие в том обряды, 1642 года // Древняя российская вивлиофика. 1788. № 2. С. 252–253.
205
Кампани П. Записки. Сведения о России конца XVI в. // Вестник МГУ. 1969. № 6. С. 84. Кампани был в посольстве вместе с ватиканским дипломатом А. Поссевино, прибывшим в Москву в феврале 1582 г.
206
Шапиро Б. Л. Сакральное в царском конном выезде: нарративные источники позднего русского средневековья // Проблемы истории, филологии, культуры. 2017. № 2 (56). С. 103–121.
207
Олеарий А. Описание путешествия… С. 45.
208
Устрялов Н. Г. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. 1. С. 71.
209
Буссов К. Московская хроника. 1584–1613. С. 57; Майерберг А. Путешествие в Московию барона Августина Майерберга. М., 1874. С. 143.
210
Из рассказов Дон Хуана Персидского. Путешествие персидского посольства через Россию от Астрахани до Архангельска в 1599–1600 гг. // Проезжая по Московии (Россия XVI–XVII веков глазами дипломатов). М., 1991. С. 179.
211
Опись царской казны на Казенном дворе 1640 года. М., 2014. С. 102.
212
Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… Вып. 1. С. 106; Писарская Л. В. Оружейная палата Кремля. М., 1975. С. 212.
213
Парри В. Проезд чрез Россию персидского посольства в 1599–1600 гг. // ЧОИДР. 1899. № 4. С. 8. В. Парри был в числе англичан, находившихся в составе персидского посольства от Шаха Аббаса I в Европу.
214
Там же.
215
Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. С. 50. Подростки участвовали в конных церемониях наряду со взрослыми мужчинами; эта традиция соблюдалась вплоть до последних лет Российской империи. Вот как описывали современники парадный выезд по случаю коронации Александра III и его супруги Марии Федоровны: «Государыня императрица вместе с великой княгиней Ксенией Александровной села в карету. Государю императору подали верхового коня белой масти. Государь Наследник Цесаревич (на тот момент пятнадцатилетний. – Б. Ш.) сел тоже на лошадь, a Великий Князь Георгий Александрович (двенадцатилетний. – Б. Ш.) поместился на маленьком пони». См.: Коронационный альбом в память священного коронования их императорских величеств в Москве 15 мая 1883 года. СПб., 1883. С. 3.
216
Государева Оружейная палата. Сто предметов из собрания Российских императоров. СПб., 2002. С. 210–211, 242–243.
217
Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. С. 5–6, 8, 41–47.
218
Кириллова Л. П. Старинные экипажи. Сокровища Оружейной палаты. М., 2000. С. 194.
219
Там же. С. 191; Ненарокомова И. С. Государственные музеи Московского Кремля. М., 1987. С. 71; Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. С. 30–31.
220
Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… Вып. 1. С. 206–207; Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. С. 16.
221
Кириллова Л. П. Старинные экипажи. Сокровища Оружейной палаты. С. 194–195. Большинство предметов, украшенных гербовыми сюжетами, было сделано руками русских мастеров, но были и исключения. Так, саадак Большого наряда Алексея Михайловича и посольский топор, украшенный двуглавым гербом под тремя коронами, были изготовлены в Турции. Целый комплекс гербовых регалий 1656 г. – бармы, скипетр, державу и саадак Второго наряда – был изготовлен стамбульскими мастерами. См.: Вельтман А. Ф. Московская Оружейная палата. М., 1860. С. 242; Государева Оружейная палата… С. 210–211, 218–219. Были декорированы русским государственным гербом в виде двуглавого орла под двумя коронами изготовленные в Амстердаме подарки правительства Голландских штатов – блюдо и кувшин, – поднесенные царю Алексею Михайловичу в 1648 г. См.: «Во утверждение дружбы…» С. 72–73. Украшен изображением двуглавого орла под короной парадный чалдар малинового бархата, изготовленный придворными иранскими мастерицами в конце XVI – начале XVII в. См.: Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. С. 192.
222
«Когда царь выезжал верхом, конные стрелки следовали за ним верхом, – сообщал И. Масса, – у каждого из них была лошадь, а алебардщики сопровождали царя пешком до ворот, у которых и ожидали его возвращения. Конные стрелки каждый раз выезжали с заряженными пистолетами». См.: Бартенев С. П. Московский Кремль в старину и теперь. Кн. 2. Государев двор. Дом Рюриковичей. М., 1912. С. 290. Сегодня русские ольстры известны больше по письменным, нежели по вещевым источникам; к московским археологическим находкам XVII в. относится всего два предмета. См.: Курбатов А. В. Ольстра по письменным и археологическим данным // Stratum plus. Археология и культурная антропология. 2014. № 6. С. 99–104.
223
Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. С. 123.
224
Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… Вып. 2. М., 1883. С. 499; Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. С. 140.
225
Там же. С. 137.
226
Майерберг А. Путешествие в Московию… С. 58–59. Традиция использования цепей относится, прежде всего, к допетровской России, но они задействовались и в более позднее время. Так, вышеупомянутая цепь с ошейком, украшенным двуглавым орлом, в 1725 г. украшала одну из лошадей во время траурной процессии при погребении Петра I. См.: Мельникова О. Б. Серебряные конские цепи в Оружейной палате. С. 128. Эти похороны стали не только наиболее полным выражением нового имперского ритуала, но и, одновременно, одним из последних погребений, совершенных «по московскому обычаю». Причиной смешения двух разноплановых культур, возможно, стало то, что Я. В. Брюс, возглавлявший Печальную комиссию, намеревался провести аналогию с последними царскими похоронами Московского государства. В результате печальная процессия получила компилятивный характер с включением как западноевропейских, так и московских традиций, что наилучшим образом отражало личность усопшего. Формы старого обряда органично встроились в канву нового церемониала. При Анне Иоанновне цепи в качестве убранства царской лошади уже не встречаются.
227
Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. С. 45.
228
Трана А. Дневник Андерса Траны: 1655–1656. Великий Новгород, 2007. С. 38; Олеарий А. Описание путешествия… С. 45.
229
Витсен Н. Путешествие в Московию. 1664–1665. СПб., 1996. С. 157. Описание, приведенное Витсеном, тем более ценно, что царь, как участник торжеств, не всегда выступал в качестве всадника. «Во время церковных торжественных шествий царь идет пешком, верхом он ездит реже, а чаще всего в каретах, которых у него очень много», – отмечал путешественник Я. Рейтенфельс. См.: Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому… С. 299. Заметки Рейтенфельса относятся к первой половине 1570‐х гг.
230
Мельникова О. Б. Серебряные конские цепи в Оружейной палате // Московский Кремль. Материалы и исследования. Вып. 16. Художественные памятники Московского Кремля. М., 2003. С. 128; Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. С. 164–165.
231
Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. С. 45–46.
232
Майерберг А. Путешествие в Московию… С. 58–59.
233
Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 6. Кн. 5. Конюшенная казна. С. 111.
234
Пчелов Е. В. Изменения государственного герба России в XVI–XVII вв. и их причины / Тезисы докладов участников VIII международной конференции «Комплексный подход в изучении Древней Руси» // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. № 3 (61). С. 101; Пчелов Е. В. «Лев и единорог» в русской культуре: к вопросу о семантике символов // Исследования по лингвистике и семиотике. Сб. статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова. М., 2010. С. 429.
235
Вилинбахов Г. В. Всадник русского герба // «Полцарства за коня…». Лошадь в мировой культуре. Каталог выставки. Произведения из собрания ГЭ. СПб., 2006. С. 145; Пчелов Е. В. Изменения государственного герба России в XVI–XVII вв. и их причины. С. 101.
236
Вилинбахов Г. В. Русские знамена XVII в. с изображением единорога // Сообщения ГЭ. 1982. № 47. С. 22; Пчелов Е. В. Изменения государственного герба России в XVI–XVII в. и их причины. С. 101; Пчелов Е. В. «Лев и единорог» в русской культуре. С. 428–429, 432.
237
Толстоухова В. Парадное конское убранство и старинные экипажи. М., 1979. С. 2.
238
Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… Вып. 2. С. 499.
239
Это двусторонняя, не имеющая изнанки шелковая материя, сотканная с применением тонкого пряденого и ленточного золота и/или серебра. Ее исчерпывающую характеристику оставил французский коммерсант и ювелир Ж. Шарден, живший при дворе шаха Аббаса II и Сефи II в 1660‐х гг.: «Они называют парчу зарбафом, то есть золотой тканью. Есть простая – сто сортов; двойная, называемая доруи, то есть двусторонняя, потому что у нее нет изнанки; и махмале зарбаф, то есть золотный бархат, – писал он. – Что замечательно в этих прекрасных тканях, это то… что золото и серебро всегда сохраняют свой блеск и цвет и не изменяются, пока существует ткань». К московскому двору зарбаф поставлялся в значительном количестве. См.: Сазонова Н. В. Мир сефевидских тканей XVI–XVII века. М., 2004. С. 61.
240
Пчелов Е. В. Символика воинских регалий московских царей // Власть. 2009. № 2. С. 115.
241
Например, простую, на первый взгляд, седельную попонку «отлас золотной, шолк зелен, да ал, да червчат да чорн, шиты звери». См.: Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… Вып. 1. С. 9.