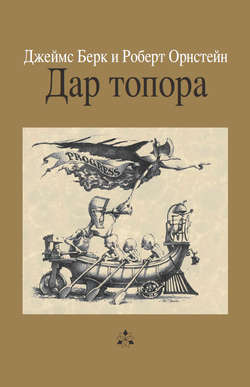Читать книгу Дар топора - Берк Джеймс - Страница 4
Часть I
Обретение острия
Глава I
Обретение острия
ОглавлениеОткуда столь чудесное взялось искусство
Изображенья речи, с глазом говоренья?
Что мы, магические линии чертя,
Расцвечиваем воплощенье мысли?
Томас Эсл. «Происхождение и развитие письменности», 1803
Создатели топора появились около 4 миллионов лет назад, здесь, на единственной планете Солнечной системы, способной обеспечить их существование. Их всемирную систему жизнеобеспечения поддерживала энергия солнца, создававшая вокруг планеты (как тогда, так и теперь) турбулентную сеть сложных взаимодействующих энергетических циклов. Эти циклы варьируются от крупных, континентальной ширины, атмосферных возмущений до микроскопической бактериальной активности в корнях растений. Постоянное и порой интенсивное взаимодействие циклов повсеместно и непрерывно, так что мы остановимся только на некоторых его элементах.
Солнце инициирует первичный цикл, когда его радиация обрушивается на верхний слой атмосферы с энергией атомного взрыва на каждый квадратный километр. Часть этой энергии уходит в космическое пространство, но все же поверхности Земли достигает достаточное для поддержания жизни количество. А так как Земля вращается вокруг своей оси, то пульсация энергии в каждой точке поверхности изменяется от максимума к минимуму за двадцать четыре часа.
Поскольку Земля движется вокруг Солнца под наклоном, энергетическая пульсация на экваторе в три раза сильнее, чем на полюсах. Такое различие в распределении энергии порождает следующий цикл: циркуляцию атмосферы.
Проходя над океаном, воздух отдает часть энергии воде в виде поверхностных течений, или волн, которые взаимодействуют с приливами, возникающими под действием солнечных и лунных циклов. Все эти океанические движения воздействуют на морской температурный цикл, потому что океан подобен атмосфере – глубинные холодные воды идут от полюсов на юг, поднимаются у экватора и возвращаются на север уже в поверхностных слоях. Периодические глубоководные шторма взрывают огромные пространства океанического дна, поднимая и перенося тысячи тонн донных отложений и морской живности.
Океан и атмосфера запускают атмосферные газовые циклы. Тот, что поддерживает наше дыхание, называется кислородным. Кислород присутствует в атмосфере и океане и вырабатывается тремя разными производственными циклами. Первый проходит в верхних слоях атмосферы, где солнечная энергия расщепляет молекулы воды и высвобождает из них кислород; второй – в растениях, где происходит двадцатичетырехчасовой процесс фотосинтеза; и третий – долговременный цикл разложения умерших морских организмов, при котором высвобождаемый кислород попадает в атмосферу напрямую из моря.
Атмосферный цикл вызывает испарение и выпадение осадков, обмен между океаном и атмосферой, следствием чего становится пресноводный цикл. Тринадцать тысяч кубических километров пресной воды хранятся в атмосфере в виде водяного пара, который, поднимаясь, конденсируется на частичках пыли. Так возникают облачные циклы, проходящие под воздействием количества пара, местной температуры, давления воздуха или количества тепла в облаке. Когда перемещаемый ветром пар идет в сторону суши, он поднимается в более холодные слои атмосферы и выпадает в виде дождя, который, в конце концов, возвращается в океан (испаряясь через почву, с растений, рек, озер или самого океана) либо путем просачивания, инфильтрации в подземные водоносные слои и источники, либо через дренаж и непосредственный сток.
Дождь тоже порождает сложные микроциклы, включающие электрохимические реакции в горных породах, разрушая их и высвобождая содержащиеся в них элементы. Часть последних растворяется в текущей воде, часть всасывается корнями растений и позднее возвращается в почву в опавших листьях; другие, попадая в цикл пресной воды, уходят в подземные водоносные слои.
В такой постоянно меняющейся среде организм выживает только в том случае, если способен брать энергию отовсюду. Вот почему удачливые виды при развитии учатся пользоваться той формой пищи, которая доступна в местах их обитания. Другие избирают иной путь: стоять на месте или не приспосабливаться, и тогда они умирают.
Наглядный пример адаптации – некоторые растения, открывающиеся и закрывающиеся в зависимости от времени суток. Но они взаимодействуют с окружающей средой и другими, гораздо более сложными способами. Так, иные растения в Намибии, чтобы не быть съеденными, маскируются под камни; мимоза при прикосновении уменьшается в размере, становясь менее заметной; некоторые орхидеи, похожие на самок насекомых, привлекают самцов, которые, в попытке совокупиться с ними, забирают пыльцу.
Однако природа – не бесплатный завтрак. На любом уровне иерархии жизни каждый раз, когда организм подключается к энергетическому запасу, лишь десятая часть доступной на данном уровне энергии переходит на более низкий. Общее количество энергии, произведенной путем фотосинтеза зелеными растениями и водорослями, уменьшается, проходя через полмиллиона видов растений, тридцать миллионов видов беспозвоночных, сто миллионов разных насекомых и более пятидесяти тысяч видов позвоночных. До тех несчастных микроорганизмов, которым выпало оказаться в конце этой цепочки, доходит лишь одна десятитысячная от первоначальной энергии, полученной с неба хлорофиллом.
На всем пути,– от всепланетного атмосферного энергетического цикла до микросистем у корней растений – великое прохождение энергии по цепочке жизни создает постоянные подциклы. Например, в Северной Америке живущие на корнях растений бактерии содействуют росту листьев, служащих основным источником пищи для белохвостых оленей. Поедая листву, олени оставляют богатые азотом отходы, которыми в свою очередь питаются бактерии. Но когда популяция оленей увеличивается, они становятся объектом охоты со стороны волков, а если у волков дела идут хорошо, численность оленей начинает сокращаться, и тогда уже голодают волки. Им приходится искать добычу поменьше, например овец. Когда же и овец становится меньше, волки возвращаются к восстановившим численность оленям, возрастающая масса отходов которых способствовала увеличению служащей им пищей растительности.
Этот и другие подобные бесчисленные циклы постоянно случайным образом возникают и завершаются. Комбинация циклов порождает множество разнообразных форм используемой энергии, которая обеспечивает поддержание на Земле великого разнообразия видов. Это разнообразие придает долгосрочную устойчивость всей экосистеме, потому что комбинированная система лучше приспособлена к адаптации перед лицом всех естественных перемен. Кто-то находит, кто-то теряет.
В первобытный период, благодаря бесконечным изменениям, жизнь миллиарды лет циклично развивалась, постепенно приспосабливаясь к переменам климата или внезапным катастрофам вроде падения метеорита. Но затем неотъемлемая способность природы к адаптации столкнулась с изменениями, которые система не могла компенсировать и от чьих последствий она никогда не оправится окончательно, потому что случившееся было новым типом перемен. Не цикличным, а последовательным и кумулятивным.
Вот как это произошло. Примерно 13 миллионов лет назад леса в Восточной Африке серьезно пострадали от продолжавшейся несколько столетий засухи. Эта причуда погоды положила начало цепи событий, в результате которых вся экосистема оказалась во власти одного вида особей. Полученной властью эти особи воспользовались для того, чтобы оборвать связи с природой и в конце концов привести планету на грань уничтожения.
Более засушливый климат вынудил обитающих на деревьях приматов искать новую экологическую нишу в расширявшихся саваннах. Оставшиеся в лесу особи со временем стали шимпанзе, гориллами и недавно открытыми промежуточными видами. Те, что спустились с деревьев, стали нами. А некоторые из них стали Создателями топора.
Установить точно, откуда и когда мы вышли, трудно. Не так легко найти свидетельства того, что случилось миллионы лет назад. Вот почему научное представление о наших предках постоянно меняется. Например, находка, сделанная в 1993 году антропологом Ген Сува в центральной части Эфиопии, заставила всех пересмотреть временную шкалу человеческой истории. Ген Сува нашел ископаемый зуб, принадлежавший, как оказалось, древнейшему из открытых предков человека. Ученые дали ему имя Рамидус.
Рамидус, кто бы он ни был, жил около 4,5 миллионов лет назад, был чуть выше 120 сантиметров ростом и обладал признаками как обезьяны, так и человека. Мы не знаем, был ли он прямоходящим. Вопреки прежним представлениям Рамидус, вероятно, жил в лесу, потому что его останки были найдены вместе с семенами деревьев, окаменелой древесиной и ископаемыми антилопами и белками. Скорее всего, он занимает промежуточное место в эволюции. Его назвали «утерянным звеном» между прямоходящими двуногими, существовавшими миллионом лет позже, и жившими на 6 миллионов лет раньше обезьянами. Так что процесс проходил медленно.
Данных пока слишком мало, но если Рамидус действительно был лесным жителем, поднявшимся на задние ноги, чтобы сорвать с дерева плод, то этот простой факт заставит биологов-эволюционистов пересмотреть прежнее объяснение происхождения двуногих. В любом случае переход к прямохождению, похоже, произошел либо во времена Рамидуса, примерно 4 миллиона лет назад, либо в эпоху другого предка, жившего на несколько сотен тысяч лет позже. Главное не то, когда именно это случилось, а то, что это вообще случилось.
Обнаруженный Мэри Лики в Восточной Африке отпечаток ноги, оставленный 3,5 миллиона лет назад, указывает на то, что к тому времени наши предки уже определенно отделились от обезьян. След однозначно принадлежит существу, стоявшему на двух ногах. Переход с перемещения на четырех конечностях на прямохождение означал повышение роли зрения и освобождал передние конечности для другой работы, например изготовления орудий или переноски предметов. Центр тяжести тела, прежде опиравшегося на четыре конечности, сместился на ноги и таз, который укрепился для удержания веса туловища. Это в свою очередь отразилось на деторождении – теперь дети рождались менее зрелыми.
К тому моменту, как мы знаем, наши предки жили уже не в лесах, а на территории, схожей с современной восточноафриканской саванной. В новой для них среде обитания естественный отбор благоприятствовал тем, кто умел передвигаться на двух ногах в высокой траве и кустах, потому что они скорее замечали хищников и пищу (обеспечивая выживание) и, скорее всего, лучше переносили жару. Если раньше, при жизни на деревьях, важную роль играли пальцы ног, то теперь возросло значение чувствительности и подвижности пальцев рук. Соответственно пальцы становились все более гибкими, все более способными к тонким манипуляциям, включая умение резать.
Такое развитие привело к асимметрии конечностей. У четвероногих, птиц или водных млекопитающих асимметрия по вполне очевидным причинам была бы серьезным недостатком, поскольку более сильные конечности на одной из сторон приводят к движению по кругу, и животные просто не смогли бы перемещаться. Смещение ответственности за передвижение с передних конечностей на задние позволило первым развиваться независимо, а с этим пришли и различия умений и силы правой и левой руки.
Такая способность оказалась чрезвычайно важной в поведенческом наборе ранних гоминидов, потому что асимметрия рук сопровождалась асимметрией головного мозга. Уже 3 миллиона лет назад левое полушарие крохотных австралопитеков, ответственное за тонкие манипуляции и способности к изготовлению инструментов, отличалось от правого и было несколько больше.
Руки могли теперь совершать более точные, более сложные движения. Глаза могли смотреть вдаль и координировать движения рук. Это привело к увеличению информационной емкости мозга. Работающий мозг должен быть большим, поэтому уже 2,5 миллиона лет назад его объем у гоминидов удвоился. Двурукость в сочетании с возросшей способностью перерабатывать информацию привели гоминидов на следующую стадию эволюции. Новый тип получил название Homo habilis, человек умелый. Homo habilis – главное действующее лицо в нашей истории.
Человек умелый изменил ход истории, потому что мог обрабатывать камень, изготавливать орудия, которые помогали ему быстро и эффективно воздействовать на окружающую среду. Именно эта способность первых Создателей топора прервала цикл, связывавший нас с природой, и за последующие 2 миллиона лет создала угрозу всей жизни на планете.
Первые примитивные орудия труда, простые камни, обработанные методом скола, использовались более 2,5 миллионов лет назад как скребки и ножи. Они были обнаружены на территории современной Эфиопии. С появлением острия, режущей кромки Homo habilis не только смог изменять окружающую среду, но и обрел независимость от медленного развития природных процессов. Орудия заменили биологическую эволюцию в качестве главного источника перемен.
Топоры дали возможность строить жилища и создавать примитивные поселения; они физически – раз и навсегда – изменили мир. Соответственно изменились и поведенческие модели гоминидов – орудия позволили Человеку умелому заниматься охотой. Более того, охотились люди группами, а это имело самые разные последствия. Прежде всего, изменились рабочий день и меню. Раньше сбор плодов, фруктов и ягод в количествах, необходимых для пропитания небольшого сообщества, занимал большую часть времени. Теперь группа вооруженных охотников могла принести за один раз столько мяса, что его хватало всем на несколько дней.
Обеспеченность продовольствием подтолкнула Homo habilis к большей оседлости и созданию общества. Способность разума к подобным процессам непосредственно связана со способностью охотиться группами. Охота требует не только быстроты и точности движений, но и, что еще важнее, способности планировать, общаться, сотрудничать. Эти коммуникативные способности помогли Человеку умелому лучше организоваться и подготовили почву для более значительных перемен, потому что заложили ментальную матрицу, необходимую для развития мышления, логики, языка и культуры.
За тысячелетия эволюции новый вид распространился по Африке и за ее пределами. Приблизительно 2 миллиона лет назад потомки первоначальных гоминидов плотного сложения и полутора метров роста, получившие название Homo erectus – человек прямоходящий, населяли прохладные холмистые равнины Восточной Африки, занимались охотой и проникали все дальше в поисках пищи.
Понадобилось от 6 до 9 миллионов лет, прежде чем мозг предков человека увеличился достаточно для появления совместного проживания и изобретения и использования орудий. Но как только эти орудия и общественные системы возникли, они начали взаимодействовать и спровоцировали новые перемены в мире, следствием которых стал новый образ мышления.
Самые ранние из каменных орудий, относящихся к периоду Homo erectus, найдены на территории Кении и Танзании. С их помощью раскалывали и резали плоды, разделывали мясо, расщепляли кости, чтобы добраться до костного мозга. Их также использовали для заточки костей животных, которыми раскапывали землю в поисках съедобных корней.
В конце этого периода наши предки изобрели двусторонние ручные топоры. Возможно, к тому времени топор уже привел к разделению труда, впервые дав мужчинам возможность охотиться и присваивать добычу крупных хищников. Женщины, вероятно, тоже в этом участвовали, но, несомненно, проводили больше времени, занимаясь собирательством, откапывая корневища и заботясь о детях.
На протяжении следующего миллиона лет процесс создания топора постоянно усложнялся. 700 тысяч лет назад наши предки освоили тип каменного топора, который находят не только в Африке, но и на Ближнем Востоке, в Европе, Индии и в некоторых частях Юго-Восточной Азии. Сделанные в Киломбе, Кения, открытия позволяют предположить, что к этому времени Создатели топора уже освоили способы массового производства. Они использовали некий шаблон для изготовления топоров одинаковой длины, но разной толщины. Такой тип работы предъявлял все более высокие требования к памяти и вниманию обучающегося, так что жестов и нечленораздельных звуков на определенной стадии оказалось явно недостаточно. Неадекватность имеющихся средств подталкивала учителей к более тонкому и усложненному употреблению уже имевшейся у них анатомической способности. Они могли издавать голосовые звуки.
Орудия содействовали эволюции речи еще и другим образом: благодаря появлению у Homo erectus огня. 600 тысяч лет назад, когда объем мозга снова удвоился, изготовление орудий часто сопровождалось использованием губ, зубов, языка и даже дыхательных путей, например, чтобы раздувать уголья. Устройство гортани и носоглотки у Homo erectus указывает на то, что в период особенно напряженной деятельности они пользовались ротовым дыханием. Употребление приготовленной на огне, то есть более мягкой пищи вело к уменьшению размеров коренных зубов и изменению формы рта и гортани.
Благодаря новым способам размельчения и растирания пищи, большие зубы и сопутствующие сильные челюстные мышцы и крепления костей стали не нужны и уменьшились. Снижение веса костей черепа привело к увеличению места для мозга, и вполне вероятно, что именно это обусловило развитие речи. Язык тоже стал более подвижным, что в сочетании с другими новыми характеристиками создало условия для контролируемой артикуляции голосовых звуков.
Это отразилось на анатомии, потому что помимо изменений гортани и языка применение голоса требовало еще и лучшего контроля за диафрагмой и ребрами, для чего в свою очередь требовалось расширение нервных каналов спинного мозга. После всех этих перемен мозг ранних гоминидов смог впервые генерировать сложные мысли и простые звуки.
Воздействуя с помощью орудий на нас самих и окружающий мир, Создатели топора радикально изменили способ восприятия мира. Орудия повлияли на физическую форму мозга. За миллионы лет процесс эволюции отобрал ту фундаментальную структуру мозга, которая не меняется уже тысячи лет, способную распознавать детали, наиболее необходимые для выживания и воспроизводства, по крайней мере в той окружающей среде, которая существовала в период эволюции мозга. Именно поэтому мы замечаем одно и не замечаем другое. Мы, например, опознаем электромагнитные волны длиной от 400 до 680 нанометров (и называем это «светом»), но не воспринимаем гораздо более широкий диапазон других волн, таких, например, как «радиоволны» или «микроволны».
Мозг, развивавшийся для управления миром во всей его сложности, стал системой, способной интегрировать одновременное восприятие реальности всеми чувствами. К примеру, приближение медведя требовало немедленной реакции. Сигналом к такой реакции мог стать вид самого медведя или его детали, звук его шагов, рычание или хруст ломающихся веток, даже запах. При получении одного или нескольких таких сигналов наш предок срочно снимался с места, что было важно для его выживания.
В этом древнем мире мгновенных реакций все происходящее поддавалось легкой и простой интерпретации: гроза означала необходимость искать укрытие; огонь представлял смертельную опасность. Однако, как правило, в жизни наших предков было мало изменений, поэтому нервная система эволюционировала таким образом, чтобы не реагировать на постоянные характеристики среды и отмечать только новые. Следовательно, в естественном состоянии мы либо готовы к немедленному действию, либо пребываем в полудреме. Постепенные изменения могут пройти почти незамеченными, внезапные перемены воспринимаются всегда.
Некоторые элементы восприятия неизменны с рождения: способность различать световые волны определенной длины (цвет); реакция на давление воздуха в пределах от 20 до 20 000 волн в секунду (звук); способность ощущать присутствие некоторых химических веществ с помощью рецепторов носа (запах) и языка (вкус); возможность различать предметы при непосредственном контакте (осязание) и при движении тела (проприоцепция) и ощущение определенного физического дискомфорта (боль).
Мы используем эти чувства для ориентации в мире для того, чтобы обнаруживать опасность или общаться с другими, избегать физического вреда, искать и выбирать пищу. Но чувства – гибкие навигаторы. Когда мир меняется, сигналы и признаки опасности становятся другими, чувства – благодаря землетрясениям, эволюции или Создателям топора – меняются тоже и настраиваются на новые факторы. Сто лет назад мы могли отличить коровью «лепешку» от конского навоза. Сегодня мы отличаем «Роша» от «Шанели № 5». Такая адаптация к миру начинается с момента рождения, потому что без нее человек не смог бы вписаться в свою среду обитания.
С точки зрения нейрофизиологии, это происходит удивительно просто. Связи в головном мозге при рождении шире, чем в более позднем возрасте, и обучение младенца, как можно догадаться, не увеличивает количество нервных связей, а наоборот, сокращает их. Важные для человека связи активируются, а те, что используются редко, в конце концов атрофируются. Влияние локальной окружающей среды, требующее наличие тех, а не иных связей, в значительной степени определяет работу мозга, а в более глубоком, фундаментальном смысле – то, как человек воспринимает мир. Шоу продолжается, и мы не стоим на месте.
Первый намек на ключевую роль окружающей среды в развитии восприятия дало изучение кошек. Котята, проведшие, по условиям эксперимента, первые месяцы жизни в местах, где видели только горизонтальные линии, так и не смогли потом воспринимать вертикальные. Из-за того, что в критический период познания мира животные не видели вертикальных линий, их мозг просто закрыл большинство связей, отвечающих за распознавание этих линий. В естественных условиях, если котенок не видел вертикальных линий в первые месяцы жизни, он, скорее всего, уже никогда их не увидит, поэтому его мозг приспособится различать больше оттенков и нюансов горизонтальных линий своего мира.
Создатели топора, чьи дары изменяют мир, проводили подобные опыты на человеческом обществе все то время, пока совершали противоестественные действия вроде строительства убежищ и возделывания земли. В результате восприятие мира современным западным человеком отличается от его восприятия другими людьми. В современной западной культуре строители используют много прямых линий, преимущественно вертикальных и горизонтальных: прямые улицы, вытянутые на большие расстояния, прямоугольные здания и помещения, квадратные окна, экраны телевизоров и компьютеров. Взросление в прямоугольном мире, где преобладают верх – низ и право – лево, влияет на нашу способность видеть линии. Так, проводившееся исследование показало, что учащиеся западных городов хуже различают наклонные (диагональные) линии, чем индейцы племени кри, в домах которых есть линии разной направленности, не только вверх и вниз. Напротив, у индейцев возникли трудности с прямолинейными фигурами.
И еще одна иллюстрация. В отличие от европейцев, зулусы (которые живут в круглых хижинах с круглыми дверьми и окнами и пашут землю кругами) не ощущают так называемой оптической иллюзии «Мюллера – Лайера». Когда мы видим вертикальную линию с отходящими от нее вверху диагональными линиями, у нас возникает ощущение, что мы смотрим на угол изнутри, так как вертикальная линия кажется более удаленной от нас, чем диагональные. По этой причине она воспринимается как более длинная. Если же мы видим вертикальную линию, заключенную между двумя диагональными, вверху и внизу, мы воспринимаем ее как указывающий в нашу сторону угол, поэтому вертикальная линия кажется нам более близкой и короткой. Если бы мы, как зулусы, никогда не встречали таких углов, то у нас, возможно, и не развились бы нервные связи, позволяющие видеть иллюзию, которую не видят они.
Некоторые из «современных» физических недостатков – тоже результат даров Создателей топора. Близорукость в современном обществе встречается гораздо чаще, чем в традиционных. Из-за избыточного роста гла́за между хрусталиком и сетчаткой образуется слишком большое расстояние, поэтому фокусная точка оказывается над поверхностью предмета и его изображение получается нечетким. Но если близорукость на 80% является наследственной, то как она сохранилась на протяжении стольких поколений? Как выжили те 25% близоруких, которым приходилось заниматься охотой и собирательством без очков?
В обществах собирателей и охотников близорукость встречается очень редко, но дело не в том, что цивилизация определенным образом позволяет выживать и размножаться людям со слабым зрением. У эскимосов, когда они впервые встретились с европейцами, близорукости не было, но в первом поколении школьников их доля достигла примерно такого же уровня, как в других обществах.
Ответ на эту загадку следует искать в том, что чтение в раннем возрасте меняет физиологию развивающегося глаза. «Нормальный» глаз получает большой объем визуальной стимуляции с разных расстояний, но если что-то в поле зрения (например, страница книги) постоянно остается в одной плоскости, то глаз растет только в одном направлении, в результате чего возникают проблемы с фокусировкой. Чтение как раз воздействует на глаз таким образом, поскольку частая сосредоточенность на мелком шрифте, расположенном на плоской поверхности, меняет форму глаза, приводя к необходимости использования очков. Отсюда и «книжные черви» в очках.
Но на «схему» мозга влияют не только внешние факторы. Важно и наше физическое поведение. Опыты с обезьянами показывают, что тренировка определенных зон на кончиках пальцев (умение точнее определять разницу за поощрение) приводит к увеличению нейронов головного мозга, отвечающих за анализ информации, поступающей именно из этих зон. Вывод таков: когда обезьяна или человек регулярно используют какой-либо навык или последовательность движений, мозг перестраивается, чтобы лучше выполнять работу.
Однако, хотя мы, похоже, действительно обладаем некоторыми врожденными способностями восприятия, наличие законченной, заранее установленной системы представляется маловероятным. Люди жили в самых разных условиях, в различных культурах, и можно определенно сказать, что процесс восприятия во многом развивается под влиянием опыта. У пигмеев Африканского Конго, живущих по большей части в густых тропических лесах и редко попадающих на большие открытые пространства, не развито такое представление о постоянстве размера, как у нас, поскольку они никогда не видели уходящих вдаль людей и животных. Если вывести пигмея из леса, он будет «видеть» стоящего вдалеке буйвола как некое находящееся вблизи насекомое. Это, конечно, крайности, но восприятие каждого из нас действительно развивается так, чтобы отвечать именно собственным, а не чьим-то еще потребностям.
Принято считать, что доисторические орудия, вызвавшие перечисленные выше радикальные перемены в нас самих и нашем поведении, делались в основном из камня, но можно со значительной долей уверенности утверждать, что большая их часть, не сохранившаяся до наших дней, изготавливалась из таких природных материалов, как кость, рог, сухожилия, кожа, раковины и дерево. Пожалуй, наиболее важные из этих органических изделий – носильный мешок и веревка. Мешки наверняка использовались для доставки домой отколовшихся камней или мяса с места охоты и делались из шкур животных или плетеных листьев. Само развитие каменных орудий, особенно в тех местах, где нет ни камня, ни дерева – например, в болотистых, – создавало потребность в неких приспособлениях для переноски. Развитие одной технологии часто требует развития другой – так, появление двигателя внутреннего сгорания стимулировало развитие типов дорожного покрытия, вслед за чем возникла необходимость совершенствовать дренажные системы. Не говоря уже о воздушных мешках безопасности и устройствах для очищения воздуха в помещениях от выхлопных газов.
Почти все сохранившиеся сейчас общества собирателей широко используют плетеные изделия и веревки. Там изготавливают сети и силки, играют в «веревочку», развлекаются перетягиванием каната. Исходным материалом для ремней и веревок могли служить лоза, кора, шкура животных; ими связывали заграждения, из них плели капканы, сети для переноски сосудов с водой и рыбной ловли.
И все же, наверное, самое большое и продолжительное влияние орудия оказали на поведение пользовавшихся ими сообществ. Граничащее с колдовством искусство изготовления этих артефактов наделяло властью как Создателей топора, так и тех, кто использовал их для создания новшеств. На протяжении всего фундаментального раскола, длившегося до недавнего времени, дар топора благоволил тем, кто умел управлять новыми орудиями и приносимыми ими переменами. Побеждали те, кто мог легко пользоваться мозгом последовательно, как при создании топора. В последующие тысячелетия власть часто переходила к носителям аналитического мышления, которые умели обращать дары в решающее преимущество. Топор как будто положил начало некой искусственной среде, в которой предводителями становятся те, кто лучше других способен применять технологию для преобразования мира (и окружающих людей).
Этот переход от «естественного» к неестественному отбору ускорил появление последовательного мышления и нецикличных по своей природе изменений, начало которым положили Создатели топора. Вместе эти два аспекта человеческого развития стали мощным стимулом продвижения инноваций, потому что последовательные, поэтапные элементы создания топора после необходимой формализации могли превратиться в мыслительные процессы, подходящие для создания других артефактов. Эта способность, как мы объясним ниже, станет одним из ценнейших активов человеческого общества.
В результате таких предпочтений общество поставит науку выше искусства, рассудок выше чувств, логику выше интуиции, технологически продвинутую цивилизацию выше «примитивной». Возможно также, что те непоследовательные, нелогичные аспекты человеческих талантов, которые выражаются, скажем, в музыке или искусстве, просто не находили применения в условиях, где сообщество ориентировалось прежде всего на выживание, и пребывали в дремлющем состоянии, дожидаясь лучших времен. Пока на первом плане оставалось линейное, последовательное мышление.
Этот отбор разумов и выделение доминантного типа происходили на протяжении длительного времени и под влиянием тех же процессов, которые управляют эволюцией в мире природы: случайное возникновение и выборочное сохранение. В природе едва ли не все происходит случайно. Побег бамбука поворачивается либо к солнцу, либо от него; лягушка отращивает новую ногу; на коре мозга возникает новая извилина. Что произойдет дальше, зависит от мира, который «отбирает» устраивающие его изменения. Понадобился гений Дарвина, чтобы понять: выбор путей формирования жизни делается миром. Обилие солнечного света означает, что у растений будут маленькие, отвернутые от солнца листья. Недостаток света означает, что доминировать будут растения с большими листьями.
Каждому из нас, как упомянутым выше котятам, присущи разные способности, развивающиеся в соответствии с миром, в котором мы живем. Например, люди различаются по росту, но, хотя при прочих равных условиях человек с генами высокого роста всегда будет выше того, у кого их нет, мир, в котором они живут, тоже влияет на достигнутый рост. В результате в целом каждое последующее поколение американцев выше предыдущего.
Подобным образом различаются и умственные способности. Люди произошли от животных – непосредственно от человекообразных обезьян (а они – от древних обезьян, а те – от других млекопитающих). Поэтому в разные периоды времени развивались разные способности в разных участках головного мозга. Поэтому одни люди уверенно чувствуют себя в пространстве и легко в нем ориентируются (такие таланты полезны в диких районах); другие отлично слышат звуки и умеют воспроизводить их с помощью музыкальных инструментов; третьи без труда управляются с людьми, словами или числами. При всем разнообразии индивидуально наследуемых качеств каждый из нас рождается с неким набором способностей, большинство которых мы никогда не используем, потому что мир не позволяет нам этого. Большинство читателей нашей книги, например, так никогда и не узнают, насколько сильны они в поэзии суахили, звездной навигации или строительстве храмов.
Таланты концентрируются в разных центрах мозга и включают в себя способность ощущать мир, понимать свои и чужие эмоции, изящно двигаться, обнаруживать и идентифицировать объекты в подвижном мире, производить расчеты, говорить, писать, сочинять музыку, организовывать себя и других. И многие, многие другие.
Рост и развитие каждого отдельного человека – борьба, как и ход самой эволюции. Биологическая эволюция – это борьба между разными растениями и животными, тогда как индивидуальная эволюция человека – это противоборство между разными талантами. Подобно котятам, которые могут утратить способность видеть вертикальные линии, мы, развиваясь, можем потерять многие из наших талантов.
В доисторический период, когда люди сделали первые орудия, они навсегда изменили процесс «естественного отбора». Как и в случае с близорукостью, топор искусственно изменил направление развития индивидуальных талантов. Впервые за все время люди, умевшие последовательно выстраивать свои действия, обнаружили, что на их талант есть спрос, и были вознаграждены. Те, у кого это получалось особенно хорошо, стали более влиятельными, а их дети получили больше шансов выжить и передать свои способности. Но предпочтительное развитие одного вида талантов означает принижение и ущемление других. Логические способности, благодаря которым люди обеспечивали себя мясом или строили в лесу деревни, давали явные преимущества, и все больше людей стремилось учиться этим искусствам. Таким образом, орудия определяли развитие разума, и наоборот. Благодаря созданию топора и всему, что с ним связано, этот новый, «неестественный» обратный процесс упорядочения действий и мыслей со временем стал доминантным. Но тут мы забегаем вперед.
Примерно 120 тысяч лет назад Homo sapiens – одаренные логикой и анатомически похожие на нас древние люди, по всей видимости, перебрались из Восточной Африки на север, в Сахару. Они жили разносторонней жизнью в каменных укрытиях, строили лагеря из хижин, когда отправлялись на охоту; варили мясо, сушили его на солнце для длительного хранения и растирали в кашицу растения, прежде чем употребить их в пищу. Некоторые из них научились изготавливать режущие орудия: новая находка в долине Семлики, расположенной на территории современного Заира, – это хранилище древних наконечников копий, вырезанных из костей крупных рыб. Затем, несколько столетий спустя, наступило резкое похолодание, и зеленые, полные дичи равнины Сахары постепенно пересохли. Группы охотников, которые не успели вовремя вернуться домой, на юг, по причине погодных условий были вынуждены отправиться на север, следуя долиной современного Нила.
Эти путешественники были на удивление незаурядными личностями. При археологических раскопках в Израиле (в пещере Кафзех неподалеку от Назарета, в Галилейских холмах, по которым шли те самые переселенцы из Сахары) были обнаружены предметы, оставленные людьми той далекой эпохи, как выяснилось благодаря методике радиоуглеродной датировки, примерно 90 тысяч лет назад. Из этого очевидно, что они несли с собой наборы орудий для изготовления простейших инструментов. В них входили пилы, рубанки, тесла, шила и сверла – все те вещи, которые позволяли изготавливать самые разные многофункциональные и сложные инструменты. Археологические находки также включали инструменты для обработки древесины, простой резьбы и скобления, рубки мяса, резьбы по кости, выделывания кожи, а также рукояток инструментов и наконечников метательного оружия.
На этот момент логический разум, несомненно, действовал активно. Сила последовательного мышления, способность к поэтапному осмыслению хорошо видны в технологии обработки камня, получившей название «левалуаской» (по названию парижского пригорода, Левалуа, где во время раскопок в XIX веке были обнаружены ее первые образцы). При этой технологии форма инструмента определялась методикой подготовки камня, а не его природной формой. Это означало, что кочевники могли создавать мастерские по изготовлению орудий в самых разных местах. Однако о реальном прорыве в новом мышлении можно судить на основании способа, при помощи которого из одного кремня делалось несколько орудий. Из одного исходного камня теперь можно было изготовить в пять раз больше режущих инструментов, чем при помощи старой технологии. А получение острого края означало преимущество в выживании.
Насколько сложен такой способ изготовления орудий (еще раз напомним, что это происходило 90 тысяч лет назад), выяснилось при современном воспроизведении вышеназванной левалуаской технологии расщепления камня. Для изготовления самого сложного орудия требовалось 111 ударов, позволявших добиться плоской поверхности у его основания, после чего наносился еще один сильный удар невероятной точности, который отщеплял орудие от исходного камня. Изготовление таких орудий требует понимания особенностей строения кремня. Один современный французский специалист по расщеплению кремня высказал предположение, что для передачи этого навыка требовался словарь не менее чем из 250 символов. А поскольку каждый жест или звук мог относиться к орудию, которое использовалось несколькими способами, возникла необходимость в новых различных формах жестов и звуков, поясняющих, кто и для чего должен использовать орудие.
Эти «звуки обучения» могли быть самыми важными из всех когда-либо произносимых человеком. Кроме того, они могли проявить еще один из дремлющих талантов, упоминавшихся ранее. Антрополог Гордон Гэллап проанализировал последовательность движений конечностей обитавших на деревьях новых обезьян и заметил «некое подобие грамматики» в их движениях, последовательность действий, которые должны производиться в строго определенном порядке. После выхода древних людей в саванны базовая структура мозга, которая первоначально развивалась для контроля сложных последовательных движений, освободилась для другого применения.
Таким образом, первобытная «грамматика» последовательных действий могла способствовать формированию более сложных движений, сделавших возможным изготовление орудий. Именно в этом наиболее ярко проявляется новая мощь последовательного мышления. Для того, чтобы вырубить из камня орудие, нужно провести некий набор операций в определенной последовательности. Указания для их осуществления могут представлять собой серийные звуки, уточняющие последовательность физических движений, необходимых для изготовления названного орудия. Правая рука, как правило, была удобней для удара или установки в определенном положении, тогда как левая рука обычно выступала в роли поддержки.
Вполне возможно, что первые звуки, сопровождавшие «грамматику» последовательного процесса изготовления простейших орудий, могли заложить основу грамматики языка, потому что она основывается на звуках, которые имеют смысл (так же, как и успешные действия по изготовлению орудия), только при выполнении в правильной последовательности. Инструмент и предложение в данном случае – одно и то же.
По мере того как инструменты усложнялись и их становилось все больше, то же самое происходило с символами и звуками, которые описывали и их самих, и процесс их изготовления. Член общины, владевший этим лексиконом, не только обладал самым ценным знанием всего коллектива, но мог лучше всех (буквально) сформулировать его во благо всему сообществу.
Язык оказался другим, намного более эффективным «даром топора», при помощи которого можно было рассекать, а затем придавать новую форму природе и человеческому обществу. Первоначально он помогал улучшать организацию, способствовал более эффективному использованию принадлежавших сообществу ресурсов и получению новых знаний. Главным образом (хотя процесс занял десятки тысяч лет) язык способствовал обретению людьми аналитических способностей, помогал расчленять опыт и преобразовывать его в мысленные модели реальности, которые можно было использовать для направления развития.
Объем знаний все возрастал и приводил к появлению множества инструментов, которые увеличивали шансы людей на выживание и обеспечивали получение большего количества пищи из окружающей среды. Это были иглы и шила (на севере, где была необходима теплая одежда), гарпуны и крючки (для общин, живших на побережье), дротики и наконечники стрел (для охотников саванны).
Преодолевая расстояния в две тысячи миль в год, примерно 90 тысяч лет назад люди перекочевали из Африки на территорию Ближнего Востока. Спустя 50 тысяч лет они расселились по всей Европе, Новой Гвинее и Австралии. Через 25 тысяч лет они оказались в Сибири, а затем перешли по суше на месте современного Берингова пролива на североамериканский континент.
Поскольку пищеварительная система древних людей могла усваивать самые разные виды пищи, они добывали энергию у природы, используя копье и топор, нож и камень, огонь и ловушки. Каждому охотнику-собирателю, чтобы обеспечить себя достаточным для выживания количеством пищи, требовалось примерно 15 квадратных километров, и это ограничивало численность группы примерно до 25 человек. Когда источники пищи одной зоны обитания оскудевали, люди отправлялись на новое место.
При помощи орудий человек, в отличие от животных, мог быстро адаптироваться и выживать в самых разных условиях. По этой причине через 700 веков после того, как однородная группа покинула Африку, человеческие существа начали различаться. К тому времени они прошли с охотой по всему миру и оказались в разных климатических зонах. Люди оставались в тех местах, где продуктов питания было достаточно, и сотни поколений спустя приспособились к местным условиям в самых разных уголках нашей планеты. Поэтому 40 тысяч лет назад они изменились настолько, что выделились в три главных расовых типа: негроиды, европеоиды (кавказоиды, северо-восточные азиаты и америнды) и монголоиды/полинезийцы (юго-восточные азиаты, полинезийцы и австралийцы/папуасы).
Чем дольше они, расселившись по всей Земле, оставались на одном месте, тем сильнее развивались характерные местные признаки, определявшиеся условиями окружающей среды, которую их орудия сделали пригодными для жизни. Люди, владевшие орудиями, помогавшими выжить в густых тропических лесах, постепенно сделались низкорослыми из-за недостатка солнечного света в лесной тени и скудного содержания в почве необходимых для человеческого организма элементов, которые вымывались сильными тропическими дождями, что ограничивало количество доступного кальция.
В это время технология изготовления орудий труда и охоты усовершенствовалась до такой степени, что стало возможным изготавливать маленькие острые лезвия, при помощи которых можно было сшивать шкуры животных, селиться вокруг выложенного камнями очага и выживать в условиях холодного северного климата неподалеку от линии льдов. Здесь дары Создателей топора тоже меняли наш внешний вид. Северная природа благоприятствовала людям с белой, почти прозрачной кожей, которые могли синтезировать максимум витамина D при малом количестве солнечного света, а голубые глаза лучше видели в зимних сумерках. Кроме того, холодные регионы благоприятствовали плотным, коренастым телам, лучше сохранявшим тепло, с длинным туловищем и короткими ногами, толстой шеей, массивными ступнями и узкими длинными носами, в которых воздух увлажнялся и согревался, прежде чем достигнуть нежной слизистой оболочки легких. Северяне постепенно приобретали внешность нордической расы.
Имея орудия, позволявшие выживать там, где раньше гоминиды были обречены на гибель, кочевники испытывали также и воздействие ультрафиолета. Последующие поколения отреагировали на это изменением пигментации кожи, очертаниями тела и волос. Они стали высокими, коренастыми, упитанными, бледными, смуглыми, желтыми или черными с самыми разными чертами лица, начали появляться отличительные «расовые» черты (незначительные адаптивные модификации).
Типичный пример таких адаптивных изменений произошел с поселенцами, достигшими Восточной Азии двумя разными маршрутами. Одна группа, пришедшая из Малой Азии, двигалась к югу от Гималаев. Другая группа двигалась севернее гор, протянувшихся по всей Азии. Северная группа в течение сотен поколений обитала в степях и стала в физическом отношении отличаться от своих сородичей, избравших южный маршрут, которые приспособились к условиям более жаркого юга и превратились в стройных темнокожих людей, привыкших жить в теплом влажном климате, часто на побережье моря и на островах. Эти люди разработали технологию, основанную на использовании бамбука, и в конечном итоге заселили земли Юго-Восточной Азии, дав начало аборигенам Австралии и народам Океании. Северная группа приобрела черты, позволившие приспособиться к условиям более холодного климата, и двинулась в Сибирь, став прародителями современных эскимосов, часть которых перешла по перешейку, соединявшему два континента на месте современного Берингова пролива, и стала предками американских индейцев.
Широко распространенное представление о жизни наших далеких предшественников состоит в том, что они якобы жили в гармонии с природой, в неком подобии первобытного рая. В некоторых местах это могло быть так на протяжении достаточно долгого времени, однако с самого начала человеческое поведение радикально изменило экологию на огромных территориях, приведя к уничтожению многих травоядных Евразии и Северной Америки – мамонтов, овцебыков, дикого скота и гигантских наземных ленивцев. Медлительные животные становились пищей.
Люди ледникового периода были умелыми охотниками на крупных животных. Они загоняли добычу с утеса в обрыв или в озеро, где животных было легко поразить копьями с лодок из деревянного каркаса, обтянутого шкурами. Использование огня для того, чтобы выгнать животных из леса на открытые участки, где с ними легче расправиться, привело к изменению флоры на больших территориях Африки; господствующими видами стали те деревья, кустарники и травы, которые хорошо переносили пожары, такие как акация, свинцовое дерево и дикий лавр.
В Северной Америке сделаны интересные археологические открытия, свидетельствующие об интенсивном использовании древними людьми поджога травы и показывающие, на каких огромных пространствах велась такая охота. Уничтожая на той или иной территории крупные виды, охотники изменяли окружающую среду, потому что истребляемые животные зачастую играли важную роль в размножении растений.
Обычно базовая группа кочевых охотников насчитывала 25 человек, состоявших в близком родстве. Они постоянно общались и заключали браки с 25–50 подобными группами, говорившими на одном языке. Таким образом, племя в целом могло достигать численности в 300–1000 человек. Когда этот показатель достигал 2000, племя, как правило, разделялось на две группы и вступало в междоусобную в войну. В зависимости от имеющихся запасов пищи ареал обитания общей группы мог занимать площадь от 200 квадратных километров на одного человека в пустыне и до 1 квадратного километра на человека на побережье с обилием ресурсов.
50 тысяч лет назад, когда наши предки переселялись в Европу, условия снова изменились. Температура снизилась, начался новый ледниковый период. Подобные периодические похолодания, вероятно, происходят из-за наклона земной оси (которая максимально отклоняется от Солнца каждую 41 тысячу лет), а также из-за изменения расстояния, отделяющего нашу планету от Солнца (оно максимально отдаляется от нас каждые 100 тысяч лет). Когда на большом расстоянии Северный полюс Земли отклоняется от Солнца, в Северном полушарии наступают холода и начинается обледенение. Поэтому 50 тысяч лет назад погода в Европе сильно испортилась. На большей части континента севернее Средиземного моря исчезли леса, на месте которых возникли низкие кустарники мрачных арктических пустынь. Наступили ужасные холода, и, что хуже всего, животные вымерли или разбежались, люди лишились пищи.
Ухудшение природных условий, несомненно, вызвало появление новых потребностей, и Создатели топора, подарившие своим соплеменникам (а теперь и другим людям) орудия, стали изготавливать их с необычайной тщательностью, применяя новую методику, называемую технологией «колотого лезвия». Брался камень цилиндрической формы, шлифовался, после чего одним ударом создавалась плоская вершина. Резким ударом по краю этой плоской «платформы» от него откалывали тонкую пластину. Следующий удар наносился рядом с местом предыдущего. Получалась еще одна пластина. Такая технология позволяла изготовить из одного камня до пятидесяти «лезвий», которым затем можно было придать форму того или иного орудия. Если старая «левалуаская» методика в сумме давала около 40 сантиметров лезвий из одного камня, то теперь камень такого же размера удавалось разбивать на полоски общей длиной до десяти метров. Большое количество острых полосок, изготовленных этим методом, служили основой, как минимум, для 130 видов самых разных орудий. И, как всегда, люди находили им применение.
В конечном итоге те, кто пользовался этими каменными лезвиями, стали жить более сложной жизнью. Северные охотники теперь носили сшитую из шкур одежду, жили на открытых пространствах летом и в речных долинах зимой. При переходе с места на место они переносили с собой угли костра. Каждую весну люди выходили из зимних пещер и возвращались на свои южные охотничьи угодья, где устанавливали прямоугольные шатры из шкур над выложенным камнями полом, в некоторых случаях с круглыми очагами. Они охотились при помощи метательных копий со съемными наконечниками, используя сплетенные из древесных волокон веревки, чтобы возвращать себе древко. Начался обмен с другими племенами, артефакты могли поступать с большого расстояния, достигавшего 400 километров.
Древние люди хоронили покойников, украшая их ожерельями из раковин, бусами из мамонтовой кости, браслетами, оголовьями, кольцами, укладывая возле тел тщательно изготовленные орудия, что свидетельствует о намеренной подготовке к загробной жизни. Так нередко хоронили и детей, которые не могли успеть сами получить репутацию, необходимую для такого погребения. Возможно, они были членами семей, детьми мужчин и женщин, которые обладали властью. Это означает, что уже в те далекие времена начинала формироваться элита, возможно наследственная, у которой было достаточно власти или имущества, чтобы приказать поместить в могилу их ребенка ценные или магические предметы.
Примерно 30 тысяч лет назад температура воздуха все еще продолжала падать, лишая людей пищи. Поэтому выживание потребовало более эффективных форм организации, и поведение жителей Юга Европы, населявших территории от Испании до Юга России, стало существенным образом изменяться. Появились первые образцы древнего искусства.
Это искусство, возможно, есть первое косвенное свидетельство мифотворческого применения нового языка. Быть может, шаманы пользовались им как инструментом социального контроля в форме магических объяснений природных явлений, понятных только им. Авторитарная суть этих толкований могла наделять магической властью шаманов, которые использовали мистические знания для предсказания явлений природы. Вполне возможно, что искусство служило чем-то вроде ритуальных декораций при проведении церемоний. Сначала они происходили в пещерах, вероятно, священных, где на стенах шаманы и их помощники рисовали изображения животных и где проходили ритуалы инициации (обнаруженные в отдельных пещерах затвердевшие глиняные полы сохранили следы танцующих ног). Похоже, что назначение наскальных рисунков состояло в том, чтобы умилостивить силы природы, так как от них зависела жизнь племени.
Бизоны, лошади, львы и северные олени на этих рисунках были добычей охотников. На некоторых также изображены охотники, добивающие раненых животных, а из их тел торчат копья. Рисунки могли создаваться во время ритуалов в начале каждого сезона как символы успешной охоты и должны были укрепить силу и решительность охотников. Но каким бы ни было их назначение, скорее всего, они были скрыты от глаз обычных людей, потому что в отдельных случаях наскальные изображения обнаружены глубоко под землей, внутри пещер. По всей вероятности, путешествие по ним имело особое ритуальное значение.
Пещерная живопись возникла в период верхнего палеолита, когда стремительно растущее население оказалось в очень тяжелых условиях, требовавших постоянной адаптации и особой изобретательности. Необходимое для этого большое и постоянно увеличивавшееся количество новых орудий усложняло структуру человеческого сообщества. А новые орудия привели к новой и более узкой специализации. Вождям племени было необходимо сохранять единство разнородной группы в необычайно трудных условиях, что могло в свою очередь вызвать потребность в более могущественных источниках власти, большей, чем у самих вождей.
Среди наскальных рисунков, обнаруженных в гроте на стоянке древних людей в Ле-Труа-Фрер, на юго-западе современной Франции, есть изображение получеловека-полуоленя, названного археологами «колдуном». Скорее всего, это один из первых символов власти – божество, от которого зависело благополучие племени и общаться с которым могли только вождь или шаман. В постоянно меняющихся условиях того периода появление подобной сверхъестественной мифологии могло значительно укрепить иерархию и сплотить племя перед лицом опасений, что погода может еще больше ухудшиться и выживание станет еще сложнее.
Когда климат ледникового периода вызвал переселение животных в более теплые районы, стало необходимо отслеживать их передвижение на постоянно увеличивавшихся территориях. Возникла понятная потребность обмениваться информацией с другими общинами. Брач-ные союзы между племенами закрепляли такие отношения. Вполне возможно, это стало причиной создания нового артефакта, появившегося примерно 20 тысяч лет назад. Это небольшая резная статуэтка, изображавшая женщину, названная «Венерой». Она встречается повсеместно по всей Южной Европе, на землях, протянувшихся от Западной Франции до Среднерусской равнины.
«Венера» имеет стандартную форму. По всей видимости, она служила опознавательным знаком при контактах с другими племенами. Однако более вероятно, что фигурки носили с собой женщины, получая их при заключении брака, чтобы напомнить своему новому племени о ее происхождении, и таким образом фигурка являлась гарантией прочных связей между племенами. Поскольку разделение усиливало языковые проблемы, эти артефакты-опознаватели помогали избежать непонимания, если одна группа охотников или торговцев встречала другую, обитающую далеко от них, и не всегда удавалось объясниться. Эти артефакты также давали возможность устанавливать межплеменные связи, несмотря на огромные расстояния, и тем самым позволяли сообществам расселяться на обширных территориях.
В то время мозг человека из этих кочующих, торгующих, заключающих браки племен анатомически был уже полностью таким, как у нас. Внутричерепные слепки, сделанные по останкам древних людей, свидетельствуют о внушительном усилении кровоснабжения мозга, а также о значительном увеличении размеров сильвиевых борозд, связанных с процессом речи. Участок Брока, существующий только в чрезвычайно сложном мозге современного человека и ассоциирующийся с речью, тоже обнаружен в этих черепах.
Примерно в то же время впервые появляется совершенно новая разновидность артефакта. Это еще один убедительный пример того, как Создатели топора преобразуют наше мышление. Новый инструмент должен был казаться нашим предкам исключительно волшебным, и поэтому крайне соблазнительно усмотреть в нем истоки мифа о волшебной палочке. Он, похоже, представляет собой первое преднамеренное использование устройства, которое послужит для расширения памяти. С его помощью можно хранить знания в записанном виде вне мозга или последовательности ритуала. Эти волшебные предметы современные археологи называют «жезлами», они были изготовлены из резной кости или оленьего рога. Несколько тысяч подобных артефактов сохранилось до наших дней. Они встречаются у большинства народов данного периода.
Все насечки на жезле сделаны особым движением инструмента. Часть из них – простые прямые черточки, другие – изогнутые, третьи похожи на точки. Эти отметки составляют расположенные по горизонтали группы. В отдельных случаях резчик переворачивал кость и продолжал ряд отметок на тыльной стороне, чтобы хватило места. Одно это свидетельствует о том, что подобная работа не являлась только искусством. Скорее всего, это были первые образцы информационных записей. Факт их существования говорит о высоком развитии их создателей. Когнитивные способности, необходимые для изготовления жезлов, требовали мозга, способного вмещать сложные визуальные и временные концепции, требующие и запоминания и узнавания. Это те же ментальные способности, которые позволяют современному человеку читать и писать. Таким образом, эти артефакты подтверждают наличие у человека 20 тысяч лет назад полностью развитого, идентичного современному мозга. Однако представления об окружающем мире еще очень сильно отличались от наших.
Эти жезлы из кости позволяют представить жизнь, полную волшебных символов, вроде статуэток «Венеры», ритуалов, связанных с наскальной живописью и загробной жизнью. Записи на жезлах говорят о сложной культуре, включавшей разукрашенные орудия, выкрашенные красной охрой амулеты, индивидуальную раскраску, ритуальные предметы и образы, погребальные ритуалы, предусматривающие использование специально подготовленных предметов с букетами цветов и антропоморфными изображениями, вроде уже упоминавшегося человека-оленя. Члены этих общин были теперь очень далеки от неуклюжих, обезьяноподобных пещерных жителей, какими до недавнего времени – еще несколько десятилетий назад – рисовали их в своем воображении археологи.
Первая разгадка особого предназначения жезлов заключается в том, что их находят практически повсеместно в южных широтах и в Средиземноморье, особенно на территории Франции, Италии и Испании. Когда ледник начал медленно отступать, в эти районы вместе с изменением климата вернулась растительность, увеличилось разнообразие дичи и у людей появилась возможность пользоваться и тем и другим. Вторая разгадка кроется в том, что регулярность и повторение комбинаций отметин на жезлах указывает на некую периодичность.
С течением времени количество резных костей стало резко возрастать и комбинации насечек начинают включать изображения животных и растений. На жезле из грота Монгодье (резной олений рог, изготовленный примерно 17 тысяч лет назад) имеются изображения тюленей и рыб, хотя местечко Монгодье находится на территории современной Франции почти в 200 километрах от берега моря. Рассмотрение рисунков под микроскопом позволяет понять, в чем тут дело. Форма челюсти лосося говорит о том, что рыба изображена во время нереста. На этом жезле есть также изображения змееподобных существ, которые могли представлять собой местную разновидность змей, выходящих из зимней спячки одновременно с нерестом лосося. Распускающийся весенний цветок на том же жезле объясняет, почему резчик изображал тюленей и лососей так далеко от моря. Весной, когда начинается нерест, рыбы поднимаются вверх по реке, удаляясь на большое расстояние от морского побережья, и охотящиеся на них тюлени следуют за ними. Оба этих вида являлись пищей древних людей, и рисунки на жезле позволяли предсказать точное время их появления.
Более поздняя резная кость, найденная в Куэрто-де-ла-Мина на северо-западе Испании, развивает эту тему. На обеих сторонах можно увидеть целую серию рисунков, изображающих животных и растения, которые появляются в сезонной последовательности с марта по октябрь.
Самый необычный образец – это французская кость «Ля Марш», возраст которой составляет 13 тысяч лет. Она была найдена вместе с целым комплектом украшенных орудий, амулетов и библиотеки камней с изображениями людей и животных. Кроме фигуры жеребой кобылы на кости есть несколько комбинаций насечек – в виде групп и подгрупп, каждая из которых сделана отдельными инструментами.
При сравнении с астрономической моделью становится ясно, что на этом жезле содержатся записи лунного календаря, состоящие ровно из шестидесяти значков. Подгруппы значков начинаются с точек обычных фаз луны, наблюдаемых в средних широтах Европы. Весь этот календарь с поразительной точностью охватывает срок в семь с половиной месяцев. Вся последовательность, похоже, начинается с мартовских оттепелей и продолжается до первых ноябрьских морозов, то есть того периода, когда охотники могли жить вне пещер.
Эти удивительные жезлы свидетельствуют о способности оперировать абстракциями и символами. Они также говорят о высокоразвитом умении наблюдать и записывать небесные явления. Но прежде всего они иллюстрируют то, как инструменты, способствующие усложнению жизни, меняли способ мышления. Кроме того, использование календарей для организации охоты указывает на умение осуществлять стратегическое планирование на целый год и доступно объяснять такие планы соплеменникам. Но главное, способность группы воспринимать подобную информацию указывает, что символы, применявшиеся для таких объяснений, были общими. Подобный уровень коммуникативных способностей в свою очередь существенно ускорил культурную адаптацию.
Главное влияние жезлов на будущее человеческого сообщества (и то, почему они показывают способность инструментов изменять наше сознание) заключается в том, что это внешнее запоминающее устройство повысило работоспособность мозга. Такой инструмент сделал возможным кодирование природы посредством устойчивых символов, которые можно многократно использовать в воображении, и таким образом манипулировать окружающим миром. С его помощью сознание может символически рассекать мир на части, разрубать его, а затем менять местами элементы и получать новые модели информации. Именно так символы наделили пользователя способностью проигрывать развитие событий и теоретически видеть будущий результат, не приступая к практическим действиям. Поэтому жезл давал шаману, хранителю тайных знаний (а через него и вождю племени), возможность предсказывать события прежде, чем они происходили – наступление оттепели или начало нереста лосося. Об успехе новых инструментов свидетельствует то, что, за немногими исключениями, на жезлах заметны следы долгого пользования.
Не слишком фантастическим покажется предположение о том, что древние кочевники много тысячелетий продолжали путешествие по нашей планете, выживали и размножались именно благодаря этим переносным базам данных, содержавшим сведения о сезонах и особенностях охоты, которые в волшебные для племени моменты истолковывал шаман.
Однако главное, что само существование «волшебной палочки» означает новую разновидность знания, скорее всего, сильно отличавшегося от предшествующих. Жезл был не просто каменным топором, обретшим неким загадочным, неизвестным большинству людей способом нужную форму, и но назначение которого было понятно по его использованию.
Символы на жезле видели все, но их суть в любых обстоятельствах была понятна немногим. Сколько бы к нему ни прикасались и сколько бы на него ни смотрели, значение символов могло быть раскрыто лишь при помощи специального кода, известного только шаману или его ученикам. Такие символы были наглядным доказательством существования искусственного знания о мире, которое давало власть тем, кто умел им пользоваться. Это была разновидность знания, исходившего от Создателей топоров, и оно значительно расширило бездну, отделявшую тех, кто изменял мир, от тех, кто просто принимал изменения.
Жезлы, по всей видимости, породили еще одно последствие, глубоко врезавшееся в сознание древней расы людей. Язык, на котором они говорили после ухода из Африки, был общим и наверняка достаточно совершенным, чтобы описывать многочисленные орудия и их назначение, а также организовывать усложнившуюся социальную структуру. Однако по мере того как орудия помогали кочевникам осваивать все большие и большие пространства, племена снова стали обособляться и расходиться в разные стороны, селясь в разных долинах, на берегах разных рек, в разных горах, предпочитая выживать группами, а не всем сообществом.
Шло время, и человеческая раса разделялась снова и снова, момент расставания людей где-то на землях Ближнего Востока уже практически стерся в человеческой памяти и остался лишь в мифах и ритуалах. То же произошло и с общим языком, на котором мы все когда-то говорили. После того как орудия лучше приспособились к окружающей среде и звуки, служившие для объяснения их функций (и использования), стали сильнее привязаны к местности, мы утратили былое сходство в шуме новых диалектов, которые со временем превратились в различные языки, свойственные различным разумам. Дары Создателей топора предоставили нам различные способы выражения разных реальностей и видения мира, основанные на несхожих системах ценностей, порожденных местными условиями существования.
Примерно 12 тысяч лет назад уже физически и культурно различные племена были разделены взаимным непониманием и заселили все континенты, кроме Антарктиды, забыв о своем общем африканском происхождении, тесно связав свою жизнь с теми землями, куда привели их созданные ими орудия. Вернуться они уже не могли. Они могли только остановиться и начать жизнь на новом месте.