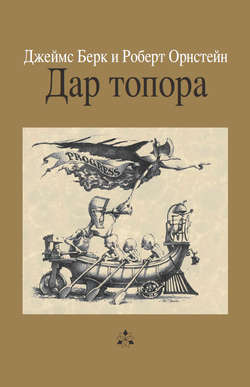Читать книгу Дар топора - Берк Джеймс - Страница 5
Часть I
Обретение острия
Глава 2
Символический взнос
ОглавлениеРазвитие человека и рост цивилизаций зависел главным образом от прогресса в нескольких видах деятельности: открытии огня, одомашнивании животных, разделении труда, но, прежде всего, в области получения, передачи и сохранения знаний, а особенно в развитии фонетического письма.
Колин Черри. «О человеческом общении».
Примерно 12 тысяч лет назад, когда население планеты составляло около 5 миллионов человек, Создатели топора произвели на свет два дара, значительно изменившие физический мир, в котором мы жили, и строение нашего мозга. Наши предки приняли эти дары вскоре после завершения Великого расселения, потому что, как часто случалось на протяжении истории, выбора у них не было.
Племена пережили тысячелетия путешествий по планете только благодаря орудиям. И благодаря тем же орудиям, позволявшим получать от природы все больше и больше пропитания, численность людей возросла настолько, что они уже не могли обеспечить дальнейшее выживание без очередного радикального изменения поведения. Новые дары – земледелие и письмо – освободили их от прихотливых природных источников пищи и подняли условные знаки шаманского жезла на новый уровень, изменивший мир.
Какое-то время кочевники использовали орудия для увеличения потенциальной емкости мест, в которых оказывались, что было необходимо в связи с ростом численности. Частью этого процесса было, вероятно, и развитие протоогородничества. Собиратели, несомненно, отмечали сезонные передвижения животных и жизненные циклы растений, а следовательно, могли заметить и то, что регулярно употребляемые в пищу растения нередко встречаются возле временных поселений там, куда выбрасывают их семена. Неисключено, что они оберегали особенно ценные растения от зверей, устраивая силки и ловушки, и даже содействовали их росту, выпалывая сорняки. В тяжелые времена наиболее плодородные участки приходилось защищать и от соперничающих племен.
Осознание того, что постоянное поселение, скорее всего, единственный способ выжить, пришло вместе со способностью обеспечить себя необходимой пищей без дальних походов. Известно, что нужные для этого орудия уже существовали. Найденные в Израиле примитивные серпы и каменные терки, известные уже 15 тысяч лет назад, указывают, что группы охотников переходили к оседлому образу жизни. Новые орудия позволяли получать больше продовольствия с ограниченной площади, поэтому рост населения продолжался. И, поскольку орудия все сильнее привязывали людей к уже наполовину постоянным местам обитания, отдельные группы начинали все более полагаться на специфические виды деятельности в зависимости от условий: сбор моллюсков, степную охоту, сбор лесных плодов. Особенности местоположения все больше влияли на поведение.
Примерно тогда же погребения стали предназначаться не только для вождей. Это можно считать указанием на то, что личное имя, которого ранее удостаивались только вожди и шаманы, получал теперь каждый член группы. Имена, возможно выбираемые вождями, привязывали человека к группе и при жизни, и после смерти, что укрепляло целостность сообщества и тем самым – власть вождей, а также в определенном смысле привязывало людей к новому поселению.
Возможно, первым племенем, перешедшим к оседлости, было племя кебаранов, обосновавшееся на равнинах Леванта, неподалеку от Средиземного моря, в местности, изобилующей рыбой и фруктами. Сменившая их позднее культура получила название натуфианской (она возникла на территории современной Сирии) и развивалась вполне успешно, на что указывает и резкое увеличение размеров поселений, с четырех семей, проживавших вместе 11 тысяч лет назад, до первых деревень, насчитывающих более 200 хижин (в Мурейбите, Сирия) 2 тысячи лет спустя.
Оседлые натуфианцы не сразу занялись земледелием. Они были умелыми охотниками, обладавшими еще одним новым орудием: продолговатым куском базальта с двумя глубокими параллельными канавками. Камень нагревали и в канавках выпрямляли деревянные древки. Точность стрельбы улучшилась, а значит, охота давала племени достаточно еды даже в том случае, когда растения не приносили достаточно урожая.
Первоначально, когда рост населения вынудил кочевые группы искать более надежные источники питания, ограниченные продуктивные возможности почвы увеличили важность древних знаний женщин-собирательниц о растениях и сухом земледелии. Внедрение сухого земледелия и сохи (представлявшей собой обычную копалку, которую тащил бык) также радикально увеличило производительность, хотя поначалу этого было недостаточно для поддержания здоровья населения. Рацион питания был ограничен, недоедание было обыденным явлением. Но если раньше для прокорма одного охотника-собирателя требовалось 15 квадратных километров, то оседлому поселенцу хватало и трех.
Базовый рацион питания современного мира сложился в те времена, когда наши далекие предки выбирали для разведения местные виды растений: пшеницу-однозернянку, полбу, двухрядный ячмень, горох, чечевицу, кормовые бобы, вику. Они встречаются на территориях от Ирака до Курдистана, от Палестины до Западной Турции, от Анатолийского плоскогорья до Леванта.
Распространение новых земледельческих приемов и удаление их от первых центров нововведений поощряло языковое объединение использовавших их оседлых групп, усиливало у людей ощущение единства с методами труда и традициями. Такая культурная стабильность привела к окончательному, устойчивому оформлению большинства современных языковых семей: индоевропейской, афро-азиатской, эламо-дравидийской (Индия), китайско-тибетской и австронезийской.
Одно из последних изменений физического облика человека, вызванное появлением новых орудий труда и переходом к земледелию, – исчезновение необходимости в больших зубах. С заменой мяса на злаки зубы уменьшились, лицо сделалось более вертикальным. Свидетельством смены рациона могут служить обнаруженные на Ближнем Востоке прямоугольные зернохранилища, почва вокруг которых содержит окаменелую пыльцу злаков.
По мере увеличения численности населения люди переселялись в более плодородные места, к рекам и на прибрежные равнины. В новых поселениях они жили в небольших поселках, где строили глинобитные хижины с тростниковыми крышами, разделенные узкими проходами. Более разнообразными стали и орудия труда; деревянные и каменные ножи отступали перед наконечниками стрел, серпами и сверлами. Люди сшивали шкуры костяными иглами, обрабатывали зерно каменными ступками и жерновами, плели корзины и циновки из тростника, пасли овец и коз.
Излишек продовольствия, появившийся благодаря переходу к сухому земледелию, на данный момент позволял содержать людей, не занятых непосредственно в производстве продуктов питания: ремесленников, писцов, лекарей и вождей. Каждый из них владел неким эзотерическим знанием, недоступным основной части населения, в котором при этом нуждались все. Принятие решений и социальная ответственность все более концентрировались в руках таких новых специалистов.
К тому времени, когда кочевые племена перешли, наконец, к оседлой жизни, у них уже были орудия, позволявшие добывать пропитание и строить дома, намного превосходившие те, которыми пользовались их предки. Примерно 7 тысяч лет назад некоторые из племен, живших, вероятно, у одной из больших рек, то ли вследствие увеличения численности, то ли из-за небывало долгого периода засухи перешли от сухого земледелия к ирригационному. К тому времени люди уже знали, что растения разбрасывают семена и они прорастают там, где есть вода. Настоящим мыслительным прорывом было осознание того, что природные процессы можно воспроизводить искусственным путем.
Вскоре после перехода к ирригационному земледелию или даже простому высеванию семян в естественно орошаемых районах появился, должно быть, избыток продовольствия. Это событие можно считать переломным моментом в отношении к окружающей среде. На протяжении многих тысяч лет человечество было неотъемлемой частью природы. Для охотников-собирателей мир природы был живым организмом; каждое время года давало людям разные плоды и убежища. Они, по всей вероятности, отчетливо воспринимали каждый их нюанс: плодоносящие осенью рощи, места весеннего гнездования птиц, источники с самой чистой водой, защищенные от ветра площадки в скалах. В первую очередь они, наверное, отмечали важнейшую зависимость между пищей и временем года: появление и исчезновение в определенный период лесных ягод, сезонная миграция стад. Не заметив какого-либо природного указателя, можно упустить единственный в году шанс.
Все это мгновенно изменилось с появлением избыточного продукта. Природа стала воспроизводимой, ее можно было произвольно делить на части и контролировать. Вместе с новой концепцией возникла параллельная потребность применить такие же методы деления и контроля к человеческому обществу. Появившийся излишек продовольствия вполне мог обеспечить существование более сложного общества в растущих деревнях. Но население было слишком многочисленным, чтобы просто приходить к новым источникам пищи, как делали их предки. Возникла необходимость в отсутствующей ранее организации самого выживания. По этой причине у людей и возникло стремление оставаться на одном месте.
Впервые за все времена – благодаря Создателям топора – мы начали жить в определенных «местах», откуда некоторые никогда уже не уходили. Мы даже думать о себе стали соответственно, в привязке к «этим местам». Впоследствии они, в форме больших деревень, стали нашим «домом». С тех пор и поныне мы идентифицируем себя с определенным местом и людьми, живущими по соседству. Вместе мы будем «отсюда», тогда как другие, живущие в ином месте, будут «оттуда». Стены деревни станут обозначать пространство, в пределах которого мы есть такие, какие есть, и живем иначе, не как те, что живут за другими стенами.
В этих странных, новых, искусственных анклавах мы перестали быть пассивной частью природы. Даже понимание направления изменилось, когда природные характеристики, обозначающие север и юг, запад и восток, стали чем-то постоянным, а не изменчивым показателем сезонных ветров или движения солнца и звезд. В некотором смысле сам мир человеческого сообщества был определен орудиями, благодаря которым стали возможными новые поселения.
Это новое понимание стало очевидным благодаря второму из новых даров Создателей топора. С его помощью станут возможны новые, более высокие уровни организации, необходимые для поддержания жизнеспособности общества и его выживания. Но такая организованность потребует появления новых уровней подчинения, новых ограничений в поведении, новых слоев социальной власти. Этот дар, в конце концов, заставит нас думать по-новому. Мы говорим о даре письма.
Обработка камня для изготовления орудий теперь стала способом воспроизводства мира через символ. Первое письмо было новой, улучшенной версией резного жезла шамана (уже неспособного справляться со сложной информационной базой, востребованной более многочисленным сообществом); оно дало ранним земледельческим общинам новый способ описания и учета мира.
Этот появившейся прием даст людям радикально новые способы накопления знаний, беспрецедентные возможности манипуляции внешней по отношению к человеческому разуму информацией и, самое главное, эффективное средство более быстрого укрепления социального контроля. Возникнув около 10 тысяч лет назад, оно пройдет долгий путь развития в 7,5 тысяч лет и затем останется практически неизменным до когнитивной революции, произошедшей в Греции в первом тысячелетии до новой эры. Но прежде мы немного вернемся назад и посмотрим на его истоки.
Вначале были не слова, а числа. Излишек продовольствия означал, что пищи больше, чем требуется общине. Его можно сберечь для более позднего потребления. Им можно расплатиться за услуги людей, непосредственно не занятых в процессе производства еды. Его даже можно использовать как дар или приношение при совершении религиозного ритуала. В любом случае наличие излишков требовало учета, а учет невозможен без измерения.
Случившийся в этот период интеллектуальный скачок, выраженный в появлении счета, подобен скачку в познавательных способностях ребенка на ранней стадии развития. Вначале дети оперируют такими терминами, как «один», «два» и «много». Эта способность, вероятно, является базовым для людей пониманием количества, поскольку встречается у детей всех примитивных и древних народов. Житель Шри-Ланки, считающий кокосы, отмечает каждый орех палочкой: один кокос – одна палочка. Спросите, сколько у него кокосов, и он, скорее всего, укажет на палочки и скажет что-нибудь вроде: «вот столько».
То же относится и ко всем известным древним обществам, в которых, например для счета большого количества животных (допустим, 58 овец), используются метки, скажем, камушки. В начале дня каждая овца отмечается одним камушком, а в конце, перед возвращением стада домой, камушки откладываются, и если в кучке не остается ни одного, то пастух знает, что стадо сохранилось в целости, хотя количества овец он не знает.
Представление мира в абстрактных символах и числах, сведение его к ним составляет важнейший элемент современного образа мышления, но не является частью природного набора человеческих талантов. Слушание и говорение приходят почти ко всем людям естественным образом, но письмо и чтение даются нелегкой учебой. Доисторическое новшество представления количества, а затем и слов, внедрялось на протяжении периода, длительного в культурном смысле и короткого в биологическом. Например, в том, что касается счета, набор социальных изменений, подталкивавших людей к выражению мира вещей и количеств через абстрактные знаки (и таким образом в разграничении трех и четырех предметов, а позднее «трех» чего угодно от «четырех» чего угодно), складывался, вероятно, в течение примерно 10 тысяч лет.
Первое настоящее письмо появилось приблизительно 12 тысяч лет назад в горах Загрос в Иране и Турции, потому что урожай и стада, превышавшие непосредственные потребности, стали собственностью и требовали измерения количества и знака собственности.
Первые примеры письма возникли на Ближнем Востоке в период одомашнивания животных и растений. Они имели форму глиняных символов размером меньше метра и использовались для обозначения различных предметов. Цилиндр обозначал животное, конус и шар – маленькие и большие количества зерна. Каждый символ представлял определенное количество, хотя его форма указывала на разные предметы. Две меры зерна требовали двух знаков, четырнадцать мер – четырнадцати знаков. В промежуток времени от 10 до 5,4 тысяч лет назад такие знаки постепенно распространились по всему Среднему Востоку. Формы знаков были стандартизированы почти сразу, что, возможно, указывает на их массовое ручное производство. Они являются, вероятно, наиболее ранними из обожженных в печи артефактов.
Эти крохотные керамические предметы положили начало письменному языку, поскольку каждый знак являлся отдельной значимой единицей. Они представляли собой дискретные компоненты, их использование было систематическим и абстрактным, взятые вместе, они подчинялись некоему порядку, или синтаксису. Привычка к систематическому применению определенно заложила основу для дальнейшего развития языковой и математической обработки, которая позднее приведет к созданию упорядоченного письменного языка и системы счисления. Эти первые знаки напоминали буквы некоего нового алфавита.
В первую очередь они использовались для счета и расчетов. Каждый символ имел свой специфический знак и обозначал некое конкретное количество, так что по мере роста запасов возникала потребность в символах, обозначающих все большие числа. Для удобства хранения знаков при совершении индивидуальных сделок шумеры Месопотамии (ныне Ирака) складывали их в глиняные «конверты».
Все обнаруженные символы отмечены личной печатью чиновника. Наличие таких знаков только в захоронениях высших должностных лиц означает, что, возможно, указывая на владение собственностью, новые артефакты рассматривались как символы статуса, возможно даже наследуемой должности. Другими словами, они были знаками власти.
Относительно простые, хотя и многочисленные, символы вели учет мира складов и скотных дворов. Но формировавшийся в то время комплексный мир городов нуждался в еще более сложном выражении. На символах начали появляться дополнительные отметки, черточки и узоры, обозначавшие новые вещи, например благовония, хлеб, плетеные изделия и одежду. В конце концов, в связи с многообразием доступных товаров число видов символов возросло до пятнадцати, которые делились на 215 подвидов.
Увеличение количества видов символов вскоре сделало использование глиняных конвертов слишком неудобным. Поскольку глина непрозрачна, для оценки содержимого конверта его приходилось разбивать. Это незначительное, на первый взгляд, неудобство породило крупнейшее событие в истории хранения информации, создавшее новый вид «знаний», как всегда, ограниченный в своей пригодности и в применении.
Случилось это, по всей вероятности, где-то на территории нынешней Сирии или Ирака. Кому-то пришло в голову, что для упрощения символы, обозначающие количество и вид лежащих в конверте знаков, можно выдавливать на влажной глине с внешней стороны конверта. Затем, примерно 5 тысяч лет назад, кто-то другой додумался, что еще легче обходиться вообще без знаков в конверте, а пользоваться только оттисками. Со временем и сам конверт, не содержащий внутри никаких знаков, претерпел изменения и превратился в плоскую табличку с нанесенными на нее символами.
В условиях продолжающегося роста населения и числа предметов пользования новый способ стимулировал дальнейшие попытки усовершенствовать подачу информации, тем более, что символы уже были приняты в качестве заменителей реальных предметов. Примерно в то же время был сделан еще один значительный шаг вперед: появились первые арифметические символы для обозначения количества. Если раньше для обозначения трех овец употреблялись три отдельных диска с высеченным на них крестом (описанное выше соотношение один к одному), то теперь шумеры изобрели отдельный абстрактный символ, передающий значение количества в виде числа.
Сначала числовые символы использовались для обозначения мер зерна, а поскольку оно было основным предметом торговли, то и символы были понятны всем. Около 5 тысяч лет назад случился прорыв. Счетоводы Урука, одного из первых городов Месопотамии, сумели абстрагироваться от понятия «две оливы», «две овцы», «два снопа» и прийти к понятию «два», независимому от конкретных предметов. Эти же счетоводы изобрели и двойные символы – цифры, обозначающие конкретные числа, и пиктограммы, обозначавшие предметы. Производились эти символы отдельно, цифры выдавливались на влажной глине, а пиктограммы вырезались на камне. На одной из найденных в Уруке глиняных табличек помещены пиктограммы овцы и пять клинообразных знаков.
Впоследствии система была улучшена. Линия («маленький») стала означать «1», а круг («большой») – «10». Их можно было комбинировать. Круг и две линии означали «12». Первоначально эти символы использовались при расчетах зерном, потом для подсчета количества работников, которым следовало заплатить, а затем они стали означать любые количества чего-либо. Используемые в качестве средства распоряжения и учета движения предметов и животных, эти символы являются свидетельством дальнейшего совершенствования контроля над природой и обществом. Число и предмет были отныне и навсегда разделены, и, следовательно, числа теперь могли применяться к любому существующему предмету. Мы получили возможность думать о мире как о чем-то таком, что, подобно зерну или овцам, можно брать на учет, контролировать и перераспределять.
Примерно в это же время на фоне увеличения размера и количества поселений новые дары Создателей топора упрощали их организацию и обслуживание. Внедрение плуга с бычьей упряжкой позволило увеличить производство зерна, колесо и парус облегчили его транспортировку, гончарный круг создавал емкости для его хранения, а водяное колесо перемалывало зерно в муку для людей, которые теперь жили в домах из обожженного кирпича в селениях, защищаемых металлическим оружием. Тягловые животные удобряли землю, плуг увеличил обрабатываемые площади, а двупольное земледелие (с частой жатвой и быстрым ростом) обеспечивало урожаем. Перемены шли все быстрее.
Широкое распространение земледелия отмечает момент, когда дары Создателей топора дали нам способность изменять окружающую среду за один сезон и уменьшать период, в течение которого община пыталась выжить после плохого урожая. Всего лишь несколько тысячелетий спустя, после внедрения ирригации на Среднем Востоке, месопотамцы превращали пустыню в сад и изменяли характеристику земель так, как никогда еще никому не удавалось.
«Гидравлическая» цивилизация, появившаяся примерно 7 тысяч лет назад, впервые привела к пониманию того, что люди способны вносить крупномасштабные изменения в природные условия, – когда возникли системы ирригационных каналов, отводивших воду из рек на близлежащие обрабатываемые земли. Эта новая способность стала доминирующей темой всей месопотамской мифологии: хаос природы может быть преобразован в человеческий и божественный порядок. Общество и окружающая среда теперь одинаково поддавались контролю.
Переход к оседлому, земледельческому обществу радикальным образом изменил роль женщины. Ранее именно женщины были хранительницами знаний правил собирательства. Они же, вероятно, заботились о поддержании огня, знали, как делать деревянные и глиняные сосуды, готовить пищу, использовать в практических целях кости и шкуру животных. Они, скорее всего, владели секретами целебных трав, умели изготавливать из растений красители и пряжу, плести одежду. Так что их умения были равноценны мужским, если вообще не превосходили их. Но когда земледелие привело к появлению излишков, его собственники, почти всегда мужчины, получили власть распределять их. А так как собственность неразрывно ассоциировалась с вооруженным захватом территорий, то женщины почти сразу начали утрачивать позиции наделяющих дарами.
Постоянно увеличивающийся излишек продовольствия позволял общине поддерживать разнообразные ремесла. В городе теперь жили пастухи, пахари, скотоводы, земледельцы, рыбаки, мясники, пивовары, пекари, лодочники, фермеры, садовники, строители, плотники, горшечники, ткачи, а также те, кто занимался производством предметов роскоши, например украшений и масляных светильников.
Несмотря на это, города или деревни, вероятно, не могли существовать только за счет собственных ресурсов. Так, хотя Месопотамия (приблизительно современный Ирак) была богата зерном и скотом, ее аллювиальные почвы не содержали полезных ископаемых. Поэтому возникла необходимость создания запаса продовольствия или ремесленных изделий для обмена на продовольствие или сырье из других общин.
И вот теперь, в условиях роста населения, который в первую очередь был результатом даров Создателей топора, конкуренция за ресурсы создала потребность в новом типе лидера – такого, который мог бы взять на себя командование на войне и в мирное время, организовывать перераспределение продовольствия и сырья между своими людьми. Для того чтобы все это делать при поддержке складывающейся, хотя и малочисленной, элиты из умеющих писать и читать пиктограммы (возможно, несколько десятков в общине, насчитывающей тысячи человек), вожди обратились к мобилизации труда и податям для содержания еще большего числа специалистов, включая кузнецов и мастеров по металлу, которые могли производить военные материалы.
Возможно, именно по этой причине новых лидеров, как религиозных, так и светских, постоянно упоминают как щедрых и богатых благодетелей. В действительности процесс был, скорее, обратным. Лидер собирал налоги и подати, чтобы получить материал, который можно перераспределять в обмен за труд по производству самих материалов. Его главная, самолично взятая на себя функция – организация и защита быстро растущих поселений, слишком больших, чтобы называть их деревнями.
Самым большим и предположительно самым ранним городом в Месопотамии был Урук, возникший в 5 тысячелетии до нашей эры (7 тысяч лет назад) как два отдельных поселения, расположенных на разных берегах Евфрата. На протяжении следующего тысячелетия город сохранял эту сдвоенную форму, но потом в нем появились два важных церемониальных квартала, первый из которых был посвящен богу неба Ану, а второй – богине любви Энанне. Площадь самого города увеличилась с 25 до 175 акров.
Особенно значительно Урук вырос в течение одного-двух столетий после 3100 года до нашей эры. Сначала его площадь увеличилась со 100 до 250 акров при одновременном росте числа поселений за пределами городских стен со 100 до 150. Затем положение вдруг изменилось. Город продолжал расширяться еще быстрее, но теперь за счет деревенских поселений. Примерно половина их в районах, близких к Уруку, была заброшена, в результате чего городская территория расширилась до 1000 акров, а население удвоилось с 10 до 20 тысяч, что составляло примерно две трети всех проживавших в данном регионе. Столь быстрый рост наводит на мысль, что население чувствовало необходимость сконцентрироваться, и причиной тому была, скорее всего, внешняя угроза.
По мере роста сообщества люди организовывались в то, что на современный взгляд представляется деспотическим и клаустрофобным режимом, новую социальную структуру, основанную на охватывающей все общество иерархии и на разнообразных и сложных сельскохозяйственных дарах Создателей топора. На нижнем уровне находились крестьяне и их семьи, трудившиеся не покладая рук, чтобы произвести избыточный продукт. Излишки они относили на промежуточные распределительные пункты, откуда чиновники отправляли часть продукции в крупные населенные пункты, а самое лучшее уходило представителям власти. В обмен на продукты крестьяне получали, вероятно, гончарные и текстильные изделия, а самое главное – защиту. Немалую часть времени занимали религиозные ритуалы в поддержку правителей.
Но уже то, как принимались эти условия, указывает на новое представление о мире, порожденное дарами Создателей топора. Преимущества жизни в городах значительно перевешивали налагаемые в ней ограничения. Живущим в деревнях города – с их высокими стенами и зданиями, населенные людьми, умеющими читать и писать, охраняемые другими людьми с драгоценным бронзовым оружием, управляемые загадочными, полубожественными правителями, – представлялись, должно быть, центрами почти магической активности. Города, в полном смысле этого слова, были первыми центрами высшей власти, а потому требовалось немалое давление, чтобы убедить сельское население оставаться вне их стен, в деревне.
Появление в этот период в Месопотамии позиции «правителя» связано с зародившейся, должно быть, еще во времена охотников-собирателей традицией, когда ритуальная формализация мифов создала религиозные практики, в которых участвовал полусвятой шаман. Еще ранее правящая элита Месопотамии укрепила свое положение, ассоциировав себя с выдуманным шаманами мистическим источником власти. Теперь только правители («короли») с помощью шаманов могли понимать и предсказывать действия сил природы. Новые лидеры подавали себя как посредников между населением и древними мифическими силами и утверждали за собой право на прямой, божественный контакт со сверхъестественными силами, почти сразу принявшими антропоморфные образы богов и богинь.
Таким образом, верховные правители были единственными, кто мог общаться с божествами и обеспечивать их милость. На божественную природу этих ранних говорящих с небом иерархов указывают шумерские пиктограммы с символом звезды перед именем царственной особы, что означало связь с космическими существами на небе. Это священное привилегированное положение отразилось и в новой для лидеров тенденции накапливать богатства, чтобы после смерти брать их с собой на небо.
Представлениям о новом типе человеческого существа в форме высшей, контролирующей власти, отделенной от населения и вознесенной над ним (которые существуют и в современном мире), соответствовали (как и сегодня) затраты на строительство зданий для размещения верховных правителей и их слуг. Новая правящая элита, как существа полубожественного происхождения, не могла жить с остальными членами сообщества, а потому церемониальные сооружения и дома правителей становились все больше, все заметнее, строились на возвышенностях и окружались массивными стенами. Скелеты правителей показывают, что привилегированное положение обеспечивало им лучшее здоровье и большую продолжительность жизни.
Отныне атрибуты власти становятся публичными символами, отражающими стабильность общества и новые ценности, навязанные ему лидерами. Особый статус царской семьи заметен в Уруке. По оценкам ученых, на возведение насыпи и храма общей высотой в 40 метров, занимающих площадь в 420 тысяч квадратных метров, а также зданий и оштукатуренных глинобитных стен, покрытых тысячами глиняных клинописных узоров, понадобилось 7,5 тысяч человеко-лет.
Строгий социальный контроль, необходимый для функционирования месопотамских городов, привел к единообразию ритуалов и артефактов. В Яхии, неподалеку от города Шумера, находился центр производства каменных чаш. Эти чаши были предметами роскоши, производившимися для шумерских властей (поскольку в самой Яхии ими не пользовались, никаких свидетельств существования местной элиты не обнаружено), которые расплачивались за них продуктами питания и предметами потребления. Чаши с характерными для Яхии символами находят даже на территории Сирии и в долине Инда. Эти вещи выступали как символы власти, примерно как в наши дни – художественные ценности городских музеев и национальных институтов, потому что только власти могли позволить себе оплатить их.
В этот период количество оттисков личных печатей на плоских глиняных табличках указывает на существование сложной и прочно установившейся системы торговли. Товары проходили через достаточно большое число рук, чтобы возникла проблема фальсификации. Печати уменьшали возможность подделки, так как их обычно носили на запястье. Но числа и пиктограммы для обозначения товаров стали слишком большими, что тормозило ритм деловой жизни, поэтому заостренные палочки из тростника, которыми прежде пользовались для рисования на сырых глиняных табличках, уступили место стилю. Он позволял провести линию на глине одним движением, а так как поперечное сечение стиля было клинообразным, то соответствующее название перешло и на стилизованные к тому времени пиктограммы.
Новый дар письма подобным способом оставался тем не менее делом чрезвычайно сложным и эзотерическим, поскольку включал по меньшей мере 2 тысячи знаков. Например, для обозначения одной только «овцы» в разных состояниях существовал 31 вариант знака. Овладение мастерством письма требовало многих лет учебы, так что оно являлось в высшей степени специализированным умением, доступным очень немногим. Неточность в фонетической передаче знаков (которые зачастую обозначали один и тот же звук), а также возникающая путаница (потому что знак мог читаться и как звук, и как название предмета) усложняли и удлиняли процесс обучения. С одной стороны, письмо содействовало становлению и развитию более сложного и неоднородного общества, открывая перед многими его членами такой образ жизни, о котором и не мечтали недавние поколения; с другой, награды давались высокой ценой. Способность письма организовывать и приказывать оставалась доступна лишь немногим.
Владеющая письменностью бюрократия держала под своим контролем налоги и распределение ресурсов, оплату труда рабочих, внутреннюю и внешнюю торговлю. Позднее, уже в Египте, при изображениях на памятниках экономической деятельности, писцов всегда показывали на видном месте, следящими за операциями. В силу важной роли в управлении писцы пользовались уважением и занимали привилегированное положение, а потому не стремились к упрощению тайного искусства во избежание прироста потенциальных конкурентов.
Управление подобной системой требовало наличия крупного, специализированного, профессионального канцелярского учреждения. Движущей силой стала школа писцов, эддубба, дававшая обществу небольшую образованную элиту. Школы возникли в начале третьего тысячелетия, и полноценный курс обучения продолжался с детства до зрелости. Учеба начиналась с упражнений в слоговых знаках, таких как ту, та, ти, ну, на, ни, бу, ба, би и так далее, после чего учащиеся осваивали весь набор примерно из 900 знаков, а уже затем шли группы из более чем одного знака. Вслед за заучиванием и практикой наступало то, что делало процесс обучения письму и чтению таким трудным. На протяжении многих месяцев учащийся запоминал списки из тысяч предметов и вещей, объединенных по темам, например, части животных и человеческого тела, названия домашних животных, птиц, рыб, растений, инструментов и т.д. Трудность заключалась в том, что пиктограмм было почти столько же, сколько и предметов, подлежащих записи.
В своих литературных, лингвистических, математических и астрономических достижениях школы писцов выходили далеко за рамки практических и бюрократических нужд и тем самым (что не удивительно) еще более разъединяли ведущих и ведомых. Школы, эти новые арены интеллектуальной деятельности, возникшие по методике Создателей топора и недоступные большинству населения, использовали грамотность для развития беспрецедентно всесторонней, хотя и крайне избирательной, образовательной системы и через нее способствовали установлению могущественной правящей элиты. Тысячи сохранившихся глиняных табличек донесли до нас имена писцов, и даже имена и род занятий их отцов. Как и следовало ожидать, в обществе, где грамотность была ревностно охраняемым умением, писцы происходили из важных и богатых семей, и многие затем занимали высокие места в административной бюрократии.
Потом, как это неоднократно случалось на протяжении истории, немногие грамотные под давлением меняющихся обстоятельств были вынуждены распространить часть специализированных навыков, поделиться ими с другими. По мере того как внедрение техники порождало все новые социальные изменения, неизбежной альтернативой социального коллапса становилось расширение образованного сегмента общества. Число пиктограмм в течение всего 500 лет было радикально сокращено с 2000 до 300, что, соответственно, способствовало более широкому их использованию.
И хотя доля населения, способного пользоваться этими новыми, упрощенными пиктограммами, все еще не достигала и одного процента, появились возможности для организации более сложной социальной структуры и начального учреждения подлинно бюрократического регламентирования социальной деятельности. Несколько городов объединялись в федерации под управлением одного правителя. Одновременно возникло новое, более широкое понимание «места» как сложного, строго разделенного на слои иерархического целого, которое мы на современном языке называем «государством». Аппарат общественной организации состоял по меньшей мере, из трех классов: низшие администраторы (надсмотрщики и бригадиры, надзирающие за рабочими и крестьянами), надсмотрщики над надсмотрщиками (работающие в канцеляриях, следящие за соблюдением графиков) и на верхнем уровне политики, принимающие решения.
Появление письменности – помимо того, что оно содействовало разделению труда, – способствовало также возникновению единообразия общественного мышления и поведения в немыслимых ранее масштабах. В прежние времена, передаваемые устно ритуалы и распоряжения (как бы их ни заучивали и ни репетировали) сознательно или неумышленно искажались; теперь же они навечно закреплялись в единой письменной форме. Становилось меньше возможностей уклоняться от обязанностей. Изобретенное Создателями топора письмо позволило бюрократическому аппарату объединить командно-контрольную систему Месопотамии, и к третьему тысячелетию до нашей эры эта власть уже начала выходить за рамки ориентированной на труд организации, все более контролируя поведение людей в частной жизни.
Случившееся после этого выделяет Месопотамию среди других великих речных цивилизаций того же периода: индийской, китайской и египетской. В Месопотамии расширение общественного контроля посредством использования грамотности радикально изменило отношения между отдельными людьми и между ними и городской властью благодаря изобретению законов.
Одним из первых примеров нового правления закона было то, что родственники жертвы лишились права собственноручно взыскивать ущерб с обидчика. В Месопотамии урегулирование такого рода претензий происходило особым образом. Ранее, во времена охотников и собирателей, наказание за учиненное злодеяние осуществляли члены семьи пострадавшего, когда сам пострадавший или его родственник выступали и как судья, и как палач. Проблема данной системы заключалась в том, что месть нередко превращала первоначального преступника в пострадавшего, родственники которого в свою очередь проникались жаждой мщения. Это нередко приводило к кровной мести, растягивавшейся на поколения. Такого рода непредсказуемое поведение в замкнутом пространстве города легко могло нанести вред цельности общества. Инструментами Создателей топора были организованы новые «места поселения» – первые жестко организованные города, что начало сказываться на этике и ценностях людей, которые вели под защитой их стен строго регламентированную жизнь.
В Индии, Китае и Египте с учреждением института религии ответственность за суд и наказание перешла от глав семей к жреческому сословию. Антиобщественные деяния становились тем более нежелательными, что рассматривались еще и как оскорбление богов.
Месопотамия, однако, пошла по иному пути, благодаря раннему, около 4,5 тысяч лет назад, переходу от общинной собственности к частной, что подтверждают глиняные таблички, содержащие детали частных сделок и контрактов. Возможно, такого рода низкоуровневое коммерческое взаимодействие нуждалось в чем-то более простом, чем длительная церемония взывания к богам, что и породило низкоуровневую форму регулирующей власти.
Первый письменный закон отличался от других установлений, принятых с целью общественного контроля. Поскольку он прежде всего касался частной собственности, его авторы приняли в расчет совершенно новую концепцию. Создатели топора преподнесли дар, который наложил отпечаток на все последующее общественное развитие – идею прав личности и обязанностей собственника. Именно тогда впервые появилась модель поведения, которую возможно было приспособить к любым возможным обстоятельствам. Жизнь человека больше не могла зависеть только от прихоти царя или жреца. С другой стороны, та же самая жизнь, благодаря развитию права, уже не могла полностью принадлежать самой личности.
Все раннее месопотамское право – немногим больше, чем сборник прецедентов, ключевыми среди которых являются ссылки на особую форму власти правителя. Право санкционировало вторжение власти в частную жизнь каждого человека под страхом небесного воздаяния. Все законы начинаются с констатации того факта, что правитель поставлен во главе города-государства богами, затем идет содержание самого закона, а в конце содержится предупреждение, обещающее проклятие каждому, кто преступит закон правителя.
Четыре тысячи лет назад Ур-Энгур, правитель города Ур, совершая, возможно, первую попытку править по закону, сказал, что осуществляет правосудие «следуя законам богов». Это придавало магическую силу новым правилам поведения и говорило о том, что любой нарушитель, не повиновавшийся правителю, понесет наказание от властей небесных. Можно убежать, но нельзя спрятаться.
Древнейший из известных правовых кодексов, это кодекс правителя Ур-Намму из города Ниппура, основателя третьей династии Ур, жившего 4050 лет назад. Помимо прочего, в нем появляется один важный элемент общественного контроля, отражающий превращение дара чисел в инструмент стандартизации регулирования поведения людей в коммерческих отношениях. На этот раз новые ограничения мышления предстают в форме стандартизированной системы мер и весов. Отныне мир мог быть официально «расфасован» и «упакован». Стандартизированные вещи и стандартизированное поведение становятся привычным явлением.
Не удивительно, что местом закона и порядка стал храм. Сотни глиняных табличек, обнаруженных в развалинах Ниппура, в месте, где жили храмовые писцы, показывают ясную картину отправления правосудия в ту далекую эпоху. Судебные записи, известные под названием дитилла, что переводится как «законченный процесс», содержат засвидетельствованные соглашения, а также упоминания о контрактах, относящихся к бракам, разводам, содержанию детей, подаркам, продажам, наследству, рабам, найму лодок, кражам, досудебным договоренностям, ущербу собственности и вызову в суд. Правосудие вершили энси, правители городов, входивших в состав города-государства, и представители верховного правителя. Залом суда служил храм, профессиональных судей не было, поскольку упомянутые в списке судей тридцать шесть человек представляли самые разные профессии: торговцев, писцов, храмовых администраторов и высших чиновников.
С начала третьего тысячелетия до нашей эры, то есть 5 тысяч лет назад, Месопотамия подвергалась спорадическим, но все более частым набегам семитских племен аморитов, обитавших в пустынях Сирии и Аравии. В конце концов, города-государства пали, шумеры как этническое, лингвистическое и политическое целое перестали существовать, и к власти пришла аморитская династия, на протяжении 300 лет правившая из своего центра в Вавилоне. В 1792 году до нашей эры царем стал Хаммурапи, в период правления которого Вавилония стала высокоцентрализованным государством с многочисленными губернаторами и чиновниками, представлявшими интересы царя во всех аспектах общественной жизни.
Сорок два года спустя Хаммурапи выпустил прославивший его имя Кодекс законов Хаммурапи. В прологе царь утверждает, что избран богами для управления Вавилоном и сохранения справедливости, благословляет тех, кто почитает законы, и проклинает тех, кто их не соблюдает. В эпилоге Кодекса содержится такое заявление: «Таковы законы справедливости, установленные Хаммурапи по воле богов, направляющих царство по верному пути». Эпилог указывает на понимание значения и силы законодательства как инструмента социальной реформы, назначение которой – предотвращать притеснения и содействовать справедливости.
Кодекс поделен на три части. Центральный раздел содержит 282 статьи и ясно указывает на движение в сторону более постоянного, систематического законодательства. Примечательно, что Кодекс написан не на хрупких глиняных табличках, а вырезан на прочной каменной стелле. Положений в нем намного больше, чем в предыдущих сборниках, они носят более светский характер. Впервые в качестве меры наказания законодательно утвержден принцип «око за око». Кодекс, например, предусматривает смертную казнь в тех случаях, где раньше с родственников преступника, согласно санкции суда, в качестве возмещения взималась плата.
Забота месопотамских правителей о сохранении социального порядка, закрепленная строгой кодификацией в законе прав личности и ответственности, воодушевляла последующих западных мыслителей, особенно в отношении поддержки разделения общества на классы под властью верховного правителя, являющегося помазанником божьим. Примером того, в какой степени дары Создателей топора изменяют наше мышление, является то, что этот дар (который глобально ограничил древние свободы охотников-собирателей) вызвал настолько радикальное изменение нашего понимания индивидуального поведения, что оно до сих пор, спустя тысячелетия, влияет на наше отношение к данному вопросу. Мы и сейчас, в современном мире, ссылаемся на «свободу в рамках закона», когда говорим о том, что наши далекие предки, несомненно, посчитали бы значительными ограничениями своих свобод.
Но изменение мышления, вызванное письмом и торговлей, кажется незначительным на фоне того, что произошло вследствие их взаимодействия. В каждой из речных цивилизаций развитию торговли в огромной степени содействовало эзотерическое знание письма, и именно в Египте был достигнут важный прогресс в его технологии. Произошло это благодаря огромным запасам гораздо более удобного и легкого писчего материала, чем глиняные таблички Месопотамии. Хотя присутствие государственной власти было заметно буквально на всех строениях в виде иероглифов, как лозунги на советской фабрике, напоминающих народу о планах и достижениях всемогущественного фараона, египетскую экономику подстегнуло растение. Широкому распространению грамотности среди бюрократии способствовал растущий вдоль Нила папирус, листья которого было легко обработать для письма кисточкой и чернилами.
В Египте получили развитие два вида письма: «иератическое» – для использования в религиозных и официальных документах, и более простое – «димотическое», в котором находили отражение абстрактные понятия. Располагая столь гибкой формой коммуникации, египетская элита вскоре построила империю, равной которой не было в Средиземноморье. Египтяне торговали с Китаем через индийских посредников, выходили в Атлантический океан и добирались до Центральной Африки.
Египет начал развиваться несколько позже Месопотамии и при наличии других природных условий пошел к цивилизации по иному пути. Начать с того, что охотники и собиратели в Египте были издавна защищены от вражеского вторжения естественными преградами: на севере лежало море, а с остальных сторон – пустыня. Здесь не было необходимости, как в Месопотамии, развивать отдельные независимые деревни-города, способные самостоятельно защищаться от нападений. Регулярные разливы Нила облегчали проведение масштабных, централизованных общественных ирригационных работ.
С самого начала общее восприятие великой животворной реки породило мифы и верования, общие для племенных сообществ, живших на большом расстоянии друг от друга, но связанных Нилом, что впоследствии облегчило их интеграцию. Учитывая однородную природу сообществ, не стоит удивляться тому, что единая верховная власть появилась здесь почти с самого начала, а 5 тысяч лет централизация власти в Египте была уже полной.
Администраторы фараона являлись членами его семьи, он правил один, по божественному праву, а правовой системы, такой как в Месопотамии, в Египте не было, поскольку нигде нет упоминания ни о торговцах, ни о концепции частной собственности, давшей начало правовым нормам Месопотамии. Египетская бюрократия была тесно связана со жрецами-судьями и контролировала всю внутреннюю и внешнюю торговлю. Так как буквально все в Египте принадлежало фараону, распределителю всех благ, лишь он один издавал правительственные постановления, касавшиеся всего – от правил рубки леса до ирригации, кораблестроения, земледельческих работ и торговых путешествий.
Египет создал самую бюрократизированную в истории экономику благодаря жесткой стратификации общества. Необычайное, централизованно управляемое разделение труда породило экономику, состоявшую, по сути, из специализированных, эксклюзивных ремесел и крупных, контролируемых государством трудовых проектов, вроде создания сети ирригационных каналов, священных городов мертвых и пирамид. Достижения египтян не отличались оригинальностью и новизной, но были необыкновенно масштабными.
Династическое египетское государство знаменовало новую ступень в выражении власти. Установление контроля через технологии и письменность закрепило привилегированное положение грамотных. Пропасть между аристократической элитой и бесправным, пассивным населением поддерживалась как практикой, так и ритуалами. В свете этого не удивительно, что здесь, как и во всех древних обществах, первые формализованные центральной властью законы касались актов lese majeste (оскорбления власти).
Почти все технологические достижения были поставлены на службу правительству, помогая ему функционировать и контролировать общество. Письменность и математика обслуживали сбор налогов и организационные мероприятия. Специализированные металлургические ремесла создавали оружие и роскошные предметы поклонения. Знания календаря, астрономии и геометрии развивались исключительно ради осуществления ирригационных проектов или наделения властей магической силой предсказания затмений.
А затем, примерно 3600 лет назад, произошло событие, в огромной степени облегчившее процесс приобретения и применения знаний и в очередной раз изменившее западный образ мышления. Оно возвестило о начале конца тысячелетней надежды на традиции, ритуалы и божественную власть. Новый продукт Создателей топора избавил правителей от каких бы то ни было ограничений свободы действий, которые могла налагать устная традиция, потому что значительно упростил и облегчил управление следующими одна за другой инновациями и переменами. Этим продуктом был новый вид письменности, представлявший собой первую, по-настоящему ясную и понятную систему общения, применимую к любому языку. Это был алфавит.
Впервые он появляется на одном из заморских египетских предприятий, шахте по добыче бирюзы в горах южной части Синайского полуострова, в местечке, которое сейчас называется Серабит-эль-Хадем. Комплекс зданий включал в себя храм богини Хатор, покровительницы бирюзы, и большое строение, состоявшее из внутреннего двора, святилищ, купален и солдатских казарм. Работали на шахте преимущественно рабы-семиты, а управляли предприятием ханаане, говорившие на одном из близких древнееврейскому семитских языков.
Специалисты-ханаане обучались в египетском коммерческом центре и, скорее всего, имели представление об основных торговых формах письменности того времени – иероглифах и пиктограммах, – ни одна из которых не подходила их языку, слишком сложному и трудному в написании. Возможно, именно поиск более легкого способа ведения дел натолкнул кого-то из ханаан на упрощенную форму выражения. Или же изобретение было сделано где-то еще, а на Синай его занес кто-то из рабочих. Так или иначе, независимо от того, кто стал автором идеи и какую цель он преследовал, новшество едва ли не мгновенно облегчило ведение торговли и технический прогресс.
Египтяне (как и месопотамцы, критяне, киприоты и западные семитские народы) уже начали сокращать сложные формы рисуночного письма, пользуясь слоговой азбукой. Слоговая азбука позволяет уменьшить количество знаков через принятие общего знака для всех вариантов одного согласного. Такой способ значительно облегчил, например, использование египетских иероглифов, которых насчитывалось не менее 700. Слоговая азбука получалась так: знак, обозначающий слово, содержащее соответствующий согласный звук, становился общим обозначением этого звука, где бы он ни встречался (например, «майем», волнистый знак воды, представлял еще и букву «М», потому что слово содержало звук «М»).
Использованию слоговой азбуки в других языках мешало то, что в египетском, например, для выражения всех возможных модификаций согласного и гласного («ма», «мо», «ми» и т. д.) употреблялось 24 знака и еще 80 представляли пару согласных с вариациями двух гласных («тими», «тама», «тима» и т. д.). А так как некоторые гласные звуки были не совсем простыми или присутствовали только в каком-то одном языке, то для правильного воспроизведения звука читателю требовалось знать язык. Возникало что-то вроде лингвистической уловки-22.
Синайский писец, вероятно, усовершенствовал известную ему слоговую азбуку (возможно, западносемитскую, применявшуюся в финикийском, иврите и арамейском), упростив ее и сократив число необходимых букв. Он просто убрал модифицированные формы. Таким образом, письменная транскрипция звуковой системы могла удовлетворить потребности любого языка, без обязательной ссылки на полный набор пиктографических знаков, из которых складывалось слово.
Обнаруженные в Серабит-эль-Хадеме знаки выцарапаны на известняковых плитах и представляют собой буквы, написанные плавным, непринужденным стилем, характерным скорее для кисточки и чернил, чем для резьбы по камню. Неизвестный ханаанский Создатель топора изобрел первый настоящий алфавит для того, чтобы облегчить деловое общение между представителями разных языковых групп, но когда этот новый способ письма наконец достиг Греции, он превратился в нечто большее, положив начало современному мышлению.
Таким образом, на протяжении почти 10 тысяч лет – от первых поселений земледельцев до изобретения чисел и алфавита – иерархи употребляли дары Создателей топора для поддержания, укрепления и централизации своей власти над обществом, в то же самое время, обеспечивая все возрастающее число его членов средствами, позволявшими вести более полную и материально обеспеченную жизнь. Однако все это время продолжала расширяться пропасть между меньшинством, владевшим эзотерическими знаниями, даровавшими возможность разделять и контролировать общество, и большинством, ими не обладавшим. И хотя на всем временном отрезке от шаманского жезла до алфавита процесс изготовления орудий и инструментов сопровождался увеличением объема становившихся доступными знаний, нужно помнить, что этот доступ был открыт лишь крохотной части населения.
По мере расширения знаний развивались и эзотерические практики, углублялась специализация. Самое главное, увеличившиеся знания создавали более сложные общества и виды деятельности, что требовало еще более тщательного управления. Последствия социального упадка для густонаселенного месопотамского города, обеспечение которого продовольствием зависело от организационной слаженности и согласованности, были потенциально куда опасней, чем для маленькой, не скованной границами группы охотников и собирателей, живших десятью тысячами лет раньше. Кроме того, перспективы безопасности и непрерывности привлекали не только тех немногих, кто получал огромные выгоды от концентрации рабочей силы в пределах городских стен, но и громадную массу черни, существовавшей на опасной черте между пиром и голодом, ограниченной теми же стенами и отрезанной от источников пищи и одежды. В этих условиях прагматизм диктовал подчинение и послушание. Вы скажете, дьявол.
Уже к тому времени дары Создателей топора наделили нас способностью творить чудеса. Мы воспользовались ими, чтобы выйти из джунглей, обосноваться сначала в небольших, относительно сытых земледельческих поселениях, а затем перебраться в большие, упорядоченные города. Там, в обмен на безопасность и защиту, собственность и пищу, мы расстались с тем, чем обладали древние охотники и собиратели – со свободой передвижения и правом менять своих вождей, приняв власть династий, правивших по божественному праву и ограничивавших наше поведение законами.
Сосредоточенные по городам и принадлежащие им, связанные строгими требованиями, мы были готовы к следующей великой перемене, уготованной нам Создателями топора. В обмен на дар алфавита мы согласились, были вынуждены согласиться принять новую меру единомыслия в самом отношении к мышлению.