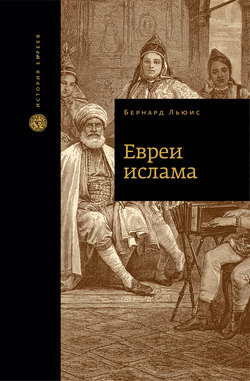Читать книгу Евреи Ислама - Бернард Льюис - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Предисловие к классическому принстонскому изданию
ОглавлениеМонография «Евреи ислама», впервые опубликованная в 1984 году [1], – одна из двух книг, которые автор всецело посвятил еврейской истории. Вторая, «Семиты и антисемиты», вышла два года спустя [2]. Но сама тема – история евреев в исламских странах – входит в сферу научных интересов Бернарда Льюиса уже три четверти века. Я даже как-то спросил его, почему он так часто пишет о евреях. Со свойственным ему парадоксальным юмором Льюис ответил слоганом «Кока-Колы»: «Это пауза, которая освежает» [3].
Еще в 1939 году, в самом начале своей профессиональной деятельности, он в Bulletin of the School of Oriental and African Studies [4] опубликовал статью «Еврейский источник о Дамаске сразу после османского завоевания», где доказал тюркологам, что они могут почерпнуть нечто новое по своей теме в еврейских источниках того времени, в данном случае в написанном на иврите и частично переведенном Льюисом путевом дневнике итальянского раввина-мистика, вскоре после османского завоевания посетившего среди прочего и Дамаск и описавшего его крепкую экономику. И обратный пример: через год в статье «Наука у евреев по заметкам арабского автора XI века» он опубликовал для еврейских исследователей в переводе на иврит с арабского раздел повествования Саида аль-Андалуси о ученых евреях из его энциклопедии об ученых и философах того времени [5]. В 1945 году с той же целью Льюис предложил вниманию еврейских исследователей три «Арабских источника о Маймониде (Рамбаме)» с новым ивритским переводом арабских оригиналов. Два из этих трех источников содержат информацию по весьма обсуждаемой проблеме: возможном переходе юного Маймонида в ислам в период альмохадских гонений на евреев в Северной Африке и Испании и последующем его возвращении в иудаизм по прибытии в Египет. Статья появилась в новом, посвященном иудаике английском журнале, который издавал исследователь еврейской мысли Шимон Равидович [6].
В 1950 году Льюис стал первым западным исследователем, допущенным в турецкие архивы. Два года спустя он опубликовал под скромным названием, но с захватывающим дух содержанием брошюру «Заметки и документы из турецкого архива: дополнение к истории евреев Османской империи» (1952). Отважное проникновение в архивы ознаменовало неослабевающий и впоследствии интерес к истории турецких евреев и стимулировало продолжение архивных исследований в области как еврейской, так и османской истории.
Через несколько лет после приезда Льюиса в Принстон в 1974 году он организовал знаменитую конференцию, посвященную истории и наследию системы миллетов в Османской империи, результатом которой стали два увесистых тома «Христиане и евреи Османской империи. Действенность плюралистического общества». Этот труд под редакцией Льюиса и Бенджамина Брауде (издан в 1982 году) и поныне служит отправной точкой для исследования религиозных меньшинств в османских землях.
Характерной для работ Льюиса по иудаике является его статья 1968 года «Происламские евреи», открывающая номер журнала Judaism, посвященный теме «Иудаизм и ислам». В этой статье Льюис описывает феномен еврейской симпатии к исламу, что видно на столь знаменитом примере, как премьер-министр Великобритании крещеный еврей Бенджамин Дизраэли. Противники нападали на Дизраэли за его протурецкую позицию в Восточном вопросе и постоянно представляли его, наряду с другими евреями в то время, как «восточного» в глубине души, вступившего в союз с мусульманами в борьбе против антисемитской христианской России. Ислам и исламская цивилизация привлекали и еврейских ученых Центральной Европы, часто это были специалисты в талмудических исследованиях, – например, легендарный венгерский ученый Игнац Гольдциер. Восхищение Гольдциера исламом привело его к тому, что он поехал учиться в знаменитое религиозное училище при мечети Аль-Азхар в Каире и стал отцом-основателем современной арабистики и исламоведения. Чтобы объяснить происламское мировоззрение столь многих европейских евреев, Льюис сформулировал широко принятую сейчас теорию. Он утверждал, что евреи были разочарованы медленным прогрессом эмансипации в Европе и в то же время встревожены становлением нового, расистского и политического, антисемитизма. Ностальгически оглядываясь назад, на средневековый ислам, особенно на мусульманскую Испанию, они лелеяли миф об исламском толерантном обществе, дарующем евреям свободу и равенство, которых центральноевропейские, особенно германские, евреи с надеждой ожидали от христианских соотечественников. Здесь Бернард Льюис произнес то, что не могло не стать одной из многих его максим: «Миф, придуманный евреями в Европе XIX века как упрек христианам, в наше время принят на вооружение мусульманами как упрек евреям» [7].
Тут я должен вставить комментарий по поводу известного спора между Льюисом и Эдвардом Саидом об «ориентализме». В книге «Ориентализм» Саид оправдывает отсутствие в своем разборе немецких арабистов и исламоведов тем, что Германия не принимала участия в колонизации Ближнего Востока в отличие от Англии и Франции, использующих «ориентализм» (у Саида это слово применяется в уничижительном смысле) как инструмент реализации колониальных планов. Если бы Саид проработал труды немецких (или немецкоязычных) востоковедов, он бы обнаружил то, о чем Льюис написал в 1968 году: что среди них было огромное множество евреев, что они восхищались исламом и что Льюис, венец «ориентализма» в ряду виновных (по Саиду), с симпатией писал об их происламской позиции [8].
Книга «Евреи ислама» привлекает наше внимание по многим причинам. Я назову их в соответствии с порядком глав. Начальная глава, «Ислам и другие религии», самим названием анонсирует тематику книги. Льюис рассматривает евреев как одно из религиозных образований, с которыми соприкоснулся ислам. Эти образования, в первую очередь евреи, христиане и зороастрийцы, стали зимми, «пребывающими под защитой» – статус, присвоенный тем, кто в Коране назван «народами Книги». Тематический охват этой главы являет реакцию Льюиса на две работы о немусульманах, которые он цитирует в начале, в самой первой сноске, одна французская, затем переведенная на английский, иврит и русский, другая – немецкая; работы, которые, как он пишет, «акцентировали негативные аспекты мусульманского прошлого».
Когда в 1984 году «Евреи ислама» были опубликованы впервые, интернет в публичном пространстве еще не существовал. Настоящее издание выходит в свет, когда мир электронной (дез)информации стал после 11 сентября 2001 года форумом исламофобии в рамках явления, многими презрительно называемого зиммитюдом. «Евреи ислама» представляют более сбалансированную парадигму межрелигиозных отношений, чем то, что я назвал «неолакримозной концепцией еврейско-арабской истории» [9].
Льюис рассматривает зимми так, как их следует рассматривать – как одну из категорий исламского религиозного законодательства (закрепленного, в свою очередь, в религиозных принципах ислама), гарантирующего базовые привилегии, даже когда оно определяет правовые ограничения. Это отношение мусульман к зимми стало результатом процесса, берущего начало в контактах и конфликтах Мухаммеда с евреями Медины (христиан в этом первом центре исламского государства не было). Ранняя политика по отношению к зимми, как описывает ее Льюис, выковывалась в обстоятельствах, когда мусульмане были в меньшинстве и должны были утвердить свою власть и отличить себя от большинства коренных жителей территорий, завоеванных мусульманскими армиями. После событий в Медине число евреев на землях бывшей Византийской империи и Сасанидской Персии, покоренных исламом, сокращалось до уровня демографического фона, хотя они и обладали таким же статусом, как более многочисленное христианское и зороастрийское население.
В первые века исламского правления (вплоть до XII–XIII веков), когда исламское сообщество в целом не встречало угрозы со стороны внешних сил, отношение к зимми было довольно терпимым, что отражало плюралистический состав исламского мира, в котором «мусульмане, христиане и евреи <…> хотя и исповедовали разные религии, но формировали единое общество». В течение этих столетий ограничения для зимми, кодифицированные в так называемом «Договоре ‛Умара», отмечались больше в нарушениях, чем в исполнении, и преследования являлись исключением, а не правилом. Кроме того, мусульманские священнослужители и правители (правда, со множеством исключений) обычно соблюдали надлежащую судебную процедуру для «кары» немусульманам за предполагаемые нарушения «Договора». В связи с этим Льюис отмечает важный контраст с судьбой евреев на христианских землях, где они были единственной нехристианской группой и, следовательно, концентрировали на себя христианские страхи и вражду и становились объектами преследования чаще, чем в исламских странах.
Далее Льюис утверждает, что известные эпизоды преследований или гонений в начале исламской эры, такие как насильственные меры к зимми при благочестивом халифе ‛Умаре II в начале VIII века [10] и направленные против зимми указы аббасидского халифа Аль-Мутаваккиля в середине IX века, следует понимать контекстуально, как ответы на вызов «истинной» исламской вере и на недопустимое поведение немусульман. (Не)знаменитое убийство визиря-еврея Йосефа Ибн-Нагрелы и последующая расправа над еврейской общиной в Гранаде в 1066 году (один из немногих эпизодов в начале исламской эры, когда насилие направлено конкретно на евреев) явились реакцией на еврейскую неспособность выполнить свою часть договора зиммы, превышая тот скромный уровень, который им следовало сохранять.
Льюис объясняет, что позднее все изменилось к худшему, отчасти потому, что, как предполагал ранее Ш.-Д. Гойтейн, политически децентрализованное, более открытое, а значит, более толерантное «буржуазное» общество первых веков сменилось авторитарными режимами с их строгим контролем над экономикой и с неодобрением былой толерантности. Льюис также предлагает собственное, дополнительное объяснение перехода к нетерпимости. Когда господству ислама ничто не угрожало, были в безопасности и зимми; когда ислам оказался перед внешней угрозой, это стало небезопасным и для зимми. На востоке ислам столкнулся с противостоянием в виде начавшихся в конце XI века Крестовых походов, а на западе – в виде испанской католической Реконкисты, начавшейся несколько ранее. В XIII веке монголы-язычники истребили значительную часть населения в восточных владениях ислама и уничтожили последние остатки халифата. Но Льюис объясняет, что поворот в судьбе зимми в позднем мусульманском Средневековье не носил никаких примет, характерных для христианского антисемитизма. Мусульманские репрессии отчасти основывались на том, что мы могли бы назвать «рациональным» страхом перед союзом зимми с внешним врагом. Христианские гонения на евреев в средневековой Европе (как и в наши дни), напротив, основывались на «иррациональном» страхе перед воображаемой «еврейской властью».
Политика по отношению к зимми была более жесткой на периферии исламского мира, на Западе при ригористах Альмохадах в XII веке и в Иране, после того как шиизм стал государственной религией в XVI веке. Руководимые пуристским «мессианским» видением ислама, Альмохады жестоко навязывали свою версию ислама немусульманам, а также несогласным с ними мусульманам в нарушение принципа «нет принуждения в религии» (Коран, 2:256). Тем самым они фактически положили конец христианству в Северной Африке. Евреи, вернувшиеся к открытому исповеданию иудаизма после того, как фанатизм Альмохадов утих, остались единственными зимми, частично утратив, однако же, защиту, характерную для плюралистического общества. В позднесредневековом Иране шиизм представлял особую проблему для евреев и других немусульман: в отличие от основного исламского течения, суннитского, шииты Ирана поставили понятие скверны, нечистоты (наджаса, осн. на Коране, 9:28) в центр своих религиозных представлений. Евреи и другие зимми считались по своей сути нечистыми, и физический контакт с ними был запрещен. Эта доктрина, вероятно, усилившаяся, как убедительно предполагает Льюис, за счет зороастрийских концепций скверны, сделала евреев и других немусульман более уязвимыми к репрессиям, преследованиям и насильственному обращению.
Во второй главе книги вводится удачный термин «иудео-исламская традиция», который, по Льюису, знаменует, что религиозная и культурная цивилизационная общность иудаизма и ислама является более тесной, чем даже в гораздо более известном случае «иудео-христианской традиции». Льюис также использует термин Гойтейна «симбиоз», чтобы подчеркнуть взаимовлияние двух культур. Его аргументы о возможном еврейском или христианском влиянии на основателя ислама приобретают особую убедительность от привлечения тех обобщающих положений, которые входят в саму концепцию мусульман о своей религии. Это была «многообразная и плюралистическая цивилизация», цивилизация (опять же по контрасту с христианской), не «богословская» и не «идеологическая» в своих взглядах на обращение с евреями. Некоторая враждебность, выраженная в относительно скудном арсенале мусульманской полемики по отношению к евреям, возникла, по сути, у христианских или еврейских новообращенных. Напротив, уважительная тенденция наблюдается у суфийских мистиков и рациональных релятивистов. Близостью ислама к иудаизму, а также политическим оппортунизмом объясняются многочисленные добровольные обращения евреев к доминирующей религии. Эпизоды насильственного обращения подтверждают тезис Льюиса, что немусульманин испытывает больше трудностей на периферии исламского мира, чем в его центре. Главным образом евреи и другие немусульмане сталкивались не с насилием, а с «унижением» и «незначительными притеснениями». Льюис также контекстуально рассматривает известное заявление Маймонида (Рамбама)[11] в письме к страдающим от притеснений евреям Йемена в 1172 году о том, что «не было [из] всех восстающих на Израиль общины более злобной, чем эта, и никто не заходил так далеко в унижении и ослаблении нас, как они [мусульмане]» – пассаж, ставший знаменательным лозунгом «неолакримозной» исламофобской школы. Заявление отражает собственный недавний опыт великого мудреца, опыт альмохадских преследований в родной Испании и Марокко, и «не может быть принято в качестве точной картины общей ситуации. Но его наблюдения, безусловно, содержат часть истины». Льюис завершает главу несколькими необходимыми замечаниями об общинной и судебной автономии, которую мусульманские власти предоставили евреям.
В третьей главе «Позднее Средневековье и раннее Новое время» Льюис, вкратце обрисовав геополитическую обстановку еврейской жизни от Центральной Азии до Марокко, концентрирует затем основное внимание на Османской империи, которая по сравнению с классическим периодом предлагает «столь широкие возможности», однако же, «столь малы достижения». Льюис излагает содержание примечательных документов, обнаруженных в османских архивах, а также других материалов, связанных с этим периодом. С 1984 года с этими данными проведена большая дополнительная работа, и соответствующий грант в немалой степени обязан своим появлением новаторским результатам Льюиса и поощрению его дальнейших исследований. Подробные данные о еврейской демографии, предоставленные архивными документами Османской империи, уникальны в еврейской историографии периода до младотурецкой революции. Общинная жизнь и интеллектуальный вклад османского еврейства, представленные во множестве еврейских источников, значительно отличаются от того, что имело место в классический период ислама, в том числе и из-за наличия сильного европейского элемента в виде испаноязычных изгнанников из Иберии, а также пришедших вслед за ними эмигрантов, спасающихся от христианских преследований. Эти эмигранты прежде всего были полезны империи своими предпринимательскими способностями.
На практике османская политика в отношении евреев была не особо обременительной, султаны подчас покровительствовали евреям за их экономические навыки и международные контакты, а также потому, что правители предпочитали их бесспорно лояльную службу деятельности своих греческих, армянских и христианских арабских подданных. В целом же взаимодействие евреев и турок не ознаменовалось проявлением такого культурного симбиоза, который имел место в классический период. Да и сама еврейская жизнеспособность после цветущего XVI века постепенно скатилась до упадка в веке XVII, отчасти в результате упомянутой экономической конкуренции, но в целом упадок отражал растущую слабость самой Османской империи. Режим стал менее толерантным, хотя наихудшие эксцессы были спровоцированы христианами, в частности кровавым наветом. Такое порой случалось и в XVI веке, а затем чаще, с более серьезными последствиями, в веке XIX.
То обстоятельство, что в третьей главе основное внимание уделено османскому еврейству, отражает собственные научные интересы Льюиса и его намерение стимулировать исследования этого несколько забытого периода. Глава завершается относительно короткой кодой о Марокко и Иране. «Исторический закон» о том, что плюрализм действует во благо евреям, Льюис иллюстрирует изображением убогого положения марокканского еврейства – единственной общиной зимми, оставшейся в стране. Евреи Ирана в этот позднесредневековый/раннесовременный период страдали от доктрины скверны и периодических давлений ради обращения в ислам. Положение дел не улучшилось и при Каджарах (1794–1925).
В последней главе Льюис описывает то, что он назвал «Конец традиции». Картина еврейской жизни в XIX веке, будь то в Иране, Марокко или Османской империи, выглядит весьма удручающе. Кровавые наветы, внедрение методов европейского христианского антисемитизма в исламский мир распространяются по нарастающей, хотя проводниками выступают обычно христиане, а не мусульмане. Также по нарастающей идет проникновение западных держав на эти территории для защиты собратьев-христиан и собственных национальных интересов. Что касается евреев, то такие европейские организации, как французский Alliance Israélite Universelle, выступают в их защиту, не забывая в то же время и о французской миссии «цивилизовать» «отсталый» исламский мир. Худшим местом для евреев в этот период оказывается Иран. Османская империя, занятая реформами, включающими и полное упразднение зиммы, аттестуется Льюисом гораздо более позитивно.
Как и для предшествующих столетий, среди многих причин ухудшения еврейской жизни в эту последнюю эпоху Льюис выделяет упадок власти и отсутствие у мусульман уверенности в себе, на сей раз из-за «мертвой хватки» британского, французского и российского вмешательства – словом, западного империализма. Нетерпимость мусульман по отношению к немусульманскому населению – в первую очередь к более многочисленным европейским христианам, но в конечном счете также и к евреям – нарастает прямо пропорционально вновь обретенному влиянию и защите, которые многие немусульмане получают от западных держав. Если что-то из общей «иудео-исламской традиции» еще сохранялось в XIX веке, то Льюис рассказывает скорее о том, что иностранное вмешательство и еврейская восприимчивость к европейскому образованию и модернизации стали вбивать клин между евреями и их мусульманскими соседями. В то же время восточные христиане, стремясь причинить неудобства своим еврейским бизнес-конкурентам, все чаще обращались к антисемитизму в европейском духе. Со своей стороны, евреи Османской империи, в отличие от греков и армян, не соблазнились ни европейским образованием в виде школ, ни другими атрибутами модернизации по крайней мере до конца XIX века; в этом они отличались даже от евреев Северной Африки, живущих в странах под французским колониальным правлением.
В качестве еще одного свидетельства «конца традиции» Льюис отмечает приятие антисемитизма самими мусульманами. Эта тенденция, признает Льюис, развивается по нарастающей из-за восприятия сионизма как угрозы, и проявляется она в пропаганде всех видов – от выступлений политиков до школьных учебников и мультфильмов. Наряду с другими более глубокими причинами упадка их статуса, общего для евреев ислама и других немусульман, палестинский вопрос еще более ухудшил положение евреев, хотя в целом они мало интересовались сионизмом вплоть до всплеска арабского насилия в ответ на рост сионистской угрозы. Отъезд большинства евреев с мусульманских земель в ответ на угрозы и физическое насилие после создания Государства Израиль в 1948 году ознаменовал окончательный разрыв с тем, что еще сохранялось от иудео-исламской традиции.
Книга «Евреи ислама», едва появившись, стала знаковой. На тот момент актуального обзора темы просто не существовало. Более полудюжины переводов на иностранные языки означают ее международное признание. Переиздание спустя тридцать лет после первой публикации свидетельствует об актуальности авторской трактовки спорной темы, трактовки, которая стоит на голову выше как многих исламофобских изображений еврейского опыта в исламском мире, так и чрезмерно радужных рассказов в арабских книгах и статьях, вышедших в свет как до, так и после книги Льюса. Читателям, которым нужен краткий обзор долгой эпохи еврейско-мусульманских отношений, книга понравится, а для более серьезных исследователей, нуждающихся в отправной точке для масштабных и глубоких разработок, станет незаменимым введением в тему [12].
Марк Р. Коэн, профессор кафедры Ближнего Востока в Принстонском университете (США)
1
Ей предшествовала статья на французском: L’Islam et les non-musulmans // Annales: histoire, sciences sociales. 35. 1980. P. 784–800. — Примечания к данному предисловию – М. Коэна, если не указано иное.
2
Semites and Anti-Semites: An Inquiry into Conflict and Prejudice. New York, 1986; переизд. 1999. Льюис предварил публикацию книги краткой статьей: Semites and Anti-Semites: Race in the Arab-Israel Conflict в журнале Survey. 79. № 2. 1971. P. 169–184. В год выхода книги Льюис опубликовал большую статью: The New Anti-Semitism // New York Review of Books. March, 1986.
3
В своих воспоминаниях Льюис писал: «Хотя главной темой моих научных интересов была история ислама, я никогда не забывал о гебраистике и иудаике, первый интерес к которым привел меня в область ближневосточных исследований»: Notes on a Century: Reflections of a Middle East Historian (with Buntzie Ellis Churchill). New York. 2012. P. 95. В дальнейшем я не ссылаюсь на работы Льюиса об Израиле и ближневосточном конфликте, поскольку они не связаны непосредственно с его трудом по истории евреев под властью ислама.
4
Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 10. 1939. P. 179–184.
5
Синай. 1940. С. 25–29.
6
Metsudah / Ed. S. Rawidowicz. London, 1945. P. 171–180. См. также: Lewis B. Notes on a Century. P. 95–96.
7
Я развил эту идею в моей книге: Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages. Princeton University Press, 1994; новое издание с новыми предисловием и послесловием вышло в 2008 г., см. главу 1 «Myth and Countermyth» («Миф и антимиф»). (Издание на русском языке см.: Коэн М. Р. Под сенью креста и полумесяца: евреи в Средние века. М: Книжники, 2013. – Примеч. ред.)
8
Эдвард Саид в «Ориентализме» лишь трижды ссылается на Гольдциера, и единственная содержательная ссылка гласит, что даже благожелательная оценка Игнацем Гольдциером толерантного отношения ислама к прочим религиям обесценивается его неприязнью к Мухаммеду за «антропоморфизм» и к теологии и юриспруденции ислама – за «поверхностность».
9
Cohen M. R. The Neo-Lachrymose Conception of Jewish-Arab History // Tikkun. May-June 1991. P. 55–60.
10
В мусульманской историографии господствует восторженное отношение к омейядскому халифу ‛Умару II (правил в 617–620 гг.), правление которого, по мнению историков, ознаменовалось законодательными послаблениями по отношению к зимми. Происшедшие в его правление массовые переходы зимми в ислам объясняют тем, что он отменил джизью, особый налог для немусульман, тем зимми, которые обратились в ислам (ранее даже после обращения они все равно должны были ее платить), и, значит, таких бывших зимми не следует считать насильственно обращенными. Как видим, автор предисловия и автор книги (см. далее с. 61) не разделяют столь позитивного мнения об этом правителе. – Примеч. переводчика.
11
«Послание в Йемен» Рамбама цит. по изд.: Рабби Моше бен Маймон. Послания и другие труды. М.: Лехаим; Книжники, 2011. С. 212.
12
Дополнительный обзор по теме можно найти в: History of Jewish-Muslim Relations: From the Origins to the Present Day / Ed. by Abdelwahab Meddeb and Benjamin Stora. Эта книга вышла в Princeton University Press в 2013 г. одновременно с оригинальным французским изданием.