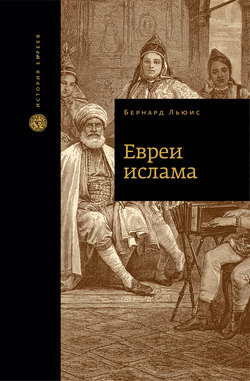Читать книгу Евреи Ислама - Бернард Льюис - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава I
Ислам и другие религии
ОглавлениеВ том, что касается исламской веротерпимости, как и исламской нетерпимости, бытуют два стереотипа1 [13]. Первый описывает фанатичного воина, арабского всадника, выезжающего из пустыни с мечом в одной руке и Кораном в другой, рыщущего в поисках жертвы, чтобы предложить ей роковой выбор. Этот образ, ставший популярным благодаря Эдварду Гиббону с его «Историей упадка и разрушения Римской империи»2, не только неверен, но и невозможен, если мы не допустим существование народа всадников-левшей. Левую руку мусульмане обычно используют для нужд не весьма возвышенных, и никакой уважающий себя мусульманин ни тогда, ни теперь не будет возносить Коран левой рукой. Другой образ, столь же нелепый, являет межконфессиональную, межрасовую утопию, в которой мужчины и женщины, дети разных народов и представители различных религий, живут бок о бок в Золотом веке всеобщей гармонии, благоденствуя в обществе равных прав и возможностей и трудясь на благо прогресса цивилизации. В еврейских реалиях второй из этих стереотипов соответствует современной Америке, только еще лучше, а первый – гитлеровской Германии, только еще хуже, если это вообще возможно.
Оба эти представления, разумеется, являются грубейшими искажениями, однако, как это часто случается в стереотипах, они содержат некоторые элементы истины. Их объединяет то, что оба относительно недавние и имеют западное, а не исламское происхождение. И для христиан, и для мусульман толерантность – достоинство относительно новое, как и нетерпимость – новое преступление. По большей части в истории обеих общин толерантность не ценилась, а нетерпимость не осуждалась. До недавнего времени христианская Европа, сама не ценя и не практикуя толерантности, не была так уж сильно оскорблена ее отсутствием в других местах. Обвинение, всегда выдвигавшееся против ислама, заключалось не в том, что его доктрины навязываются силой – это-то как раз считалось нормальным и естественным, а в том, что они ложны. Точно так же с мусульманской стороны утверждение о терпимости, ныне столь растиражированное апологетами мусульманства, является новым и чужеродным. Утверждение некоторых приверженцев ислама, что их общество в прошлом предоставляло равный статус иноверцам, появилось совсем недавно. Таких утверждений никогда не делали представители «Возрождения ислама»3, и исторически они, несомненно, правы. Традиционное исламское общество такого равенства не предоставляло и не делало вида, будто предоставляет. При прежнем порядке это было бы расценено не как заслуга, а как неисполнение обязанностей. Как можно предоставлять равенство с последователями истинной веры тем, кто умышленно отвергает ее? Это был бы и теологический, и логический абсурд.
Истина находится где-то между двумя противоборствующими стереотипами, и она более сложна, многоцветна и вариативна, чем любой из них.
Насколько толерантен был ислам в прошлом? Возможные ответы во многом зависят и от того, что мы подразумеваем под исламом, – это не так просто и очевидно, как может показаться на первый взгляд, и от того, что мы подразумеваем под толерантностью, – здесь опять же масса определений и вопросов, не в последнюю очередь о наших собственных стандартах сравнения.
Определение ислама – проблема знакомая: само слово «ислам», как часто отмечалось, используется в нескольких разных смыслах. Во-первых, это откровение, определяемое мусульманами как окончательное, дарованное Богом пророку Мухаммеду и содержащееся в священной книге, именуемой Коран. Мы можем назвать это первоначальным исламом: набор доктрин и заповедей, которые являются основой и отправной точкой религии, известной под этим названием.
Но термин «ислам», как и «христианство», применяется и в более широком смысле для обозначения исторического развития религии после смерти ее основателя. В таком смысле ислам охватывает теологию и мистицизм, богослужение и ритуал, законодательство и уложение о государственном устройстве, а также все, что думали, говорили и делали бесчисленные мусульмане во имя веры. Ислам в этом значении может отличаться от ислама Пророка, как, скажем, христианство императора Константина и епископов – от христианства Христа, или, мы могли бы добавить, как иудаизм Талмуда от иудаизма Торы или иудаизма сегодняшнего.
Но в целом в исламе отличие, вероятно, было не столь разительным, как в иудаизме или христианстве, из-за совершенно разного опыта основателей трех религий. Моше умер, не войдя в Землю обетованную; Христос умер на кресте. Мухаммед обрел не мученичество, а власть. Он еще при жизни стал главой государства, полководцем, учредителем налоговой политики, законодателем и судьей. В дальнейшем взаимопроникновение веры и власти, религии и администрации оставалось характерным для ислама на протяжении большей части его истории. Тем не менее и после смерти Пророка произошло множество событий, имевших свои последствия, и ислам в империи халифов, подобно христианству в империях Рима и его преемников, превратился в нечто гораздо более сложное и многомерное, чем он был первоначально.
Наконец, существует и третье значение термина, в котором «ислам» является аналогом не христианского вероучения, а христианского мира, не только религией, но целой цивилизацией, включающей в себя многое из того, что мы в западном мире не классифицируем как религиозное ни в каком смысле. Например, термин «исламское искусство» означает практически любой вид искусства, произведенный в исламском мире и отмеченный определенными культурными, а не только религиозными особенностями. Термин «христианское искусство» ограничивается сакральным и церковным искусством и, конечно, не распространяется на все искусство, производимое христианами и тем более нехристианами, живущими в христианском мире. Точно так же «исламская наука» означает математику, физику, химию и остальное, произведенное в рамках исламской цивилизации и выраженное обычно на арабском, иногда на каком-нибудь другом языке ислама. В значительной части эта наука, как и искусство, являются плодами трудов не мусульман, а христиан и евреев, живущих на исламских землях и составляющих часть исламской цивилизации, в которой они сформировались. Напротив, термин «христианская наука» не используется для обозначения научных достижений христиан и других представителей христианского мира. До сравнительно недавнего времени этот термин вообще не употреблялся, а изначально имел совершенно иное значение.
Учитывая центральное место и всеохватность религии в исламской жизни и культуре, даже в этом, третьем, смысле слова религиозный элемент в исламе превосходит по объему и значимости то, что мы видим в христианском мире. Но в этом смысле термин «ислам» означает не заповедь, а практику, не доктрины и заветы ислама, а летопись мусульманской истории – летопись деятельности людей, их успехов и неудач, их слабостей и достижений. Мусульмане, как и все человечество, иногда не соответствуют своим собственным идеалам, а иногда ослабляют свои строгие правила. Ищем ли мы терпимость или нетерпимость в теории и практике ислама – ответы могут отличаться в зависимости от принятого определения ислама, а также от нашего понимания толерантности и ее пределов.
Что мы на самом деле подразумеваем под терпимостью? В подобных вопросах существует неизбежная тенденция анализировать и оценивать путем сравнения. Говоря о толерантности в исламе, мы вскоре приходим к ее сопоставлению с толерантностью в других обществах – в христианском мире, в Индии, на Дальнем Востоке или, возможно, на современном Западе. Такое сопоставление активно культивируют полемисты разного толка и, конечно, сильно упрощают себе задачу, выбрав наиболее подходящие для них условия сравнения. Например, всегда легко продемонстрировать превосходство одной религии над другой, сопоставляя от одной религии заповедь, а от другой – практику. Я как-то читал восхитительную брошюру, доказывающую, что Исламский халифат превосходит американскую систему президентства. Это было сделано просто: халифат определялся в терминах богословских и юридических трактатов, а президентство – в терминах последних вашингтонских скандалов. Конечно, столь же легко было бы продемонстрировать обратное – тем же методом: определив президентство согласно конституции, а халифат – с точки зрения средневековых багдадских сплетен, и тут у нас нет недостатка в источниках.
Сопоставление такого рода, при всей его общепринятости, не принесет пользы, разве что эмоционально позабавит. Сравнивать свою теорию с практикой другого – это интеллектуальное мошенничество, вводящее в заблуждение путем сравнения лучшего от одного с худшим от другого. Если материалом сравнения для христианского мира мы возьмем испанскую инквизицию или немецкие лагеря смерти, то легко доказать, что практически любое другое общество толерантно. В исламской истории нет ничего похожего на Освенцим, но было бы нетрудно назвать мусульманских правителей или лидеров ранга Коттона Мэзера [14] или Торквемады и таким образом продемонстрировать христианскую толерантность.
Более изощренная форма натянутого сравнения состоит в том, чтобы сопоставлять несравнимые времена, места и ситуации. Например, средневековое общество с современным, или общество, для которого религия важна в высшей степени, а веротерпимость – это тест на поиск «слабого звена», со светским обществом, где интерес к религии незначителен. Терпимость легко воспринимается при безразличии и гораздо труднее – в тех вопросах, которые нас глубоко волнуют. Это несложно заметить при беглом взгляде на эффективные ограничения свободы выражения мнений в научной практике даже в самых развитых современных демократиях.
Хотя в современном обществе религию в качестве основного источника конфликтов и, следовательно, репрессий вытеснили другие расхождения, термин «терпимость» по-прежнему чаще всего используется для признания доминирующей религией присутствия других. Наше исследование ограничивается одним вопросом: как исламская власть относилась к другим религиям? Или, точнее, как те, кто в разное время и в разных местах считали себя покровителями мусульманской власти и закона, относились к своим немусульманским подданным?
Вопрос о том, можно ли это отношение назвать терпимостью, зависит, как уже отмечалось, от определения. Если под терпимостью мы подразумеваем отсутствие дискриминации, то ответ будет один; если отсутствие преследования – то совсем другой. Дискриминация существовала всегда, постоянная и даже необходимая, присущая системе и институционализированная законом и практикой. Преследования, то есть насильственные и активные репрессии, являлись редкими и нетипичными. Евреи и христиане при мусульманском правлении, как правило, не были вынуждены стать мучениками веры. Они нечасто оказывались перед выбором, который пришлось делать евреям и мусульманам во вновь захваченной христианами Испании – между изгнанием, отступничеством и смертью. Они не подпадали под какие-либо серьезные территориальные или профессиональные ограничения, ставшие общим уделом евреев в Европе до Нового времени. Исключения бывали, но до сравнительно современной эпохи они на общую картину не влияли и даже тогда имели место только в отдельных областях, периодах и ситуациях.
Ислам часто называют эгалитарной религией, и это во многом верно. Посмотрев на изменения, принесенные исламом во время его возникновения в Аравии VII века, более того, cравнив средневековый мусульманский мир с кастовой системой, укоренившейся в те времена на Востоке (в Индии), и с аристократическими привилегиями на Западе (в христианской Европе), мы действительно охарактеризуем ислам как эгалитарную религию в эгалитарном обществе. В своем устройстве и по закону исламская община не признает ни касты, ни аристократии. В соответствии с природой человека и те и другие иногда навязывали себя, но это происходило в исламе вопреки ему, а не как его имманентная составляющая. Такие отклонения от идеи равенства неоднократно осуждались и традиционалистами, и радикалами как неисламские или антиисламские инновации.
В целом ислам предоставлял гораздо больше социальной мобильности, чем это допускалось в христианской Европе или индуистской Индии. Но в некоторых важных аспектах это равенство статуса и возможностей было ограничено. Званием полноправного члена общества обладали только свободные мужчины-мусульмане. Прочие, кто не соответствовал хотя бы одному из этих трех условий, то есть рабы, женщины или неверные, равноправием не обладали. Три основных вида неравенства – между господином и рабом, мужчиной и женщиной, правоверным и неверным – не просто допускались, они были установлены и регулировались священным законом. Все эти три группы приниженных признавались необходимыми или по крайней мере полезными; все они имели свои места и функции, даже если о третьей группе порой высказывались сомнения. При общем согласии о необходимости рабов и женщин иногда все-таки возникал вопрос: так ли уж нужны неверные? Однако господствующее мнение сводилось к тому, что и они необходимы для разных полезных целей, в основном экономических.
Главная разница между этими тремя группами – возможность выбирать. Женщина не может по своему желанию стать мужчиной. Раб может быть освобожден, но по выбору хозяина, а не по своему. И женщина, и раб при этом находятся в положении вынужденной – а для женщины еще и неизменной – ущербности. Ущербность неверного, однако, совершенно не является непреложной, он может отбросить ее в любой момент простым волевым актом. Приняв ислам, он будет членом доминантной общины, а его статус правовой неполноценности останется в прошлом. Правда, в раннеисламский период имела место некоторая социальная дифференциация между арабами-мусульманами, основавшими империю, и неарабами-новообращенными среди их подданных, и наследие этих различий сохранялось в юридических формулах4, но в целом этот давний вопрос оказался забыт. В большинстве случаев и мест проявления неравенства между старыми мусульманами и новообращенными не выходили за рамки обычного социального снобизма. Таким образом, статус ущербности для неверного являлся полностью добровольным. С мусульманской точки зрения это поистине можно охарактеризовать как умысел: евреям и христианам была предложена Божья истина в окончательном и совершенном виде; то, чем их собственные религии являлись ранее, оказалось несовершенным и было отменено, а они умышленно и глупо эту истину отвергли.
Таким образом, из трех жертв социального гнета неверный – единственный, кто оставался угнетенным по собственному выбору. Кроме того, его ущербность была по сравнению с двумя другими группами наименее обременительной. При прочих равных условиях свободному мужчине-неверному в мусульманском обществе было комфортнее, чем женщине или рабу. Возможно, именно поэтому для неверного сочли более настоятельным, чем для женщины или раба, усугубить или по крайней мере явно символизировать его статус ущербности. Чуть задержимся на этом.
История отношений между мусульманским государством, с одной стороны, и немусульманскими подданными и, позднее, соседями – с другой, начинается с истории Пророка. Коран и мусульманская традиция рассказывают нам об отношениях Мухаммеда с евреями Медины и Северного Хиджаза, с христианами Наджрана на юге и другими христианами на севере, а также с язычниками, которые составляли большинство арабского населения. Что делать с язычниками, было ясно: ислам или смерть. Для евреев и христиан, обладателей того, что было признано религией, основанной на подлинных, хотя и отмененных откровениях, выбор включал третий вариант: ислам, смерть или подчинение. Последнее означало выплату дани и признание господства мусульман. Смерть могла быть заменена рабством.
На раннем этапе своей деятельности в качестве правителя Медины Пророк вступил в конфликт с тремя проживавшими там еврейскими племенами. Все три были побеждены, и, как гласит мусульманская традиция, двум из них был предоставлен выбор между обращением в ислам и изгнанием, а третьему племени, Бану Курайза, – между обращением и смертью. Горечь, порожденная противостоянием еврейских племен Мухаммеду, отражена в откровенно отрицательных словах о евреях в Коране, а также в биографии и наследии Пророка5.
Иная ситуация возникла с захватом в 7 году хиджры [15](что соответствует 629 году) оазиса Хайбар, около девяноста пяти миль от Медины. Этот оазис, населенный евреями, включая тех, кто был изгнан из Медины, стал первой территорией, завоеванной мусульманским государством и взятой под его власть. Евреи Хайбара капитулировали примерно через полтора месяца военных действий, и им разрешалось оставаться в оазисе и возделывать свои земли, но они должны были отдавать половину продукции мусульманам. Это соглашение стало locus classicus, классическим примером для последующего юридического суждения о статусе завоеванных мусульманским государством немусульманских подданных. Авторитет этого прецедента не пострадал и от последующей высылки евреев Хайбара во времена халифа ‛Умара I (634–644)6.
Контакты с христианами при жизни Пророка были не столь судьбоносны и не столь проблематичны, как с евреями. Отношения Пророка с христианскими племенами и поселениями в Северном Хиджазе, а затем и в Южной Аравии в целом регулировались соглашениями, самым известным из которых был договор с христианами Наджрана. В соответствии с этим договором христианам разрешалось исповедовать свою религию и вести свои дела при условии, что они платили фиксированную дань, оказывали гостеприимство представителям Пророка, занимались снабжением мусульман во время войны и воздерживались от ростовщичества. Несомненно, из-за более мирных отношений между Пророком и христианами Коран характеризует их благосклоннее, чем евреев. Часто цитируемый отрывок отражает различные соображения Пророка об адептах двух предшествующих религий: «Ты, конечно, найдешь, что более всех людей сильны ненавистью к уверовавшим иудеи и многобожники, и ты, конечно, найдешь, что самые близкие по любви к уверовавшим те, которые говорили: “Мы – христиане!”» (5:82) [16].
Другие пассажи в Коране и прочих текстах, где говорится об Иисусе, хотя и не допускают христианской доктрины о природе Христа и его миссии, тем не менее разделяют христианский взгляд на отказ евреев признать Иисуса. К концу жизни Пророка расширение мусульманского государства имело своим результатом контакты, а иногда и конфликты с христианскими племенами, и тут в мусульманских писаниях и традиции отношение к христианам несколько ужесточается. Но, хотя в целом отношение к христианам остается гораздо более благоприятным, чем к евреям, последующее развитие исламского права такого различия между ними не делает.
Политическая проблема отношений мусульман и немусульман уже при жизни Пророка стала явной, и принципы ее решения содержатся в Коране. Как верховный судья, а затем правитель Мединской общины, Пророк имел дело с еврейскими подданными; как суверен исламского государства занимался вопросами взаимоотношений и с христианскими, и с еврейскими соседями в других частях Аравии. Изначально этот аспект рассматривался как один из вопросов власти: каким правилам должно следовать мусульманское государство в своих отношениях с немусульманскими подданными и соседями, пытаясь в дальнейшем завоевать последних, и из каких общих принципов вытекают эти правила? Коран отвечает на эти вопросы четко и недвусмысленно и содержит ядро того, что позже стало разработанной системой правовых норм.
Но Мухаммед стал политиком, чтобы исполнить свою пророческую миссию, а не наоборот, и ясно, что его главной заботой был строго религиозный аспект этих отношений, и здесь Коран тоже богат поучениями. В отличие от большинства предшествующих религиозных текстов, он показывает осознание религии как категорию, а не просто отдельное явление7. Существует не одна-единственная религия: есть религии. Слово, используемое для обозначения религии в арабском языке – дин, – очевидно, связано с еврейским и арамейским словом дин, означающим закон. И в иудаизме, и в исламе религия и право хотя и не идентичны, но во многом совпадают. Современное слово «религия» происходит от латинского, а латинское religio и греческое threskeia означают совсем разные вещи. Понятие религии как вида или категории, в которой ислам – это одно, а помимо ислама существуют и другие верования, присутствует, похоже, с самого начала исламской эпохи. Ряд аятов в Коране определяет новую религию через противопоставление другим, и это нормальный способ самоопределения для общин и индивидуумов. Часто цитируемая фраза описывает мусульман как умма дун аль-нас: община или сообщество, отличное от остального человечества. Ислам определяется через противопоставление христианству в аятах, отвергающих воплощение и троицу, против иудаизма – противопоставлением некоторым законам еврейского питания. Но гораздо важнее, чем в случае с христианством или иудаизмом, был отказ от язычества – главного врага, с которым боролся Пророк и у которого он отторг на свою сторону основную массу обращенных. Борьба с язычеством неизбежно сближала ислам с иудаизмом и христианством, если и не в качестве союзников, то во всяком случае как родственных конфессий, противостоящих общему противнику.
Что-то из этого чувства родственной общности можно найти в сознании всех трех общин, по крайней мере в позднейшие времена. В Коране есть места, которые поздние комментаторы и экзегеты интерпретировали как допущение религиозного плюрализма и даже сосуществования. Хотя точное значение некоторых из этих пассажей в первоначальном тексте недавно оспаривалось, нет никаких сомнений в отношении консенсуса мусульманского мнения. Так, например, аят лa икраха фи-д-дин (2:256), «нет принуждения в религии», обычно трактуется так, что к другим религиям следует относиться терпимо и их последователей нельзя вынуждать принимать ислам. Недавно один европейский ученый заявил, что эта фраза не похвала терпимости, а скорее выражение смиренного, почти неохотного принятия ожесточенной закоснелости других8. Можно выступать за или против такого толкования, но даже если мы примем предложенную версию, это не повлияет на обычную и регулярную интерпретацию данного аята в исламской правовой и теологической традиции. То же самое можно сказать и о хорошо известном стихе лякум динукум уа лийа дин (109:6): «У вас – ваша вера, и у меня – моя вера!» Здесь опять же могут быть некоторые сомнения в отношении того, что именно эти слова означают в их первоначальном контексте, но общее последующее толкование состояло в том, что это аргумент в пользу плюрализма и сосуществования. Еще один аят
13
Примечания автора, отмеченные цифрами, приводятся в конце книги.
14
Коттон Мэзер (1663–1728) – американский проповедник, моралист. Оказал значительное влияние на американскую политическую мысль и литературу. Однако долгое время бытовало мнение, что именно на основе его сочинений аргументировалось обвинение в процессе над салемскими ведьмами (1692–1693), когда многие люди по обвинению в колдовстве были казнены, замучены пытками или заключены в тюрьму. – Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.
15
Хиджра – переселение мусульманской общины под руководством Мухаммеда из Мекки в Медину, произошедшее в 622 г. Год хиджры стал первым годом исламского лунного календаря (лунной хиджры). – Примеч. науч. ред.
16
Здесь и далее текст Корана приводится в русском переводе И. Ю. Крачковского, но нумерация аятов дается по переводу издания «Аль-мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим» (Аль-азхар).