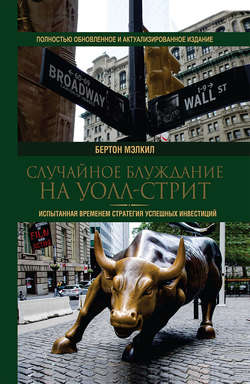Читать книгу Случайное блуждание на Уолл-стрит. Испытанная временем стратегия успешных инвестиций - Бертон Мэлкил - Страница 14
Часть первая
Акции и их стоимость
2
Безумие толпы
Уолл-стрит садится в лужу
ОглавлениеКонечно, и луковицы тюльпанов, и торговля в южных морях – это уже история. А может ли нечто подобное случиться в наше время? Давайте обратимся к недавнему и более знакомому нам прошлому. В 1920-е годы настала очередь Америки – страны неограниченных возможностей. А поскольку всем известна американская приверженность идеалам свободы и развития, то США породили самый большой бум и самый громкий крах в истории цивилизации.
Условия для массового сумасшествия были благоприятными, как никогда. Страна переживала период невиданного благосостояния. Доверие к американскому бизнесу было безграничным. Бизнесменов приравнивали к религиозным миссионерам и чуть ли не обожествляли. Похожие параллели проводились и в противоположном направлении. Брюс Бартон, один из владельцев нью-йоркского рекламного агентства Ваtten, Ваrton Durstine & Osborn, писал в книге «Человек, которого никто не знает», что Иисус Христос был первым бизнесменом, а его притчи можно считать «самой мощной рекламной акцией всех времен».
Начиная с 1928 года игра на бирже стала любимым занятием нации. С марта 1928 по сентябрь 1929 года фондовый рынок испытал такой же рост в процентном отношении, как за весь период с 1923 по 1928 год. Курс акций ведущих промышленных корпораций увеличивался порой на 10–15 пунктов в день. Этот подъем наглядно отображает следующая таблица.
Разумеется, широко распространенное мнение о том, что биржевыми спекуляциями занимались поголовно все, не соответствует действительности. Объем банковских кредитов, выданных под покупку акций, возрос с одного миллиарда долларов в 1921 году почти до 9 миллиардов в 1929 году. Однако в этом году всего один миллион вкладчиков приобрел акции в кредит. Тем не менее в обществе был широко распространен спекулятивный дух. Более того, биржевые спекуляции стали чуть ли не ядром американской культуры. Джон Брукс в книге «Однажды в Голконде»[2] вспоминает о своих беседах с английским корреспондентом, который только что прибыл в Нью-Йорк. Тот говорил: «О чем бы ни зашел разговор: о сухом законе, Хемингуэе, воздушных кондиционерах, музыке или лошадях, – в конечном итоге он обязательно сводится к бирже, и только тогда беседа приобретает серьезный характер».
К сожалению, сотни улыбчивых клерков со всей готовностью помогали вкладчикам строить воздушные замки. Манипуляции на бирже побили все рекорды нечестной игры. Пожалуй, не найти лучшего примера для иллюстрации, чем деятельность инвестиционных пулов. Один из них сумел поднять цену акций компании RCA на 61 пункт за четыре дня.
Для работы инвестиционного пула требовалось, с одной стороны, тесное сотрудничество его участников, с другой – полное пренебрежение интересами вкладчиков. Обычно такие операции начинались с того, что группа дельцов объединялась с целью оказания влияния на стоимость той или иной акции. Они назначали из своего состава менеджера пула (который должен был быть настоящим артистом) и договаривались не ставить друг другу палки в колеса в ходе всей операции.
Менеджер на протяжении нескольких недель втихомолку скупал крупный пакет акций или, если была такая возможность, покупал опцион на приобретение значительного количества акций по текущим рыночным ценам во время определенного периода. Затем он подбирал себе в союзники кого-нибудь из брокеров.
Участники пула были в курсе того, что на их стороне стоит брокер. Его помощь заключалась в следующем: если, допустим, акция продается за 50 долларов, а вы хотите купить ее за 45 долларов, то даете соответствующее поручение брокеру. Он следит за ситуацией и, когда цена на акцию опускается до 45 долларов, покупает ее. Все подобные поручения по покупке ниже рыночной цены или по продаже выше рыночной цены он отмечает в своей личной записной книжке. Отсюда становится понятно, почему брокер приобретает такую ценность для менеджера пула. Записная книжка дает всю необходимую информацию о количестве и характере поручений от вкладчиков. Всегда полезно знать карты противника. Вот здесь-то и начинается игра.
Обычно менеджер поручал участникам пула продавать акции друг другу. Например, один продавал другому 200 акций по 40 долларов, а тот, в свою очередь, перепродавал их первому уже по 40⅛. Затем этот процесс повторялся с 400 акциями по цене 40¼ и 40½ доллара. Да лее в действие вступал уже пакет из 1000 акций по 40⅝ и 40¾ доллара. Все эти операции отражались на телеграфных лентах во всех брокерских конторах страны, и у тысяч людей возникала иллюзия некой активности. Они начинали думать, что здесь заваривается какая-то большая каша.
На этом этапе журналисты, работающие под контролем менеджера пула, начинали активно комментировать происходящие события, не скупясь на положительные эпитеты. Менеджер обеспечивал поступление в прессу выгодной информации от руководства компании, с акциями которой он играл. Если все складывалось удачно – а в спекулятивной атмосфере 1928–1929 годов чаще всего так и случалось, – то вся цепь событий подталкивала публику в заданном направлении.
Публика, заглотив наживку, начинала лихорадочно скупать поднимающиеся в цене акции, а участники пула, наоборот, продавали их. Пока вкладчики успевали разобраться, что к чему, менеджер подбрасывал на биржу все новые и все более крупные пакеты акций, чтобы утолить их аппетит. В конечном итоге участники пула подсчитывали барыши, а вкладчики оставались с пакетом внезапно обесценившихся акций на руках.
Однако мошенникам вовсе не обязательно нужно было объединяться, чтобы обмануть публику. Многие должностные лица и руководители корпораций вполне справлялись с этой задачей и в одиночку. Взять хотя бы Альберта Виггина, главу второго по величине банка страны Chase. В июле 1929 года заоблачные курсы акций стали вызывать у него опасения, и он уже не рисковал играть на их дальнейшее повышение (уверяли, что с помощью пула, искусственно увеличившего стоимость акций его банка, Виггин нажил миллионы). Будучи уверенным, что перспективы банка весьма призрачны (в частности, из-за проведенных им спекуляций), он продал 42 тысячи акций. Это произошло как раз перед тем, как стоимость акций банка начала падать. Виггин надеялся, что впоследствии сможет приобрести те же самые акции по низкой цене и заработать на этом неплохие деньги. В принципе, это то же самое, как если бы он купил акции по низкой цене, а затем продал по более высокой, но только в обратном порядке.
Виггин очень удачно выбрал время для этой операции, так как сразу же после продажи акции Chase резко упали в цене, а затем осенью курс вообще обвалился. За счет этой махинации к ноябрю он нажил несколько миллионов долларов. Сомнительность подобной операции мало волновала Виггина. Правда, справедливости ради надо сказать, что он не стал продавать акции банка, принадлежавшие лично ему. Как бы там ни было, существующие ныне правила запрещают сотрудникам компаний подобные операции c акциями, находящимися в их личной собственности.
Третьего сентября 1929 года курсы акций на фондовом рынке достигли своего максимального значения за последнюю четверть века. «Бесконечная цепь процветания» неизбежно должна была оборваться, так как общая активность бизнеса пошла на спад уже за три месяца до этого. Высокие цены сохранялись и на протяжении следующего дня, а 5 сентября резко упали. Это падение получило название «обвала Бэбсона».
Оно было названо так в честь финансового консультанта из Уэлсли, штат Массачусетс, Роджера Бэбсона – высокого тощего человека с козлиной бородкой, в облике которого угадывалось что-то мефистофельское. В тот день на деловом завтраке в кругу финансистов он сказал: «Я повторяю то же самое, что говорил и год, и два года назад. Крах в конечном итоге неизбежен». Профессионалы с Уолл-стрит, как обычно, подняли на смех «оракула из Уэлсли».
Бэбсон предсказывал крах уже на протяжении нескольких лет, а тот все никак не наступал. Однако в два часа пополудни, когда заявление Бэбсона появилось на телеграфной ленте официальных ведомостей, курс акций перешел в крутое пике. В тот день за последний час биржевого ажиотажа акции American Telephone and Telegraph упали на 6 пунктов, Westinghouse – на 7, а U. S. Steel – на 9 пунктов. Пророчество Бэбсона сбылось. Крах биржи, который казался невероятным еще месяц назад, внезапно стал главной темой всех разговоров.
Доверие инвесторов было поколеблено. Плохих дней в сентябре оказалось значительно больше, чем хороших. Временами рынок был близок к полному обвалу. Банкиры и министры заверяли нацию, что поводов для беспокойства нет. Ирвинг Фишер, профессор Йельского университета, один из авторов теории внутренней стоимости, даже высказал мнение, которому суждено было стать бессмертным, что акции достигли «стабильно высокого плато цен».
В понедельник 21 октября события начали развиваться по классическому сценарию биржевого обвала. Падение цен на акции заставило многих вкладчиков приступить к их продаже. Это еще больше сказалось на их стоимости, что, в свою очередь, вызвало новую волну продаж. Объем продаж 21 октября составил более 6 миллионов акций. Тысячи вкладчиков следили за телеграфными лентами с последними новостями. Данные о результатах биржевых операций поступили лишь спустя час сорок минут после закрытия торгов.
Упрямый Фишер охарактеризовал падение цен как вытеснение с рынка мелких инвесторов, пытавшихся спекулировать на бирже. Он продолжал утверждать, что цены на акции не соответствуют их внутренней стоимости и вновь должны вырасти. Профессор уверял также, что рынок еще не успел в полной мере воспользоваться выгодами от принятия сухого закона, который сделал труд американских рабочих более производительным и предсказуемым.
День 24 октября, впоследствии получивший название «черный четверг», запомнился тем, что общий объем продаж достиг 13 миллионов акций. Порой цены падали на 5–10 долларов с каждой перепродажей. Некоторые акции буквально за пару часов обесценивались на 40–50 пунктов. На следующий день Герберт Гувер поставил свой знаменитый диагноз: «Фундаментальный бизнес в на шей стране имеет здоровую и крепкую основу».
Вторник 29 октября 1929 года стал одним из самых катастрофических дней в истории Нью-Йоркской фондовой биржи. По масштабам паники с ним могут сравниться только 19 и 20 октября 1987 года. В тот день в 1929 году было продано более 16,4 миллиона акций (это соответствовало бы нескольким миллиардам акций в 2018 году, когда на Нью-Йоркской бирже было зарегистрировано намного больше ценных бумаг). Масштаб краха отражен в приведенной ниже таблице, где дается динамика цен с осени 1929 до 1932 года. За исключением непотопляемой AT&T, акции которой обесценились лишь на три четверти, большинство «голубых фишек» к 1932 году потеряли в цене 95 и более процентов.
Пожалуй, удачнее всех подвело итог этой катастрофы еженедельное издание шоу-бизнеса Variety, которое озаглавило свою статью «Уолл-стрит сел в лужу». Спекулятивный бум закончился, и миллиарды долларов, в которые оценивались акции, а также мечты вкладчиков о миллионах развеялись как дым. Вслед за крахом фондового рынка наступила самая разрушительная экономическая депрессия в истории США.
Тем не менее находятся историки-ревизионисты, которые говорят, что имелись действенные методы по обузданию сумасшествия фондового рынка в конце 1920-х годов. Например, Гарольд Бирман-младший в своей книге «Великие мифы 1929 года» (The Great Myths of 1929) утверждает, что цены на акции в тот период не были искусственно взвинчены, поскольку экономика продолжала процветать. Ведь, в конце концов, даже такие мудрые люди, как Ирвинг Фишер и Джон Мейнард Кейнс, считали, что стоимость ценных бумаг была вполне разумной. Бирман доказывает, что излишне преувеличенный оптимизм, державший биржу на плаву, мог бы считаться оправданным, если бы не порочная монетаристская политика. Крах, по его мнению, был спровоцирован действиями Федерального резерва, увеличившего учетную ставку для обуздания спекулянтов. В утверждениях Бирмана есть доля истины, и некоторые сегодняшние экономисты возлагают вину за депрессию 1930-х годов на Федеральный резерв, политика которого вела к быстрому обесцениванию денег. Тем не менее история учит, что слишком резкое повышение цен на акции (так же как и общий рост цен на товары и услуги) редко заканчивается постепенным возвратом к относительно стабильному уровню. Даже если в 1930-е годы экономика и продолжала процветать, то цены на акции не должны были расти такими опережающими темпами, как в конце 1920-х годов.
Кроме того, аномальное поведение инвестиционных компаний и фондов закрытого типа (на деятельности которых я подробно остановлюсь в главе 15) ясно свидетельствует о нерациональном развитии фондового рынка в 1920-е годы. «Фундаментальная» стоимость закрытых фондов состоит из суммы рыночной стоимости ее активов. В большинстве случаев после 1930-х годов эти фонды продавали ценные бумаги примерно с 20-процентной скидкой по отношению к их внутренней стоимости. Однако с января по август 1929 года фонды ввели на продаваемые ценные бумаги надбавку в среднем 50 процентов. Более того, надбавки, установленные некоторыми известными фондами, были просто астрономическими. Goldman Sachs Trading Corporation продавала акции по цене вдвое выше номинала. Цена акций, продаваемых Tri-Continental Corporation, составляла 256 процентов от их внутренней стоимости. Это означало, что вы могли либо обратиться к брокеру с просьбой приобрести для вас на бирже, скажем, акции АТ&Т по любой рыночной цене, либо купить их в фонде, заплатив в два с половиной раза больше, чем они стоили на самом деле. Это не опечатка. Рыночные цены на акции в то время действительно были в 2,5 раза выше их истинной стоимости. Разумеется, основной причиной взвинчивания цен стал иррациональный спекулятивный азарт.
2
Голконда, ныне лежащая в руинах, когда-то была крупным индийским городом. Согласно легенде, каждый, кто через нее проезжал, становился богачом.