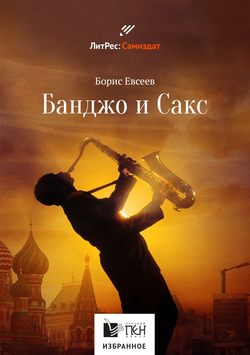Читать книгу Банджо и Сакс - Борис Евсеев - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1. Слух
Слух
ОглавлениеКак приходят слова? Через слух, через слух!
Только закрыв глаза, только вслепую, на ощупь, – чувствуешь, как идет жизнь.
Она идет? Идет, еще как! Каменно идет и тяжело, а потом – легко и воздушно. Она идет, летит над Стрелецкими могилами и Тешиловской дорогой, над урочищем Белые Боги и Бесовым лугом, цепляет краями Рахмановские пустоши и Юдин прудок, оставляет позади речку Торгошу, Инобожскую дорогу, Воробьев овраг. Она идет-летит к нашему подмосковному дому, и входит в него, и проносит свое хлюпающее, заполненное сработанным воздухом и семенем женское тело над квадратиками паркета, над узким ковриком… Ближе, ближе, к столу, к постели!
Жизнь идет и несет в себе то, что скрыто от глаз, что можно только услышать.
Нужно, нужно почаще закрывать глаза! Не затем, конечно, чтобы забыться навеки. А затем, чтобы все видеть, и не открывая глаз. Это, между прочим, очень и очень возможно. Ведь слух и есть наше осязательное, то есть глубинное зрение.
Вот и сейчас.
Сейчас в моем просторном слуху устанавливается, покряхтывая и шатаясь, наш дом. Весь, до трещинки, со всей своей немотой и звуками. Дом стоит в осушенном русле реки В. Рядом места древние и знаменитые: Путевой дворец царевны Софьи (разрушен), Пожарский луг (перепахан), урочище Виселицы (пока не тронуто).
Но… звуки-то в доме – вполне современные: кухонный лязг, урчанье сливных бачков, визг, сопенье, пыхтенье. Однако среди этих звуков вдруг выделяется что-то некаждодневное, не слишком привычное:
– Че-че-че… Че-че-че…
Кто-то словно бы хочет скрытным човганьем и пыхтеньем выстроить бессловесную фразу. Хочет, но не может. И тогда эту фразу выстраиваю про себя я.
“Че-че-че… идет через двор. (Пауза). С ружьем. Че-че-че… ЧЕ-ЧЕ-ЧЕ…”
Но ЧЕ – это не слог! ЧЕ (Чеглоков Евгений) – мой приятель. А зовут его так за пристрастие к черной беретке и за кустистую растрепанную бородку с небольшими на щеках прогалинами. Именно теперь, после прохождения сквозь мозг предуведомительных звуков, я начинаю отчетливо слышать: ЧЕ, таясь, вступил на нашу лестницу, миновал второй этаж и сейчас сдерживает дыхание в пролете между вторым и третьим. Значит, он идет на пятый? Зачем, зачем ему туда сейчас? Ведь на пятом этаже он бывает только раз в неделю и только вечером! А сейчас девять утра…
Тут надо пояснить: ЧЕ – ветеран всех наших необъявленных, но уже вполне состоявшихся гражданских войн. Он был в Баку в 90-м, в Карабахе в 92-м, орал благим матом в Бендерах и поскрипывал зубами в Душанбе. А не так давно вернулся из Абхазии. Ему до всего есть дело. Он всюду воевал, везде кого-то защищал, за чьи-то права вступался. И только в последних стычках между грузинами и абхазами он внезапно бросил на землю свой АКМ и, перебегая от одного леска к другому, стал упрашивать воюющих кончить стрельбу. ЧЕ не убили только потому, что хорошо знали. Его не убили, но сильно помяли (грузины) и слегка покалечили (абхазы).
Именно из Сухума ЧЕ вернулся с отросшей кустами бородой и в береточке. Вернулся, но вместо того чтобы пахать землю или возить навоз на поля – день и ночь думает об антиглобализме. И не только, конечно, думает!
ЧЕ ездит за семьдесят километров в Москву и оттуда возвращается сияющий и довольный. И это хорошо заметно. Потому, что в остальные дни он ходит по поселку огорченный и озадаченный. Именно в остальные дни его абхазская хромота, его круто гнутый соколиный нос вместе с синенькими каплями зрачков вселяют в наших трусоватых жителей тревогу и страх. А его медленные расчетливые движения даже сеют легкую панику. Сеют, потому что ЧЕ проводит антиглобалистские учения и у нас в поселке. Для этого он собирает человек пять-шесть безработных, двух-трех стариков и с десяток бросивших школу ребят. Он ведет их всех на Марьин луг, заставляет вставать-ложиться, а потом перед строем разъясняет пороки глобализма. В такие дни ЧЕ красит брови в оранжевый цвет, надевает на руки красные резиновые перчатки и надвигает беретку на самый лоб. Кончив же говорить перед строем – он поет. Поет пронзительно и фальшиво. Пронзительно, потому что когда-то «сорвал» горло. Фальшиво, потому что у него нет музыкального слуха. Но ЧЕ поет и поет! Ведь он не какой-то унтер Пришибеев. Он – одинокий воин антиглобализма. Лирический капитан разбоя.
Но сейчас, в нашем доме, ЧЕ не поет, он поднимается по лестнице. И делает это по-звериному легко и скрытно. Так в человеке, получившем удар ломом по спине, поднимается осознание новой действительности: выше, легче, к полной потере болевых ощущений, к обмороку!
“Че-че-че. (Слышишь, что будет дальше?)”
“Че-че-че. (Слышишь, что будет вскоре?)”
“Че-че-че. (Снова война, снова войны?..)”
Я съеживаюсь, а потом сжимаю кулаки. Какие войны? Войны – далеко! А вот если ЧЕ попадет вместо чердака в квартиру на пятом этаже, может произойти что-то похуже войны! Но этого не будет. Слух просто обманывает меня…
Однако выостренный, годами оттачиваемый слух обмануть не может. Он точен, он верен, непогрешим!
Между прочим, сам я делю слуховое пространство на четыре основных зоны.
Первая зона: музыка слуха. В этой зоне умещается вся наша поселковая старина с ее хитрыми словечками и несменяемыми названиями, все перечни дорог и тропинок, все перечисления людских имен и растений. Музыка слуха – лучшее из всего, что есть на свете. Она даже лучше музыки настоящей: органной, скрипичной, оркестровой.
Вторая зона – обманы слуха. Сюда входят: вся политмудятина, все базарные и лагерные слова, все чужеранящие наименования, все кликухи. Может, они не так уж вредны и не вполне злонамеренны, но они, эти слова, вводят нас постоянно в соблазн, влекут к заблуждениям.
Зона третья – вожделения слуха. Это то, что слух желает иметь в себе, но не имеет. Здесь чередой проходят все несбыточные женские нежности, все рассказы о бессмертии души и о наплывах земной мистическо-призрачной жизни. Жизни, которая зарождается в сумерках над туманящимися полями, на опушках еще не вытоптанных, не дачных лесов.
Ну и на закуску зона четвертая – войны слуха.
Войны слуха – это когда сквозь барабанные перепонки, щелкнув предательски звонкими молоточками, проникают ненужные диалоги и триалоги, бушуют в голове речёвки толпы, стоит гомон разбредающихся с антиглобалистских учений поселковых ребят. Войны слуха – самое опасное для внутренней жизни человека состояние. Их хочется тут же исторгнуть, избыть из себя, закопать в землю, загатить в болота, в топи!
Как раз такая слуховая война может сейчас во мне и вспыхнуть. Потому что я слышу: ЧЕ дошел уже до четвертого этажа. И, хотя идет он тихо, я точно знаю: ЧЕ несет с собой двуствольную “тулку”. И коробку с патронами несет. А еще у него в руках должна быть армейская фанерная, во многих местах простреленная мишень. Через несколько минут он разнесет мишень и двустволку по разным углам чердака, сядет на стул, оботрет лоб. При этом его сожалеющий вдох вполне можно будет услышать через переборки нескольких этажей.
А затем ЧЕ дважды выстрелит. И она выглянет из своей однокомнатной квартирки на пятом этаже и станет робко прислушиваться. Но прислушивайся, не прислушивайся, а ЧЕ стреляет всегда только два раза. И потому, постояв на лестничной клетке в халатике (ведь на дворе уже почти весна и можно даже предчувствовать медленно, как самосвал, надвигающееся сизо-душное лето), она быстренько спрячется к себе в меховую, ковровую норку…
ЧЕ – собирается на войну. ЧЕ собирается на войну всегда. Но особенно после выходных: по понедельникам и вторникам. Ну а каждую среду, в шесть часов вечера, после очередной войны с самим собой, ЧЕ поднимается по нашей лестнице.
Он сам определил это время: 18-00. И хотя его частенько перехватывает на лестнице наш бывший участковый Сикаев и грозит сдать с потрохами сразу во все органы – в ФСБ, МВД, НКВД и ГПУ – ЧЕ времени никогда не меняет: в 18 так в 18!
Сикаев же, грозясь и крича, попутно над ЧЕ всегда издевается, вклинивая в свои густые проклятия еще и острые змеиные шепотки, вроде таких: “Все никак, сволочь, не настреляешься?” или “Мало ты нашей кровушки попил, ирод?”
Сейчас, однако, не 18-00 – сейчас девять утра!
А ЧЕ все поднимается и поднимается. Я хорошо слышу, как он проталкивает свое приземистое, жилистое, много раз продырявленное тело сквозь кисло-уксусный воздух нашего подъезда: наверх, наверх, на чердак…
Или… в квартиру на пятом?!
Между прочим, слышу я и то, что Сикаева сейчас на лестнице нет. А я хочу, хочу, чтобы эта жирная милицейская вошь, сдавшая “куда следует” всех, кого можно, на лестнице была! Я хочу слышать Сикаева именно сейчас. Иначе слух мой окажется пустым, незаполненным. Полупустой же слух всегда терзает и мучит меня, обещая громкие неожиданности, неприятности, дрязги.
Чтобы избавиться от пустопорожнего слуха, я затыкаю себе уши пальцами. И поначалу сладко глохну. Но затем и в заткнутые отверстия вверчиваются шорохи, проникает човганье ног:
– Че-че-че. (Шаг, подъем, остановка.)
– Че-че-че. (Шаг, остановка, подъем.)
Вдруг что-то щелкает. По-военному, кратко и радостно.
Замок? Затвор? Отводимый курок? Щелчок – и все, и тихо…
Пальцы мои сами собой выдергиваются из ушных отверстий. Значит, ЧЕ хочет-таки войти в квартиру? Зачем ему? Зачем?
Я срываюсь с места, бегу к двери. Но потом возвращаюсь. Надо мне подыматься на пятый? Нет, не надо. Совсем недавно я уже сделал несколько опрометчивых шагов, обронил несколько ненужных фраз. Тогда, правда, ЧЕ не поднимался в неурочный час ни на чердак, ни на пятый этаж. Он лежал у себя в однокомнатной квартире и умирал. Умирал от нравственных страданий, от ненависти к глобализму и от простуды.
Я вошел тогда с банкой малинового варенья. Варенье ЧЕ любит не очень. Но в тот момент оно было ему необходимо для избавления от кашля, сопровождавшего нравственное умирание.
– Поставь варенье и вали.
– У меня к тебе разговор, ЧЕ.
– Поставь банку и вали со своими соплями.
– Тебя бы подлечить, ЧЕ.
– Я сам себе врач.
– Знаю. Но ты ведь…
– Ты что, не видишь, как оно все обернулось?
– Да я не про политику, ЧЕ. Я хотел про личные дела потолковать.
– Какие личные дела, когда вокруг черт знает что делается!
ЧЕ моложе меня на десять лет. И я хоть и морщусь, однако позволяю ему называть себя на “ты”. Только ему одному! Может, от ненужной в наших отношениях демократичности. Может, вспоминая о том, что он старший по званию. А может, и потому, что я, длиннорукий, тощеватый, не имеющий необходимой военной выправки, с серым лицом и неостриженными, запущенными волосами и должен прогибаться перед его посеченной порохом переносицей, его серо-стальными, вросшими в мякоть подушечек ногтями подрывника-сапера? Но, возможно, я позволяю ЧЕ обращаться к себе на “ты” и потому, что он настоящий, проверенный выездами в Европу антиглобалист. А я, хоть и не люблю всяких там сходок с мордобоем, с интересом и какой-то смутно-сладкой тоской наблюдаю за тем, куда повернет это сурово заклейменное и у нас, и за бугром движение.
– Какие такие дела? – повторил ЧЕ и потянулся за банкой.
– Ну, дела мои совсем простые. Перестал бы ты, ЧЕ, пугать пятый этаж, а? Зачем тебе это? А я…
– Втяни свои сопли обратно. Раз пугаю – значит, надо. Да и чего тебе бояться? Я же не ее лично пугать хожу. Я не по этому делу, сам знаешь. Я о другом хлопочу!..
Как приходят слова? Через слух, через слух. Как приходят звуковые картины? Влезают в ушко…
Вот я и слышу: гулко и весело струит себя вода. Не та, что в трубах! Та, что под землей: стыло-озерная, ключевая. Куда эта вода струит себя и зачем? И зачем мне, затворнику и угрюмцу, звон ее ключей слышать? Зачем различать темновато-таинственный, исполненный неясных обещаний шум?
Но я слышу его, слышу…
Так, слышал я недавно ухающего мертвого филина. Чучело его ребята еще осенью закинули на чердак. Чучело молчаливое, одноглазое, с выскобленным и продавленным затылком… Но по ночам именно оно у нас на чердаке ухает!
А еще раньше я слышал, как ходит по квартирам третьего этажа, не обращая внимания на переборки и стены, какая-то женщина. Ее не видно, но она вовсе не привидение. Она – нечто иное. Может, звуковая волна прошлого, может, полет квартирного ветра. Внятно слышен шелест длинного крахмального платья, слышны постукивания остро-высоких каблучков, рассыпания шпилек по столу, полурусские-полуфранцузские бормотания.
Слух цепляет и другие, вросшие в трещины донных камней, засевшие в гниловатых комлях вековых дубов слова.
Среди слов этих есть вполне обыкновенные. Но есть и редко встречаемые, позабытые. Слышится, к примеру, тонкий лязг якорной цепи, а потом скорей всего голландская – воспринимаемая как испорченная немецкая – ругань. Слышен и скрежет зубовный каких-то купцов, бубнящих после скрежета всегда одно и то же:
– Трофимушка, устал?
– Ох, тяжко, Ефим, тяжко, брат. Ослобони!
– Ничего, ничего, полежи, брат, под камушком.
– Лежу-у… Лежу-у-у!
Я хочу разматывать и распрямлять только эти далекие вздохи, хочу слышать дальше, слышать глубже! Однако в бок меня толкает ЧЕ.
– Ты че? Спать сюда пришел? Говорю тебе еще раз: я не ее, я совсем другого хочу! А ты, болван, думал…
Чего он и вправду хочет, этот получеловек покалеченный внутренними войнами? Чего ему надо?.. Разумеется, ему не нужны урочища. И пустоши ему не нужны. В гробу он видал Пожарский луг и чихать хотел на Стрелецкие могилы. Тогда что, что ему нужно? Ну, понятно! Ему нужны города! А в них – его собственный, мертвый и тошный распорядок…
Пока я вслушиваюсь в себя и в плывущую мимо жизнь, ЧЕ обходит меня сбоку и готовит для приема банки с вареньем уже две руки.
В тот раз, сделав вид, что обиделся на “болвана”, я поставил банку на тумбочку и, не оглядываясь, вышел. Я, конечно, слышал то, что кричал мне в спину ЧЕ, но особого значения этим крикам не придал. А кричал он тогда нечто неправильное и попросту дурацкое, связанное с нашими поселковыми людьми и с этим чертовым антиглобализмом, который кроют почем зря на всех телеканалах и про который ЧЕ еще месяц назад мне с увлечением втолковывал:
– Они же все объединились! Секёшь? А нас всех разобщили, развели по разным углам и квартирам.
– Кто они, ЧЕ?
– Потом, подожди! У них все тишь, да гладь, да Божья благодать, а у нас внутри они гражданскую войну организовали.
– И кто же с кем сражается?
– Эх ты, балда институтская! Ну, конечно, – корысть и некорысть внутри у нас сражаются! А гражданская война внутри – она в тысячу раз хуже, чем война внешняя. У нас ведь у половины народа внутри, под ребрами, вместо сердечного клапана – граната РГ-1! Надо эту гранату из нутра вынуть и на пустоши взорвать!.. Ты пойми! Если уничтожить внутреннюю войну в каждом из нас – никаких войн на земле не останется! А глобализм мы победим и без автоматов! Как? Думать, кумекать надо. Слова надо нужные вспоминать, потом их произносить. Я уже кой-чего придумал. Хотя учти: то, что говорят эти гады, лимоновцы, я повторять не буду! Они ведь этого засланного казачка слушают. А он их всех как раз под статью и подведет. А сам, вместе с Каспаровым, в Гонолулу укатит!
– Какой “казачок”? Какого “засланного” слушают?..
Этот разговор с ЧЕ и его крик мешали мне вслушиваться в невидимую жизнь, целую неделю. Крик этот своей трубной прямотой и яростью забивал нежные слуховые каналы, расплескивал ручейки текущей по ним музыки дня и музыки ночи…
Как приходят слова? Через слух, через слух. Как приходят люди, их образы, их поступки? Влезают в слуховое окошко.
Крики ЧЕ истаяли в весеннем воздухе, и в уши мне ввинтилась новая напасть – слова и словечки бывшего участкового Сикаева, произносимые им то у себя в квартире (громко), то на лестничной клетке (тихо).
– Всё возвращаются они и возвращаются! – так обычно начинает свои выступления Сикаев. – Их убили и в землю закопали, а они – на тебе: тут как тут! А кому они нужны, эти мертвые, эти на войнах поубитые?! Государству от них одно смущение. Ну, убили тебя, ну оконтузили, ну пообрывали руки-ноги – так и оставайся себе в песке, в камнях, в доме инвалидном! Совесть же надо иметь. Убили – не фиг оживать. Что с возу упало, то пропало. Пропавшие люди вы! И вчерашние. А нам здесь вчерашних людей не надо!
Эту последнюю фразу Сикаев произносит громко, наверное, даже приставляя ладонь трубочкой ко рту, потому что старается направить звук в ту сторону, где располагается квартирка ЧЕ.
– Вчерашние и работать не могут. Ну а ежели ты не можешь на себя заработать – значит, ты труп и есть!
Сам Сикаев, впрочем, давно не работает. Получает по мелочи за доносы и наводки то от местных бандюков, то от милиции. Работать с ним удобно и весело и тем, и другим. И те, и другие ценят в нем дотошность и въедливость, а кроме того ценят справедливость доносов-наводок. Он, кстати, не скрывает того, что “стучит”. Не скрывает потому, что на кого попало Сикаев ни в жизнь не стукнет! Только на тех, кто зажрался и зарвался, кто вообразил о себе много и кто не выказывает уважения к милицейскому прошлому Сикаева.
Бывший милиционер, короткорукий, толстомясый, не имеющий (в отличие от ЧЕ) в облике ничего запоминающегося, кроме отливающей луной лысины, и левого слепого глаза, портит мне слух сильнее всех. Он же чуть не стал причиной острого моего желания слух этот на время потерять вовсе.
Было так: как-то вечером Сикаев вышел караулить ЧЕ на лестничную площадку третьего этажа. В это же время стала спускаться сверху та, что жила на этаже пятом. Стукнула и входная дверь подъезда. Воображаемый треугольник, образовавшийся между ЧЕ, женщиной с пятого и мною, конечно, не мог ускользнуть от красного, обмахиваемого белесыми ресницами, единственного, но горящего во тьме ярче иных маяков, сикаевского ока.
– Ну, как знал я. – Сикаев сладко заглотнул и разлопнул в горле небольшой пакетик нашего непрозрачного подъездного воздуха. – Как знал. Ну, обождите. Я вас на чистую воду выведу!
Дверь парадного стукнула еще раз. Послышалось какое-то рокотанье. Я снова сжался в комок: выходить, не выходить? Предотвращать встречу Сикаева, ЧЕ и женщины или не предотвращать? Ведь одним выходом можно все испортить. Хотя можно и поправить.
Я тогда не вышел, и случилось вот что.
Перехватив по дороге женщину с пятого этажа, Сикаев уцепил ее за руку и стал что есть мочи и явно напоказ орать:
– Вот она! Вот она, эта мнимая беженка! Слышите, Василь Семеныч? Я вам ее истинное лицо вмиг приоткрою, как ту червовую масть!
Почему Сикаев решил, что идет Василь Семеныч, – непонятно.
Я уже открыл дверь, чтобы защитить женщину с пятого от кого угодно, пусть даже от главы нашей местной администрации, зобастого индюка с вечно текущим носом, Василь Семеныча, – как вдруг все переменилось. Женщина вырвалась, но не стала спускаться вниз, а с плачем метнулась к себе наверх. Ну а вместо Василь Семеныча снизу отозвался идущий к кому-то в гости лесник Дорофеев. Посрамленный и обманутый собственным, насквозь высверленным милицейскими свистками слухом, Сикаев убрался в свою конуру. А я, я (меня-то слух обмануть не мог!) услышал вместо всего этого дряблого театра теней нечто действительно существенное.
Услышал: где-то недалеко, в сдвоенном холодном стволе дрогнули, но тут же и замерли неизвестно для кого предназначенные пули…
Я стряхиваю с себя воспоминания и снова прислушиваюсь. Но уже не к прошлому, к настоящему.
И в этом настоящем ЧЕ прошел четвертый этаж и поднимается на пятый. Он сопит и про себя что-то считает, а может, проясняет полушепотом карту нашей местности, называя здешние места не Убогой горой, не Пожарским лугом и не Стрелецкими могилами, а специальными военными терминами.
Вдруг сопенье и шепот стихают. Сейчас ЧЕ (Чеглоков Евгений) должен опустить на бетон армейскую, во многих местах продырявленную мишень, и звук ее – глухо-деревянный – через секунду умолкнет…
Но ЧЕ не делает этого, а продолжает упорно и тупо взбираться наверх. Может, он не взял с собой мишень? А ружье взял? Взял. Это слышно по тихому пению стволов. Значит, он не мишень идет расстреливать? Кого же? Неужели ее – одинокую, дивно трепещущую, круглолицую, с двумя светлыми завитками на висках, улыбающуюся, чтобы не плакать, женщину? Нет, чушь. Ее-то за что?
Женщину зовут Марта. Она бывшая смотрительница музея. Ей нет еще и тридцати лет, и она только недавно приехала к нам из Гудауты. Марта наполовину немка. Под Гудаутой она жила с каким-то ингушом: то ли боевиком, то ли проводником. Жила, кажется, против своей воли. Ингуш этот, по слухам, куда-то регулярно исчезал месяца на полтора-два. Во время одной из разборок его убили, причем непонятно кто. Еле живая Марта вырвалась с юга, приехала к родственнице в Подмосковье. Но в день приезда родственница умерла, и теперь Марта живет в ее квартире в “подвешенном” – так говорит Сикаев – состоянии.
Сикаев сразу указал и на то, что приехала к нам Марта зря. Да и некоторые другие жители относятся к ней холодновато-сдержанно. Но это в обыденной, поселково-посадской жизни. А на работе – Марта работает в соседнем совхозе – ее страшно ценят. Потому что, хоть работы совхозной она и не любит, работает за четверых и может двенадцать часов кряду не разгибать спины, заменяя собой полупьяных мужиков и находящихся в непрерывном отгуле парней.
Иногда мне кажется: ЧЕ, Сикаев, Марта и я – мы все однодневная слабая моль! С бархатисто-дряблыми (кроме Марты) телами, с медленно усыхающими крылышками рук, хвостами ног. Поочередно, а иногда вместе, мы словно парим над осушенным руслом реки, над Марьиным лугом, над Инобожской дорогой, над родником преподобного Сергия, над Красными полями. Мы парим и знаем: никто из нас уже не спустится на землю, не будет переворачивать ее вилами, рыхлить граблями, не станет со вздохом изнеможения погружать в унавоженную землю пальцы, не будет эту почву, сладко подергивая краешками ноздрей, нюхать.
Мы сухие и ломкие, а потому – ненадежные и нежеланные. Мы – навсегда изгоняемы ждущей весенней пропашки, мощно гниющей землей!..
Я обрываю мысль, потому что слышу: ЧЕ, и вправду, не взял с собой мишень! Зато, взявшись за ручку квартирной двери на пятом этаже, он тихо отгибает ее: вниз, вниз, вниз!
И здесь, не выдержав, я кидаюсь к собственной двери. Но прежде, чем дверь моя распахивается, я слышу тонкий выщелк чужого замка: скрытно-потайной, военный! Так открывать крепко укупоренную дверь может только боец спецназа. Я выскакиваю на площадку и, выламывая шею, упираю взгляд в верхи лестницы. И вижу ноги ЧЕ. Ноги, которые, по моим расчетам, сейчас должны были втащиться в квартиру N65, отрываются от пола и, сверкнув набойками армейских ботинок, пропадают близ чердачной лестницы. Я слышу, как тихо охает, сама свою дверь и открывшая, Марта. И по звуку ее голоса понимаю: ЧЕ решил пристрелить не ее – себя!
Я не слышу и не могу слышать, как ворочаются мысли в контуженной голове Чеглокова Евгения. Но я хорошо слышу, как он радостно, даже злорадно сопит.
Я срываюсь с места. Однако не так-то просто с третьего этажа, да еще с раздраженным слухом, да с раскуроченным сердцем, с ватными от только начинающего проходить страха ногами, попасть на пятый. Я бегу тяжко, бегу, как бегают только во сне.
Однако это не сон: уже на исходе ступенек четвертого этажа я слышу выстрел. Один-единственный! Я замедляю бег, останавливаюсь, а потом, подкравшись к пожарной лестнице на носках, медленно взбираюсь на чердак.
ЧЕ сидит, привалив себя к каменному широкому дымоходу и блаженно улыбается. Беретка его – на бровях, руки в резиновых красных перчатках раскинуты. Рядом с ним лежит Сикаев с руками, стянутыми за спиной армейским ремнем.
– Ты видишь, что он, пес, придумал? Дырку в потолке пробил и “телескоп” поставил! Ну, я и пугнул его разок. Выстрелил поверх головы. Но ты в ”телескоп” этот не гляди. Я уже глянул. Пес, ах, пес!
На цыпочках, тихо и медленно, иду я к сикаевскому “телескопу”. Что-то удерживает меня, кто-то будто шепчет мне в ухо: не смотри! Но я должен глянуть. Только раз! Одним глазком!
Тем временем ЧЕ встает, лениво подходит к бывшему милиционеру Сикаеву и дает ему пинка в бок. Легонько так дает, дружески, носком сапога.
Правда, вижу я это лишь боковым зрением, потому что уже вплотную пододвинулся к странному сооружению из неширокой пластиковой трубки, нескольких луп и двух-трех консервных банок: к “телескопу” Сикаева. Внезапно я понимаю: “телескоп” скорей всего направлен в квартиру Марты! С волнением и опаской спешу заглянуть я в это самодельное чудище, чтобы увидеть ее: эту трогательно-белокурую вертеровскую девушку.
Я прикладываюсь к “телескопу” Сикаева и вижу: Марта сидит на коленях у этого зобастого индюка, у Василь Семеныча. Она уже успокоилась после выстрела, и лицо ее выражает довольство и покорность, а глаза чисто сияют. Она сидит не шевелясь, но потом вздрагивает и начинает едва заметно спускать с плеча бретельку ночной рубашки. Василь Семеныч блаженно закатывает глазки.
Это как раз про него, про индюка зобастого, месяц назад ЧЕ кричал мне в спину: “Хватит стрелять по мишеням. Теперь надо простреливать порожних людей. Словом простреливать их, словом!”
“Ты думаешь – он человек? – пожимал тогда ЧЕ плечами. – Нет, пустота одна… Помнишь, говорил тебе: встретишь Будду – убей Будду! Встретишь патриарха – убей патриарха. Встретишь пустоту – убей пустоту. Много тут у нас пустоты накопилось”.
Но это ЧЕ говорил тогда. А сейчас он наивно и блаженно спрашивает:
– Ты, наверное, думал, я себя здесь кокну? Ну не балда ты после этого, а?
«Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть. Лучше умереть, чем лежать».
Эта присказка ЧЕ вспомнилась мне именно сейчас. И я тут же про себя к ней прибавил: лучше слышать, чем видеть!
Я закрываю глаза, отхожу от сикаевского “телескопа”, сажусь на какой-то чурбачок и пытаюсь, как и ЧЕ, блаженно улыбнуться. Но у меня не получается. Хотя закрыть глаза – вполне получилось. Тут же я пытаюсь внушить себе: все, что я видел, – фата моргана, мираж! Нам, остро слышащим, нам, застенчивым и замкнутым людям, “зримость” вещей и явлений ни к чему! А Марта… Марта, действительно, светлая вертеровская девушка, и в гостях у нее никого нет, а стекла сикаевского “телескопа” – гнусный милицейский мираж!
И здесь я наконец-то по-настоящему расслабленно и блаженно улыбаюсь. Слух, только слух! Только слух есть настоящая жизнь! Все прочее – наглый киношный обман!
Я продолжаю улыбаться, потому что слышу эту настоящую жизнь! Слышу леса и округу, чую дерзкие шевеленья в Стрелецких могилах и вздохи старинных гатей. Слышу потрескиванье будущего и хрупкое отмиранье прошлого.
Слышу, слышу!
И не могу из своего слуха вывести только одно: куда, куда, словно покинутый командой корабль, плывет по высохшему руслу реки наш дом?
Господи, да кто ж это знает?