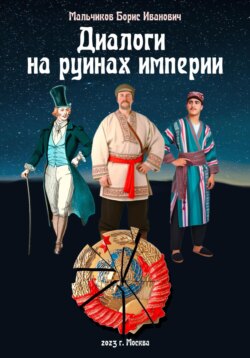Читать книгу Диалоги на руинах империи - Борис Иванович Мальчиков - Страница 5
Часть 1
Эфир
ОглавлениеВо время очередной беседы при посещении Восточного хозяин вспомнил предыдущий разговор о превратности судеб отдельных здравых научных идей и предложил обсудить одну весьма интересовавшую его тему, которая хоть и имела общие черты с предыдущей, но имела свои специфические исторические особенности. Это была идея эфира – некой мировой среды, заполняющей все пространство, обладающей признаками материальности. Джура удивился, сказав:
– А что тут обсуждать-то? Здесь, кажется, все ясно. Это устаревшее представление об окружающей среде, известное с незапамятных времен. Об этом говорили еще древние греки, в философии древних индусов об этом говорилось и того ранее. Но эти представления были исключительно умозрительные, вытекавшие из созерцательного наблюдения за природой, и не опирались на научный эксперимент. И неудивительно, что в период формирования экспериментального подхода к изучению природы в странах западной цивилизации был изменен подход к этому вопросу. И сделано это было не в интересах какого бы ни было правящего класса, а в целях получения логичного ответа на поставленные экспериментом вопросы. Все это происходило в умах ученых и не имело никакой социальной составляющей. Более того, тот древний эфир простому обывателю до сих пор гораздо более понятен, чем то, о чем говорят ученые сейчас. Ты с этим не согласен?
Сделав глубокий вздох, как будто нужно было сейчас подойти к тяжелому грузу и поднять его, хозяин сказал:
– В твоих словах в целом не видно изъянов. Мысли полностью соответствуют реальным событиям, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Именно их я и хотел обсудить.
– Ты заинтриговал. Какие еще детали? Давай, не таи!
– Слушай! И возражай, когда будет коробить! Начну с того, как произошел отказ от эфира, бывшего официально признанной субстанцией в науке ХVIII—ХIХ веков. Экспериментальное изучение свойств света привело к осознанию его как некоего волнового явления. Интерференция, дифракция – всеми этими свойствами обладал свет, как волна на водной поверхности, как звук в газовой среде. Для того чтобы соответствовать этим представлениям, необходима была среда. Ею и считали эфир. Все было на редкость стройно и логично. Параллельно шло накопление новых экспериментальных данных. Выяснилось, что свет наряду с волновыми свойствами обладает также свойствами частицы (корпускулы). Это качество позволяло перемещаться при отсутствии какой-либо среды, необходимой для волны. Но вот незадача, волна распределена в пространстве и не имеет границ, а частица ограничена объемом. Назрело внутреннее противоречие. Объяснения ему в рамках классических представлений найдено не было, но экспериментальный факт налицо. Было принято, как говорят, соломоново решение. Признать корпускулярно-волновую природу материи ее врожденным свойством, тем более что в это же самое время были установлены волновые свойства электрона – очевидной элементарной частицы. А несовместимость распределенности с ограниченностью объема преодолевалась утверждением о невозможности совмещения наших представлений, рожденных макромиром, с явлениями микромира, которые не имеют общих аналогов для сравнения. Тут ставилась точка, и вопрос считался закрытым. Великий советский физик-теоретик Л. Ландау на эту тему говорил: «Квантовую механику (науку о микромире) невозможно понять (сравнить с тем, что хорошо известно), к ней можно только привыкнуть». Отсутствие привычной логики в изучении микромира стало обычным делом, с чем в дальнейшем придется сталкиваться не раз. Абсурдность некоторых явлений была возведена в ранг закона природы. Но это еще не было достаточным основанием для отказа от существования эфира. Причиной стало следующее. Хорошо известно, что космические объекты движутся в пространстве, при этом не испытывая какого-либо сопротивления со стороны мировой среды, это было замечено астрономами задолго до появления сомнений в существовании эфира. Но как это могло быть с материальной средой, которая обладала инерцией, какой бы тонкой она ни была? Ответа на этот вопрос не находилось. Свет всегда был основным инструментом изучения космоса. И тут вспомнили, что ему в отличие от прежних времен теперь не требовалась среда для распространения. Если ее теперь изъять, то и сопротивления никакого не будет. Простота решения казавшейся сложной задачи придала ей ореол гениальности. Все, искать больше ничего не нужно, свет «абсолютной истины» засиял над физической наукой. И он осветил путь, по которому она пошла в 20-м столетии. И, как мы знаем, весьма успешно.
Все ли поголовно были так уверены в существовании пустого пространства? Да, конечно, нет. Честная наука всегда предполагает сомнения. Чтобы их устранить, нужны новые доказательства. Начались эксперименты. Эфир предполагался некоей неподвижной средой, в которой происходило движение объектов. Если эфир материален, то он должен был как-то взаимодействовать с ними. Увлекаться частично или полностью, образуя некое подобие ветра, как в газовой среде. Вот это и было предложено проверить. Физики Майкельсон и Морли разработали и осуществили эксперимент, основанный на дифракции расщепленных пучков света, прошедших через среды, движущиеся относительно друг друга. Более тонкого и чувствительного инструмента на то время не существовало. Многократно проведенные измерения не дали положительного результата, из которого бы следовало наличие эфирного ветра. Это было принято экспериментальным доказательством отсутствия эфира. С этого времени и началось триумфальное шествие идеи пустого пространства в официальной науке.
До сего момента все было так, как ты и говорил. Сомневающихся поубавилось, их позиции сильно ослабли, но они не исчезли совсем. Удивительней всего было то, что среди сомневающихся были такие фамилии, как Эйнштейн и Майкельсон. Их голоса не были услышаны, большинству все было ясно, успехи в стремительном развитии физики кружили голову. Не было мотивации к возврату тем, казавшихся пройденными и закрытыми. Остались маргиналы, для которых мнение авторитетов не казалось критерием истины. Они пытались опираться на свои собственные представления, базирующиеся на логике и новых экспериментальных данных. Их шанс скрывался именно в нюансах и деталях.
Вот тут и открывается пространство для нашей дискуссии. Попытайся, по возможности аргументированно, развеять мои утверждения сомневающегося!
Начну с логики, это то, что позволяло древним рассуждать на такие темы, не располагая экспериментом, основываясь исключительно на созерцательные ощущения, проверяя их на соответствие здравому смыслу. Что есть пространство, пусть космическое? Это то, в чем материальные тела размещены и могут двигаться. Интуитивно очевидно. Теперь мы говорим, что оно абсолютно пустое, как это и было сделано в науке, т. е. не содержит ничего материального. Не означает ли это, что в нем нет ни одной точки, которая бы отличалась от другой? Здесь этот вопрос я задам тебе.
– Подожди, дай подумать, — Джура задумался, пытаясь поднять в памяти все, что могло пригодиться для ответа. Почесав затылок, начал рассуждать: – В качестве аналога предлагаемой тобой ситуации я вижу пустыню, однообразную, ни деревца или кустика. Глаз остановить не на чем. В ней действительно теряешься и не знаешь куда идти. И это при том, что она совсем не пуста, а лишь однообразна. Дискомфорт ощущается. При этом я не понимаю, к чему твой вопрос?
– В пустыне твой дискомфорт только от того, что ты не можешь различить одну ее точку от другой. Есть люди, которые в пустыне чувствуют себя прекрасно, имея навыки ориентироваться в ней, пустыня на самом деле не пуста, а лишь однообразна. Тогда же когда она станет совсем пуста, исчезнут не только барханы, но и сам песок, никакие навыки не помогут. Не возникает ли у тебя при этом ощущение, что пространство при этом сжимается до размеров твоего собственного тела?
– Мне кажется, что да. Ведь перемещение в пространстве теряет всякий смысл.
– А если начать уменьшать размер твоего тела, в пределе доведя его до нуля? Не исчезнет ли пространство совсем, превратившись в точку?
– Нет, тут я не согласен. Эксперимент твой, так уменьшай размер своего собственного тела до нуля, а я еще поживу. Ну а если серьезно, то кажется, что в твоем рассуждении есть смысл. Правда, есть некоторые представления, которые сопротивляются твоим предположениям. Задам себе такой вопрос: существует ли материя без пространства? Ответ однозначный – нет. Материя сама занимает некоторое пространство. А существует ли пространство без материи? Исходя из твоих предположений, нет. Но как быть с тем, что все хорошо знают? С декартовой системой координат в математике. Три взаимно перпендикулярных оси, и внутри абсолютная пустота. В математике отсутствует материя вообще. Тут мы видим пустое пространство, которое не хочет обращаться в нуль. Что ты можешь возразить против этого?
– Вопрос логичен. И на него есть ответ. Заговорив о математике, мы отклонились от физики. В реальном физическом пространстве нет никаких декартовых координат. Поэтому ориентироваться на них не удастся. Что же такое математика? Наука о закономерностях в дискретных пространствах, ибо число это и есть дискретность, каждое отличается от другого. Так что декартово пространство не пусто, оно «заселено» числовыми точками, отличными друг от друга набором трех координатных чисел. Декартово пространство является математической абстракцией реального пространства, предполагая, что оно дискретно и никак не иначе. Абсолютно пустое пространство не может быть дискретным, в нем нет ничего, даже песчинки. Поэтому не может быть описано декартовой системой, сославшись на нее, мы автоматически признаем дискретность пространства. Каждая точка реального пространства отличается от любой другой. Координаты существуют только у нас в голове. Чем же тогда они отличаются друг от друга? Отличаться они могут только свойствами, больше ничем. Возникает среда в виде множества материальных точек, т. е. точек, отличных друг от друга свойствами. Пространство материально, оно и есть сама материя. Разделение окружающего на пространство и материю – это всего-навсего результат работы сознания, а не свойство природы. Итак, пространство материально, вопрос только в том, каковы его свойства. Что скажешь на это?
– По твоей логике возразить вроде бы нечем. Но как быть с экспериментом? Он-то говорит об обратном.
– Вопрос абсолютно верен. Как мы знаем, критерием истины является эксперимент. Так вот именно тут и есть свои нюансы. Эксперимент – это измерение. Первый вопрос в том, насколько адекватна схема эксперимента измеряемым параметрам. Иначе, то ли измеряем, что ответит поставленной задаче? Второй вопрос: а позволяет ли точность измерений гарантировать репрезентативность результатов? Иначе говоря, не скажется ли на результаты искажающее влияние окружающей среды, закрыв от наблюдателя искомую закономерность? Не вдаваясь в подробности эксперимента Майкельсона-Морли, для нас это будет неподъемно, следует отметить, что неспроста Майкельсон сомневался в абсолютной достаточности результатов своего эксперимента для утверждения об отсутствии эфирного ветра. Сомневающиеся продолжили поиск новых схем и принципов в рассматриваемом направлении, несмотря на всю сложность задачи. В 70-х годах прошлого столетия болгарский физик-экспериментатор Стефан Маринов провел разработанный им самим эксперимент и определил скорость движения Земли относительно эфира. Казалось бы, научный мир должен был бы насторожиться и сконцентрировать в этом направлении свои усилия. Ничего подобного не произошло. Молчаливое равнодушие повисло над этим событием. Маринов не сдавался и вел активную популяризацию своих результатов. Его критики атаковали различные слабые стороны его работы, хотя у Майкельсона и Морли их было даже больше. И вдруг Маринов загадочно гибнет, якобы покончив с собой самоубийством, выпав из окна номера гостиницы. Полиция Австрии быстро закрывает дело, уверенная в версии самоубийства, игнорируя факты, разрушающие их уверенность. Планируя самоубийство, Маринов бронирует себе гостиничный номер на ближайшей конференции в другом городе. Сын Маринова, будучи высокопоставленным чиновником в Болгарии, даже не информируется о случившемся. Налицо признаки какого-то заговора. С тех пор результаты эксперимента живут только на просторах интернета, но не в научной среде. Такова история. Сомнения в отсутствии эфира только множатся. А воз и ныне там. Что скажешь на все это?
– А что тут скажешь. Сомнений действительно много. А поэтому и ответа однозначного нет.
– Чтобы укрепить свои позиции, предлагаю продолжить обсуждение по темам, которые тесно связаны с рассмотренной и в которых в этой связи наблюдаются парадоксы (внутренние противоречия), но это уже в следующий раз.