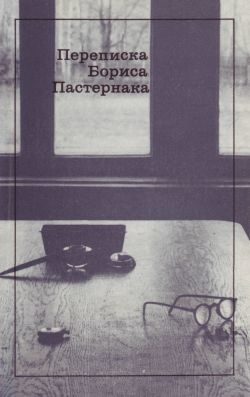Читать книгу Переписка Бориса Пастернака - Борис Пастернак - Страница 30
Б. Л. Пастернак и О. М. Фрейденберг
Фрейденберг – Пастернаку
ОглавлениеGlion <Середина июля 1912>
Нет, теперь это не столько скучно, как глупо. Оскорбление? Право на оскорбление? Что за возмутительные слова? Вот у тебя надо спросить – откуда взялась в тебе эта любовь к словесным фейерверкам? Не виновата же я, если у тебя такой удачный ассортимент знакомых, что каждое мое слово ты можешь раскладывать по группам слов своих знакомых. Тебя там, может быть, оскорбляют и без права на оскорбление, но я далека от таких жестокостей. Ты назвал в открытке свой теперешний период «чужим, общим и упадочным». Я этого не думаю; не думаю, что у тебя это упадочное время. Скорее у меня. И ты мог не оскорбляться – потому что я только могла сказать, что даже и этот период для тебя важен, и ты, конечно, пройдешь его. Если что и могло огорчать меня во всем этом, то только я одна, потому что я не знаю, чужд ли ты сейчас самому себе, но мне ты чужд. Что же в этом оскорбительного для тебя-то? Я тебя не трогаю; я даже согласна признать, что так оно и должно быть. Но позволь же мне, когда я хочу, посторониться: просто мирно отойти от тебя на другую сторону. Я это и сделала. И – повторяю – можно говорить сейчас обо мне, а не о тебе; здесь все сплошь мое личное дело. Я даже не смотрела, чужой ли ты или упадочный; я сразу заметила, что в тебе появилось это «общее» – ты удачно нашел это слово. С меня было этого достаточно; остальное меня не интересовало. Остальное интересовало тебя.
Ты не доволен, что я тебе пишу? Но я не могу примириться с твоим письмом. Мало ли о чем ты можешь просить; не ответить на твое необыкновенное письмо было бы еще более нелепо, чем его написать. И мое здоровье! Ты начинаешь повторять собою С. Маргулиуса: он тоже советовал тебе пить молоко и есть яйца на даче у Осипа[55] – и это тогда, когда ты сидел у нас в Петербурге и говорил о разных близких тебе предметах. Вспоминаю твои слова во Франкфурте: ты стал делать то, над чем прежде смеялся.
Как мне подписаться? В единственном числе или во множественном?
Ах, как глупо, когда подумаешь, что я говорю то, что твои знакомые уже сказали тебе или скажут. Ты пишешь им такие же письма, как мне? И они тебе, наперекор стихиям, отвечают?
То, что ты едешь в Россию, очень хорошо; я тебе завидую. А то ты, бедный, уже ездил в Киссинген. Курорты до добра не доводят; то-то ты написал мне такое добродетельное письмо, соль которого годится только для ванны. Ну, прощай, Боря. Желаю тебе всего хорошего. И все-таки рада нашей встрече.
Я обещала Пастернакам заехать к ним в Марина-ди-Пиза, где они снимали виллу на берегу Средиземного моря. У дяди меня встретили с восторгом. Только Боря держался отчужденно. Он, видимо, переживал большой духовный рост, а я – что я была рядом с ним? Ему не о чем было со мной говорить. По вечерам черная итальянская ночь наполнялась необычайной музыкой – это он импровизировал, а тетя, большой и тонкий музыкант, сидела у темного окна и вся дрожала.
Мы поехали с Борей осматривать Пизу – собор, башню, знаменитую, падающую, но не упадающую, колонну, о которой не известно – падает ли она, или нарочно так построена. Я хотела смотреть и идти дальше, охватывать впечатлением и забывать. А Боря, с путеводителем в руках, тщательно изучал все детали собора, все фигуры барельефов, все карнизы и порталы. Меня это бесило. Его раздражало мое легкомыслие. Мы ссорились. Я отошла в сторону, а он наклонялся, читал, опять наклонялся, всматривался, ковырялся. Мы уже не разговаривали друг с другом. С этого дня ни единого звука Боря со мной не проронил; мы жили вместе, рядом, в полном бойкоте. Семейная обстановка и южная, слишком роскошная красота природы утомляли меня. Я мечтала удрать. За мной следом тянулась переписка, голубые конверты, телеграммы. Я, сидя под Пизой, назначала с легкостью свидания на вершинах гор и за тридевять земель, точно это был угол Канала и Гороховой. Однажды тетя «по ошибке» вскрыла телеграмму, которая начиналась по-французски словами «я буду совершенно один…» и шло место свидания, день и час. Я стала быстро собираться. Хотя смысл содержания этой депеши был очень невинный, она была от Жозе-де-Соуза, поджидавшего меня в Швейцарии, – но я придралась к возможности обидеться и уехать: дома у нас святость переписки была первой заповедью, а в «ошибки» я не верила.
Издевались надо мной ужасно! Шурка называл Жозе-де-Соуза «Соусом» и прекрасно острил («под каким бы соусом тебе ни телеграфировали…»), а Боря не удостаивал меня словесами. Он еще в начале осудил меня за встречу и поездки с Винченцо Перна (я не скрывала своих похождений), и очень остроумно называл этого уроженца Павии «твой павиан». Но это было весело, хоть и враки!