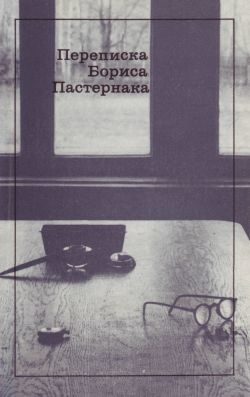Читать книгу Переписка Бориса Пастернака - Борис Пастернак - Страница 38
Б. Л. Пастернак и О. М. Фрейденберг
Пастернак – Фрейденберг
ОглавлениеМосква, 28.IX.1924
Дорогая Оля!
Как сильно и выразительно ты пишешь! Не бывши там, я с твоих слов все увидал и пережил и потрясся! Странное совпаденье. Точно столетний юбилей того наводненья, что легло в основу Медного Всадника. И это совпало со столетьем ссылки в Михайловское.
А тут – бабье лето, по зною и духоте не уступающее настоящему. И сквозь пыль, летящие бумажки, серые бульвары, вновь поехал в полные зною, сору и бестолочи комиссарьяты – твоя правда – во главе экспертной комиссии – Покровский. Но ты очень заблуждаешься, если думаешь, что это что-нибудь для тебя значит. По каким дням принимает? – Никогда и никого не принимает. – ?? – А по какому делу. – Излагаю, приблизительно, с дозволенной степенью приближенья. – Подать заявленье в местное Кубу. Если речь идет о Ленинградском, то тем паче: оно обладает и компетенцией высокой и полномочьями, равносильными Цекубу – это все провинциальное отделение. – Да я не про то, да вы послушайте и т. д. и т. д. Посоветуйте Вашим знакомым написать в экспертную комиссию сюда, если, как видно из Ваших слов, это дело исключительное; тогда, в меру исключительности, оно быть может дойдет до Мих<аила> Ник<олаеви> ча. Мы рассмотрим.
К чему я пишу это тебе? К тому, чтобы ты не упорствовала на своем отношении к этому делу, вернее, на одной детали своих планов или предположений. Чтобы ты знала, что такого порядка, который готов, и тебя ждет, и эмбрионально заключает возможность разрешенья твоего дела, – нет.
В моих расплывчатых и, может быть, требующих недели времени и твоего присутствия представлениях гораздо больше опыта, знанья обстановки и чутья, чем ты думаешь. Приезжайте вдвоем с тетей Асей! Ну чем это невозможно или трудно! У вас будет отдельная комната. Мы будем действовать с тобой вовсю. Представь, я мог бы ворваться к Покровскому. Но этот прорыв имел бы смысл только с тобой. Когда ты будешь тут, мы этого, мы и многого другого добьемся.
Вот мы хотим тут все порядки Кубу вверх ногами поставить, а для твоей поездки, что, объективно рассуждая, гораздо легче, требуется повод, зацепка, основанье, вызов. Но ради Бога выезжай без вызова, – завтра, послезавтра. Стань на ту точку зренья, что ты отправляешься пожить у нас и познакомиться с той частью Москвы, с кот<орой> тебе познакомиться будет полезно. Твой взгляд на очную ставку, на красноречивость внезапного визита вполне правилен. Но тут-то ты только или я с тобой и увидим, кому и когда и какие визиты надо нанести, т<о> е<сть> иными словами, почвы щупать тут не приходится, все готово, и я бы даже мог соврать тебе с преспокойным видом: Покровский дескать принимает по средам от двух до трех, – и в среду утром на Волхонке, 14, кв. 9 (вход со двора, трамвай 34) обман бы этот обнаружился, а в пятницу вечером мы бы пошли к Луначарскому или не к Луначарскому, потому что до пятницы мы еще бы кого-нибудь увидали, и у того бы блеснула гениальная мысль, и этот «тот» бы, конечно, был во всяком случае коммунистом, сведущим, знающим и пр. и пр. Это построенье тем естественнее вырастает передо мной, что ты мне всячески запретила идти путем ходатайств и просьб за человека, с целью улучшенья той или иной его участи. Что речь идет о деле, говорящем за себя, и о человеке, ни о чем другом говорить не желающем.
Вначале ведь и тебе это все представлялось в таком свете. Ты помнишь как говорила о том, что воспоследует за пятнадцатым сентября. Потом изменилось. Да кстати, если на этот вопрос ты мне не ответишь уже устно, с глазу на глаз, – скажи, напиши, что нового у тебя с диссертацией? Вернулся ли Марр? Когда ты будешь защищать ее? Или все осталось в той формулировке, за какой мы с тобою расстались? Если Покровский – виденье Жанны д'Арк, то ему конечно надо довериться. Я в навязчивость таких представлений верю и сам многим их силе обязан. Как странно, что ты еще не тут! Какая глупая переписка! Но отпуск ты должна взять минимум недельный. А что б тебе тетю Асю уговорить? – Но какие вы маловеры! Это мы-то забыли вас?! Итак. – Б. Конюшенная, второй или третий дом по левой с Невского стороне, городская касса Октябрьской жел<езной> дор<оги>, 2-й этаж, окошко, кажется, 21, плацкарту на спальное жесткое место до Москвы в ускоренном. В Москве конечно остановка трамвая 34 несколько левее выхода вокзального, против смежного с Николаевским, Ярославского вокзала.
Против ваших, в особенности тетиных, ожиданий въехали мы в квартиру, олицетворявшую чистоту, порядок, внутренний мир и тишину, и сделано это было как раз руками соседей, и никаких у них нет бород, и ничем у них не пахнет, и все это было, когда еще чистая сволочность нашей породы не знала никаких смесей и мерила были не поколеблены. Теперь же, на мой грешный и еще немного сволочной глаз, наша квартира Лицей, Στοα ποικνλη,[62] пропилеи в сравнении с Ямской. Здесь ждал меня сюрприз, в форме случайной и неожиданной, обостренной предшествующим контрастом. Когда с остатком от проданной медали[63] в кармане, с договором с Ленгизом на книжку прозы, для которой я должен написать новый рассказ (и тогда окупится все старое), которого я не напишу, потому что перестал понимать, что значит писать, когда с этими отрадными вещами и ощущеньями в левом боку я подскакивал на телеге с десятью местами багажа и глядел на Москву, словно ветром вытащенную в сентябрь из мукомольного амбара – смертельно жаркую и серо-белую, всю в глицериновых каплях мух и пота, я собственно не понимал, зачем я тут и что все это значит. В сумерки мучной характер миража сменился мышиным, измученность взяла над нами верх, мы впали в стадию святости и легкой походки, какая бывает после бессонницы. Естественно, что с этим Тютчевским «изнеможением в кости», толкнувшись к друзьям и знакомым, среди которых много всякого такого от «юного племени», я пооткрывал, что дело дрянь – кто поохладел, а кто и вовсе врагом стал, – знаешь ты это ощущенье, когда вдруг кажется, что начатая глава кончилась и, словно без тебя, в твое отсутствие ее дочитали, и надо новую начать, тебе надо, и будет ли – так вот, в таких духах я встретил первый вечер. И всегда я теперь боюсь Сашкиной нумизматики. Что твой упадок тебе вычеканят с полной художественностью, и твою грусть поймет лучше всех и разделит (на себе ощутив) твой кошелек. Надо ли говорить, что я тут разумею то, как флюиды отражаются на бюджете? И твое душевное состоянье станет физической действительностью для двух ни в чем не повинных Евгениев.[64]
Прескверная и неотвратимая метаморфоза. – На другой день утром я по телефону узнал, что вещь, о которой я давным-давно и думать позабыл, перевод пятиэтажной, сорокаведерной, во сто лошадиных сил, похожей по объему на оба дома на Троицкой, комедии Бен Джонсона (171 стр. в лист ремингтонного шрифта) принята к изданью в Украинск. Госиздате (Харьков).[65] Это несколько освежило нумизматические центры. Я отправился sur le champ[66] в представительство издательства. Сходя с трамвая, я инстинктивно взялся за голову. С афишного столба на меня глядел «Алхимик», выведенный аршинными буквами. Он же смеялся надо мной с заборов. Я подошел к столбу, откашливаясь, в убежденьи, что где-то кто-то ставит комедию, о которой я сейчас бегу договариваться через три дома налево, конечно, как бывает, как должно быть, не в моем переводе. Но как очистились и освежели упомянутые центры, когда рядом с именем режиссера я увидал свое![67] Замечательно, что эти факты ни в какой связи между собой не находятся, ничего общего между постановкой и печатаньем нет, и друг о друге они даже и не знают. Я готов поспорить, что это совпаденье, что эту чепуху породила за ночь моя беспросветная неутешность, и я сделал большую ошибку, успокоившись после афиши. Не расстанься с пессимизмом я и тут, я убежден, душевный мрак стал бы порождать случай за случаем, подобные названным, и может быть, за исчерпанностью форм примененья, Алхимика стали бы в этот день пить, курить, употреблять в качестве шин для автомобилей, ставить в кино, применять в политике и в виде почтовых и гербовых марок. Но я поторопился успокоиться.
Когда по многим личным основаниям, в связи со справками для тебя, с особенною же легкостью на генеральной репетиции ко мне вернулось утраченное сернистое настроенье, оно уже оказалось стерильным и неплодным. Алхимика не только не разыгрывают в лотерею, не только не шпигуют им гусей, но и ставить-то вероятно его будут недолго, и во всяком случае с убывающей частотой: он поразительно скучен и глуп на сцене, несмотря на то, что режиссер сделал из него фарс, и фарс этот актеры играют совсем недурно. Вероятно, виноват бедный Бен. Перевод мой хорош. По моему крайнему разуменью, все, что мог, сделал и режиссер. Но вещь не сценична. Это та форма домольеровской комедии, все движенье которой сводится к последовательной экспозиции характеров и фигур. С этой стороны вещь, и особенно в чтеньи, обладает крепостью своего рода. Но я кажется забываю, что пишу письмо, и может случиться, что предисловье к изданью начну словами «Дорогие тетя Ася и Оля! Часто ли к вам ходит Юлиус? Бен Джонсон, современник, приятель и литературный антипод Шекспира и т. д. и т. д.».
–
Приезжай, Оля, вот все, что можно сказать, приезжай, и думаю, мы об этом не пожалеем. Свиданья с Покровским, я думаю, мы добьемся, в особенности при твоем убежденьи, что это правильный путь и что «войти» к нему ты сумеешь. Во всяком случае, я твоего дела не оставляю, и если у тебя еще нет билета на поезд, напишу на днях. Ты же в свою очередь извести меня о состоянии своей диссертации, и не раздражайся, если что в моем письме тебе покажется недостаточно живым и порывистым. Я пишу в конце дурацкого дня, немножко устал и вообще – писать не умею.
Дорогая тетя Ася! Спасибо за золотые строки! Все мы крепко обнимаем вас обеих и любим.
Ваш Боря.
В последний приезд Бори я умоляла его помочь мне хотя бы переводом Фрезера. Он взял меня к Тихонову[68], который ведал чем-то большим. Но представил он меня так, что тот не обратил на меня ни малейшего внимания. Боря как раз находился в периоде бесплодия, ныл и жаловался. Ему было не до меня, ни до кого на свете. Вскоре я ему писала: «С Тихоновым чушь. Была относительно Фрезера. Его нет; секретарша сказала, что ответ из Москвы гласит: ничего нельзя говорить пока о „Козле отпущения“, ибо надо посмотреть, как я переведу „что-то золотое“, на перевод которого я, мол, тоже подавала заявление. Ничего толковей сказать она не могла, хоть лопни. Золотое что-то – это „Золотая Ветвь“, но все его работы носят это общее заглавие, имея и подзаголовки. Я иных заявлений (кроме того, что велел Тихонов) не подавала. Мне ли поручен перевод 1 тома? Какова моя роль? Она объяснить не может, до А. Н. не добраться. Как ты полагаешь мне поступить?»