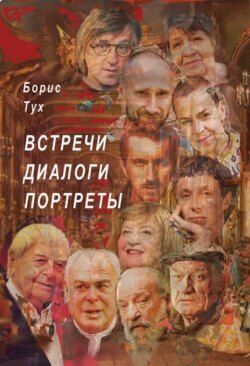Читать книгу Встречи. Диалоги. Портреты - Борис Тух - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Об Андрее Тарковском Арво Ихо
ОглавлениеВерен своей первой любви
Андрей Тарковский с эстонскими молодыми кинематографистами имел самые непосредственные контакты. Был художественным руководителем их дебютной кассеты «Гадание на ромашке». Арво Ихо (Arvo Iho) – поразительный человек. Он начинал как кинооператор, затем стал режиссером, поставил шесть игровых картин, в том числе самый экзотический эстонский фильм «Сердце медведицы»: невероятно сложный, давшийся огромным напряжением и оставивший шрам на сердце. Совсем молодым человеком он встретился с Андреем Тарковским, и от Арво Ихо, обладающего точнейшим взглядом кинооператора и фотохудожника и редкостной наблюдательностью, можно узнать то, о чем не услышишь из других уст.
А. И.: Я с Тарковским встретился еще раньше, в 1974 году, когда после второго курса операторского факультета ВГИКа проходил практику на «Мосфильме». Нам, практикантам, позволялось бывать всюду. Я мог залезть в любую декорацию, любую лабораторию – и пользовался этим сполна. Сейчас я сам фильмы уже не снимаю, поскольку в 2006 году попал в автокатастрофу и получил серьезные травмы. Но без творчества не могу. Я верен своей первой любви – фотографии и каждые 3-4 года делаю новую большую фотовыставку.
Б. Т.: Фотографировать разрешали?
А. И.: Во время съемок нельзя было. Одиночные фото со съемочной площадки «Зеркала», которые сохранились у меня, были сделаны по-шпионски. На «Мосфильме» ревниво относятся к своей монополии. И мосфильмовский фотограф Мурашко рьяно следил за этим. Но так как я был официальный практикант, то сидел тихо, слушал, смотрел и тайком сделал несколько снимков, кадров шесть-семь. Из них три или четыре стали историческими. Так что мне повезло. Но тогда я оставался для него невидимкой. Потом Андрей Арсеньевич приезжал показывать «Зеркало» в Таллинн, фильм два раза прошел в киноклубе ТПИ, при настоящем столпотворении – свободных мест в зале не было.
Госкино СССР дало «Зеркалу» самую низкую, 3-ю категорию. Это значило, что режиссер получил очень маленькие постановочные деньги. А Андрей Арсеньич сидел по уши в долгах. Тогда его друг, главный редактор «Таллинфильма», Энн Реккор (Enn Rekkor) предложил Андрею, чтобы тот стал художественным руководителем молодых эстонских киношников, которые только-только закончили ВГИК и снимали свои первые короткометражки. Пеэтер Симм (Peeter Simm), Пеэтер Урбла (Peeter Urbla) и…третью новеллу сначала должен был ставить Яан Тооминг (Jaan Tooming), но в это время умерла режиссер театра «Ванемуйне» Эпп Кайду (Epp Kaidu), и на Яана Тооминга в театре навалилась такая нагрузка, что он вынужден был отказаться от съемок. Но так как третья новелла должна была быть, то за нее взялся Тоомас Тахвель (Toomas Tahvel). И потерпел неудачу.
Я был оператором на всех трех новеллах. И помню, что встречи с Тарковским получились очень человечными, очень личными и совершенно без напряжения. Он сказал: «Ребята, я сделал немножко больше фильмов, чем вы, используйте меня!» Мы после ВГИКа еще ничего не сделали, а он снял уже пять с половиной фильмов, очень новаторских и уже прославившихся во всем мире.
Он очень хорошо к нам относился, как старший коллега. Не ставил себя на недосягаемую высоту. Даже анекдоты травил. Насмешничал – любил это дело! – иронизировал, его шутки были такими, как будто тебе дают под зад, и ты просыпаешься и видишь вещи более свежо и не так стандартно. Интуиция у него была удивительная. Его фильмы не поддаются рациональному объяснению. Когда был у нас худруком, говорил: «Знаете, ребята, что я люблю больше всего? Ставить фильмы, ничего не объясняя». Вот это королевский путь!
Б. Т.: Андрей Арсеньевич еще написал для «Таллинфильма» сценарий «Гофманиана».
А. И.: Да, это было второе предложение Энна Реккора. Сценарий писался в расчете на Кальё Кийска (Kaljo Kiisk), но когда тот прочел его, то испугался: «Это только сам Тарковский смог бы снять». Позже Тарковский написал еще один сценарий – по мотивам «Императорского безумца» Яана Кросса (Jaan Kross). Года три назад один режиссер из России купил у правопреемников «Таллинфильма» права на этот сценарий. Так что Энн Реккор сделал для Тарковского три добрых дела. Заказал ему два сценария – и свел с молодыми, только что из ВГИКа, гавриками.
Б. Т.: Арво, ведь вы, как никто другой, знаете об эпопее со «Сталкером». Расскажите о ней.
А. И.: Натуру для «Сталкера» он поначалу искал в Средней Азии. Показывал мне сделанные там фотографии. Оранжево-желтая пустыня и фиолетовые заводские корпуса. И ни одного дерева. Но землетрясение, обрушившее центральную часть Ташкента, эти корпуса тоже порушило, и пришлось искать новую натуру. В Донбассе нашлось подходящее место, но там были такая загрязненность воздуха и высокий уровень радиации, что о съемках не могло и речи идти.
И в Таллинне он как-то сказал мне: «Арво, а ты не знаешь тут, где-то не очень далеко от Таллинна, такие пейзажи, какие выглядели бы почти нормальными, но все-таки в них чувствовался некий сдвиг? Будто тридцать лет назад тут произошла катастрофа, и в этом умиротворенном пейзаже вдруг тревожно выступают какие-то чужеродные элементы».
Я показал такое место – старая каменоломня в трех километрах от центра Таллинна: хилые кусты, одинокие деревья, утки плавают в прудах и груды камней, поросших толстым слоем мха. Когда еще при первой Эстонской Республике начинали строить здания для аэродрома Ласнамяэ, в каменоломне остались такие странные места: из земли поднимается бетонная лесенка и ведет в никуда, идешь дальше – какая-то ржавая стальная конструкция высится, еще дальше – полуразрушенная железобетонная труба, покрытая зеленым мхом... Он сказал: «Да, это интересно, но тут катастрофа еще слишком чувствуется. Мне нужен более нормальный, более умиротворенный пейзаж. Но что-то там должно быть странное. Заводской корпус, старый заводской корпус…»
Мы приехали в Ягала, где в овраге на берегу реки стоял полуразрушенный корпус старой электростанции. Но более его поразила местная плотина. Её не я показал – туда случайно забрел ассистент режиссера Евгений Цимбал. Когда они снимали там в июне 1977 года, то Женя так уставал на этих бесконечно долгих съемочных днях, что остался ночевать в Ягала. В свободный день отправился бродить по лесу – и вдруг услышал шум большой воды. Пошел на звук – и обнаружил полуразрушенную дамбу Линнамяэ. Позвал оператора Георгия Рерберга. Увидев испещренную трещинами и тиной, омываемую текучей водой плотину, Рерберг воскликнул: «Андрей будет кипятком писать от восторга. Это для него идеальный объект съемки!» Так и случилось. Когда Тарковский увидел это, он сказал: «Ну, ребята, мы спасены!»
Когда советские войска в 1941-м отступали из Таллинна, они хотели взорвать эту электростанцию, подложили взрывчатку, но станция была так прочно построена, что на воздух взлетел только генераторный корпус. Открылись полуразрушенные арки, сквозь которые с шумом низвергались водяные столбы. Идеальный объект для «Сталкера».
Б. Т.: Вы водите экскурсии по местам «Сталкера»?
А. И.: Да, я вожу туда студентов BFM***. За 30 лет там побывало много других «паломников». Но водить людей в «зону» имело большой смысл до 2013 года. Тогда квартал Ротерманна в Таллинне оставался таким же, как во время съемок фильма. А сейчас он перестроен, вылизан, там роскошные рестораны! Единственно, что узнаваемо – зерновой элеватор. Те, кто бывали там до 2013 года, получали сильные впечатления. Мы заходили в складское помещение, и я показывал: вон там стоял «Лэндровер», вот в это окно выглядывал Кайдановский!
Б. Т.: Кайдановский гениально сыграл Сталкера! Замечательный актер!
А. И.: А кто из снимавшихся в «Сталкере» не замечательный? Но с Кайдановским связана одна тайна. В первом варианте он играл бандита. Сталкер был еще очень похож на героя из романа «Пикник на обочине». Он временами выколачивал из людей деньги. У меня есть фото, где он бьет по морде писателя.
Б. Т.: Ну да, такой американский «герой фронтира».
А. И.: Полубандит, я бы сказал. А в конечном варианте фильма – поворот на 180 градусов. Поскольку я был свидетелем всего процесса изменения, я понял одну вещь, которую актер, наверное, осознал в конце концов и сам. Тарковский хотел после «Зеркала» снимать «Идиота» по Достоевскому. Ему запретили и поставили на этом замысле крест. А желание внутри осталось. Он спорил с Аркадием Стругацким, который сидел в отеле «Виру» и поденно переписывал сцены. Стругацкий спрашивал: «Ну что же вы хотите из этого Сталкера сделать?» Андрей: «Чтобы он не был таким бандитом! Я этого бандита ненавижу! А что с ним делать, вы придумайте. Вы писатель!»
Б. Т.: Съемочная «кампания» 1977 года закончилась тем, что весь материал оказался бракованным. Это общеизвестно. Но как такое случилось? Негатив был ведь кодаковский?
А. И.: Главный инженер «Мосфильма» Коноплев закупил эту партию пленки во Франции, и на нее снимали 4 группы. У всех был брак. Оказалось, Коноплев сэкономил на химикатах. В результате процесс обработки негатива был нарушен. Из-за этого не получался чистый черный цвет, зеленый выходил грязноватым, бурым, и оставалось впечатление, что кадр как бы недоэкспонирован. И в этом Тарковский обвинил Рерберга. Будто оператор перед съемкой не проверил пленку. Брак получился у всех четырех групп, снимавших на этой пленке. Но остальные работали в Москве, они получали материал на третий день и сразу останавливали съемки. А «Сталкера» начали снимать в конце мая 1977-го, а бракованный материал поступил только в июле. За эти полтора месяца они бесконечно переснимали одни и те же сцены. У А. А. сложно складывались отношения с Георгием Рербергом, но главная проблема была – и я это видел – в том, что Андрей все больше оставался недоволен главным героем, Сталкером. Кайдановский очень хотел играть мачо, а Тарковский запрещал. Загонял темперамент Кайдановского вовнутрь, чтобы у того глаза блестели и душа горела. Процесс был длинным и мучительным для Кайдановского.
Конечно, то, что весь снятый материал пошел в брак, было катастрофой. У меня сохранилось фото, где Тарковский смотрит с ужасом, словно в бездну, в черноту! 21 июля в «Мартирологе» (так Тарковский назвал свой дневник, который вел с 1970 года. – Б. Т.) записано: «Переснимать надо все 1400 метров. Денег нет. Сил нет». Приостановили съемки и уехали на «Мосфильм». Вернулись в середине августа, но уже с другим оператором.
В. Т.: В чем был конфликт между режиссером и оператором? Всегда ли прав в таком случае режиссер?
А. И.: У меня есть кадр, который объясняет, отчего начался конфликт. Вот Сталкер-бандит, который будет избивать писателя. Тарковский еще кайфует от этой сцены. Тут Андрей и Георгий – еще друзья – сидят и весело разговаривают. Вполне благополучное сотрудничество. И характеры видны – умный, интеллигентный, ироничный Рерберг и непредсказуемый Тарковский. Рерберг – красавец, умница, замечательный художник. Вот в такой гармонии они работали в первой половине июня. Но потом начались трения. Они бесконечно переснимали одни и те же сцены на разную оптику. Я видел, как они снимали внутри электростанции одну сцену. Начинали с объектива с фокусным расстоянием 28 мм, потом 35, 50 и закончили 85 миллиметров. А проблема была совершенно в другом. Тарковский внутренне был недоволен главным героем. И на этом фильме он все репетиции смотрел через кинокамеру. Впервые в своей карьере. У меня есть ключевой кадр: Андрей за камерой, а Рерберг чешет репу: а мне, мол, что здесь делать? Отсюда и началось напряжение. Ему оставалось только свет ставить.
Б. Т.: Я попросил рассказать о конфликте режиссера с оператором, потому что у меня две цели. Во-первых, узнать, что произошло между двумя Мастерами: Рербергом и Тарковским. Во-вторых: в вашей операторской практике случались конфликты с режиссерами из-за того, что они не были профессионально сильны в технической стороне съемки?
А. И.: Знаете, Андрей Арсеньич об этом говорил. Во ВГИКе есть один недостаток. От режиссеров там не требуют достаточно глубокого знания истории искусств и не требуют, чтобы они сами умели фотографировать. То есть, они не видят свет и не владеют языком изображения. Это средние режиссеры. От этого возникают конфликты с операторами. Сам Тарковский очень хорошо видел свет, высоко ценил качество фотографии – и в этом отношении отличался от других режиссеров. Довольно часто из-за того, что режиссеры вгиковской выучки не понимали профессионально изображения, возникали разногласия между оператором и режиссером. И кроме того – какими плохими материалами мы пользовались в то время!
Я работал оператором на 10 фильмах. И когда мы с Петькой Симмом ставили «Татуировку», чувствительность пленки была 22 единицы ГОСТ. Даже когда летом снимали, приходилось дополнительно освещать. Это же просто ужас! Фотографы-любители пользовались, как правило, пленкой чувствительностью в 65 единиц! А тут кино!
Тарковский же снимал черно-белые кадры на пленку А-2. Она производилась специально для военных целей, в ней было много серебра, и ее чувствительность определялась в 180 единиц. У группы Тарковского была цветная пленка «Кодак» и лучшая черно-белая пленка, какая только делалась в СССР. На камере стояла самая лучшая по тому времени английская оптика Taylor&Hobson, зум с фокусным расстоянием от 20 до 100 миллиметров. Этим объективом снят весь окончательный вариант фильма.
А Рерберг еще пользовался советской оптикой. Может, потому и переснимались сцены по 6 раз, от 28-миллиметрового объектива до 85-миллиметрового. Андрей все время злился, что получается не то, что надо. А суть была в другом. Рерберг был великолепным оператором. На точно таком же «Кодаке» он перед «Сталкером» снял советско-японский фильм «Мелодии белых ночей» с Комаки Курихара и Юрием Соломиным. Прекрасно снято! Когда случился конфликт, и Тарковский стал упрекать Рерберга в том, что он не делал испытания пленки перед съемками, Рерберг ответил: «Посмотри мой фильм «Мелодии белых ночей». Он в Японии получил высшую награду за изображение! Мы сейчас снимаем на той же пленке. Что ты от меня хочешь?»
Б. Т.: Но там, вероятно, пленку проявляли японцы – и в полном соответствии с технологией?
А. И.: Там всё было как надо! И еще. Поскольку Тарковский был в глубоких долгах – это в его «Мартирологе» записано, – он хотел быстро снять научно-фантастический фильм и на этом заработать деньги. «Сюжет увлекательный, научная фантастика, за три месяца снимем» – это всё у него записано. Но он не умел легко снимать. И не мог халтурить: халтура против его сути. И из-за этого получился долгий мучительный процесс, он изводил себя, изводил других, мучал группу и мучал Кайдановского. Но из этого тернового пути вышло гениальное произведение. И сам Кайдановский переродился, суперменов он уже не играл.
Рерберг ушел. Новым оператором стал Леонид Иванович Калашников, а художником – Шавкат Абдусаламов, они всегда в паре работали. В августе и сентябре они еще снимали, но остановились в первых числах октября. Сухая осень пришла очень рано, листва пожелтела. 3 октября ударил мороз, и когда они пришли на съемочную площадку, то увидели, что все покрыто инеем. У меня есть фотография: Тарковский, совершенно растерянный, стоит посреди поля в пальто и смотрит на иней. Они снова уехали на «Мосфильм». Было растрачено больше половины денег. Это была настоящая катастрофа.
4 апреля у А. А. день рождения. Он провел его не дома, а был с друзьями. И когда он пришел домой, Лариса Павловна, мощная баба, встретила мужа в классическом русском стиле – вломила ему кулаком в лоб. Андрей Арсеньевич упал – все накопившееся за последнее время напряжение привело к сердечному приступу.
Его положили в больницу, без права посещения, он провел там 5 недель. Потом его отправили в санаторий МВД, где общаться ему было совершенно не с кем. Одни ментовские полковники и генералы. И, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Поскольку А. А. все это время находился в полном одиночестве, то продумал до мельчайших деталей, что же хочет сделать из своего фильма. На следующий год съемки уже шли гораздо увереннее и совсем в другом темпе.
Оператор третьего варианта фильма, Александр Княжинский, был молчалив и никогда с Тарковским не спорил. Рерберг спорил часто. И вносил свои предложения. А теперь было четкое понимание, чего режиссер хочет и какого героя создает. Они снимали только по два дубля – и поехали дальше!
Стругацкие усилили притчевое начало сценария, убрав все имена, и сделали главного героя юродивым. Они же чувствовали, что Тарковского все время тянет в сторону «Идиота» Достоевского, и сделали Сталкера верующим человеком, который служит святому делу. Он – слуга Зоны. Возник коренной перелом всей истории...
Кайдановскому образ юродивого поначалу не нравился и давался с трудом. Ему казалось, что режиссер не позволяет ему выплеснуть внутреннее напряжение, которое постоянно нарастало. Но именно из-за этого у него и получился совершенно новый герой вышел. Он и сам как будто переродился, стал другим человеком.
Не вдаваясь в тонкости, я утверждаю: Тарковскому запретили снимать «Идиота» Достоевского, но Тарковский и Стругацкие создали «Идиота» Тарковского!
Фильм, который во всесоюзном прокате назывался «Игры для детей школьного возраста», (в Эстонии – Naerata ometi), Ихо начал снимать в качестве оператора, а закончил уже как сопостановщик Лейды Лайус (Leida Laius). Вышедшая на экраны в 1985 году картина была для того времени невероятно смелой и откровенной; в ней рассказывалось о жизни в школе-интернате, конфликтах, которые возникали между детьми и приводили к грубости и издевательствам над самыми безответными, о том, как страшна жизнь ребенка в отсутствии любви и заботы со стороны взрослых. В фильме была страшная сцена: девочку запихивали в стиральную машину – и включали ее.
Б. Т.: Кто придумал эту сцену?
А. И.: Я это придумал. Лайус понятия не имела о подобных вещах. А я учился и жил в Раквереской школе-интернате три года. И у нас такой эпизод в самом деле случился. В подвале стояли большие стиральные машины, и одну девочку таким образом «прокатили» в барабане. А снимали мы эту сцену так. Маленькую актрису, восьмилетнюю Кертту Аавинг (Kerrtu Aaving), обложили тремя подушками из черного бархата, так что она даже не касалась стенок барабана. Поставили две камеры, одну на 24 кадра в секунду, другую на 16, чтобы на экране вращение выглядело быстрее. Сняли с машины приводной ремень; вращал барабан вручную мой ассистент. Но чтобы Кертту заревела, мы ее испугали звуком мотора. Машина работала вхолостую, но девочка испугалась и истерически разрыдалась. С помощью грима мы навели ей на плечах следы крови. Сняли только один дубль. А потом вынули девочку, вынули подушки и показали, как вращается стальное нутро машины. Три сцены в фильме сняты без Лейды Лайус. Сцена со стиральной машиной, драка девчонок в бане и еще сон Мари, который не вошел в картину.
Б. Т.: Так что вы оказались полноправным соавтором Лейды Лайус?
А. И.: Сначала Лейда этого не признавала. Энн Реккор сказал тогда мне: «Арво, я все понимаю, но терпи и делай свое дело!» Лайус признала, что у картины два режиссера, только в Москве, в Госкино, после того, как комиссия просмотрела фильм. Ей сказали: «Лейда Рихардовна, вы нас потрясли! Вы, такой спокойный, классический режиссер, на этот раз какую-то взрывчатку нам привезли! Что с вами произошло?» Тогда она покраснела и сказала: «Я должна признаться, что у этого фильма есть и другой режиссер».
Б. Т.: В трех ваших картинах – «Наблюдатель», «Сестра милосердия. Только для сумасшедших» и «КрУжовник» – удивительные женские образы. Причем «КрУжовник» вы снимали в России, в 2006 году, с Ульяной Лаптевой, Дмитрием Певцовым и Сергеем Гармашем в главных ролях. Как получилось, что эту типично русскую историю пригласили снимать эстонского режиссера?
А. И.: Когда мне прислали из Москвы сценарий Марины Мареевой «Крыжовник», я удивился: почему мне, не российскому режиссеру, предлагают снять такую, вы правы, совершенно русскую историю. Продюсер сказал, что об этом просила автор сценария Мареева, которая видела на фестивалях два моих фильма: «Сестра милосердия – только для сумасшедших» с Маргаритой Тереховой и «Наблюдатель» со Светланой Тормаховой. И сказала: «У нас не умеют так работать с актрисами! Пригласите этого эстонского режиссера».
Б. Т.: Терехова была очень капризна, хотя актриса, конечно, блестящая. Как вы решились пригласить ее в свой фильм?
А. И.: В Доме кино я встретил Маргариту Борисовну и долго наблюдал за ней тайком. Но я же видел ее в «Зеркале»!
Б. Т.: А в «Мушкетерах» видели?
А. И.: Вы не поверите, я до сих пор «Мушкетеров» не видел!
Б. Т.: Там она с таким удовольствием и таким блеском играет стерву. Лучшая Миледи всех времен и народов!
А. И.: Она и в жизни была такой! Когда я у мосфильмовских коллег спрашивал, можно ли Терехову уговорить приехать в Эстонию на съемки, они отвечали: «Сейчас ее не снимают. Так что договориться сможешь. Но уж кровушки она из тебя попьет!» Но я решил рискнуть – она идеально подходила к этой роли. Естественно, у нас были конфликты. Но я нашел пути их разрешения. И считаю, что абсолютно правильно выбрал ее на роль. Она превосходно сыграла!
Б. Т.: Она, конечно, гениальна. Вскоре после выхода фильма она приезжала в Таллинн, я с ней делал интервью, в лобби отеля «Олимпия»; зная одну ее слабость, я предложил ей коньяку, она развеселилась и прекрасно рассказывала, время от времени как бы спохватываясь: «Ну вот я, кажется, слишком уж разоткровенничалась. Мне из-за этого часто говорят: «Рита, молчи!» Но продолжала в том же духе. Помню, она сказала тогда: «Я так и не поняла, собирается режиссер меня трахнуть или не собирается».
А. И.: У нас были два свободных дня. И я чувствовал, что она хочет, чтобы я с ней остался, но мое железное правило: не заводить романов с актрисами, которые у меня снимаются. Я уговорил своего друга-художника, чтобы он закрыл своим телом эту амбразуру; он был большой ходок и сразу согласился. Я купил две бутылки коньяку и сказал: «Я бы с удовольствием остался, Маргарита Борисовна, но не могу. Я пригласил своего лучшего друга, и с ним вам не будет скучно!» и действительно, когда мы через пару дней вернулись на съемочную площадку, она вся светилась от пережитого удовольствия.
Б. Т.: А Светлана Тормахова, которая замечательно сыграла у вас в «Наблюдателе»? В других фильмах я ее не помню.
А. И.: Она снималась, но в небольших ролях.
Б. Т.: В «Наблюдателе» она сыграла страшную женщину! Хищную!
А. И.: Когда я выбираю актеров, у меня сначала создается зрительный образ. Героиня фильма Александра в моем представлении была камышовой кошкой. Раскосые зеленые глаза, высокие скулы, и взгляд – сразу ясно, что такая может вцепиться тебе в горло и перегрызть.
Б. Т.: Ее не назовешь красивой, но в фильме она была очень эротична!
А. И.: Да. И органична. Женщина! Я довольно рано понял одну вещь. Если ты переспишь с актрисой, то окажешься под ее властью. Не рационально, но на чувственном уровне – точно! Тогда они будут командовать парадом. И я остерегался этого, как огня. Потому у нас с Маргаритой Борисовной возникало напряжение. А в «Наблюдателе» сниматься должна была совсем другая актриса, Нина Русланова. Она классом намного выше, чем Тормахова. Но выпивала. И по жизни психохулиганка.
Б. Т.: Так ведь детдомовская!
А. И.: Они, детдомовские, не всегда психохулиганы, однако инстинкт выживания у них на высшем уровне! Но чертовски талантлива. На съемках она повела себя так, что ее партнер Эрик Руус (Erik Ruus), в свои 24 года, стал ее бояться. И убежал из деревни, в которой мы ночевали; прошел через болото, через лес, добрался до железной дороги и зашагал по шпалам в сторону Питера. Представляете? Актер пропал! Подняли на ноги милицию, и его отыскали бредущим по шпалам, от Белого моря в сторону Ленинграда шел... Но это еще не всё. Когда мы договаривались, Русланова сказала: «У меня все лето свободно. Три месяца могу только с вами работать!» А оказалось, что у нее был договор на 6 серий телефильма. На седьмой день съемок «Наблюдателя» с «Ленфильма» приходит телеграмма: «Отдайте нашу Русланову, у нее с нами договор». Я показываю ей телеграмму, спрашиваю, что это такое? Она: «Ну да, я с вами быстренько снимусь и уеду на «Ленфильм». Вот ведь стерва! А когда она довела Эрика Рууса до побега, я собрал съемочную группу, всего 12 человек, на глазах у всех порвал договор и сказал ей: «А теперь дуйте отсюда! Ваши съемки кончились».
Три недели я искал новую актрису. И помогла мне Таня Логинова, оператор из Минска. Я обрисовал, какая актриса мне нужна: тигроподобная камышовая кошка с зелеными глазами и высокими скулами. «Есть такая актриса!» – сказала Логинова. И когда Тормахова сошла с поезда на перрон Балтийского вокзала, я сразу понял: «Да, это попадание! Такой может быть моя Александра». И пошло все по-новому.
Б. Т.: Вы видели фильм «Как я провел этим летом»?
А. И.: Да!
Б. Т.: Когда я его смотрел, я вспоминал «Наблюдателя», хотя у Попогребского любовной линии нет. Но есть похожая ситуация – два характера, которым некуда друг от друга деться.
А. И.: Но у нас посложнее, взаимное притяжение и противостояние на нескольких уровнях. Во-первых, мужчина – женщина. Затем homo sovieticus и студентик, молодо-зелено. Он эстонец, а она настоящая зверь-баба. Ему 24, ей 40. И несмотря на то, что у нас только два артиста, в «Наблюдателе» очень плотная драматическая ткань.
Б. Т.: В 1992 году вы начали работать со студентами?
А. И.: Да. После «Сестры милосердия» я уехал в США и пробыл там 6 месяцев. В университете штата Монтана изучал антропологию и сам понемножечку преподавал. У меня была там группа студентов, которые видели три моих фильма и предложили: «Пожалуйста, преподавай нам». И я с моим малым опытом и слабоватым английским начал преподавать. Я побывал в американском киноинституте, смотрел, как у них организован учебный процесс. Был на студии Warner Brothers. Тогда там работал Ильмар Таска (Ilmar Taska), и он нам многое показывал. Мы присутствовали на съемках. А в штате Монтана снималась самая дорогая по тому времени картина с Томом Крузом и Николь Кидман Far Away and Long Ago. Трое моих студентов были там на практике, и я тоже побывал на съемках. Старался везде учиться.
Когда я вернулся домой, то впал в уныние. Я посмотрел совершенно другими глазами на нашу жизнь и на свою квартиру, которую так любил, и вдруг понял, как мы бедно и плохо живем. А через две недели я попал на баррикады, что окружали Дом радио и Дом телевидения. Но псковские десантники объехали город и ринулись на телебашню... Когда прошли эти трое судьбоносных суток, я понял, что теперь ни один молодой человек из Эстонии не поступит во ВГИК и не поедет учиться в Ленинград. И мне стукнуло в голову: надо создать кинообразование здесь, в Эстонии. Сумасбродная идея. Но я посетил много киношкол и видел, как в них преподают. Я написал программу кинообразования и пошел с этим в Министерство образования Эстонии. Они посмотрели и сказали: «Очень хорошая программа. Но эстонскому народу не нужно такое образование. Молодые люди теперь могут свободно ехать на Запад». «А вы знаете, сколько там такое образование стоит? – возразил я. – В Польше, в Лодзи, 8000 долларов в год, в Будапеште – 8200, в Праге столько же. Откуда у наших людей в 1991 году возьмутся такие деньги?» Но из Министерства образования пришел недвусмысленный отказ.
Тогда я начал искать высшее учебное заведение, где можно хотя бы в малом масштабе начать это дело. Заинтересовал ректора пединститута. Он сказал: «Идея хорошая. Если вы придумаете, как это сделать без денег, я вас поддержу». И я придумал. Факультет культуры пединститута готовил тогда хореографов, дирижеров хора и оркестра, актеров и режиссеров и руководителей домов культуры. Всего 8 специальностей, которые дублировали ту же самую подготовку, что и в консерватории (теперь Эстонская академия музыки и театра) и в Вильяндиском училище культуры (впоследствии Академия культуры). Я предложил: давайте снимем по одному месту с каждого отделения, и мы без денег получим 8 мест для новой специальности.
По моему плану на первом курсе преподавание будет на эстонском, а на втором и третьем курсе уже прибавится преподавание и на русском и на английском.
Позднее, когда школа уже заработала, я приглашал преподавателей из России, Финляндии, Швеции, Англии, Франции, США... Всего у нас побывало за три года 27 иностранных преподавателей! Но это все уже после того, как Фонд Открытой Эстонии (Фонд Сороса) нас поддержал деньгами... Вначале они трижды требовали от меня доработать заявку. Наконец, приехали пять экспертов, международная комиссия, которая меня выслушала и сказала: «Ваша бумага нас не до конца устраивала. Но ваше живое выступление убедило нас, что вы способны это провести. Программа у вас хорошая, вот вам 7000 долларов». По тогдашнему времени деньги серьезные!
Я обратился в Cross Development, который принимал вклады под 30% годовых. Вложил туда 7000, а через год они выросли на треть, и тогда я купил у «Таллинфильма» камеру «Конвас» с тремя объективами, а в России закупил гору 35-миллиметровой черно-белой пленки «Шостка» по 20 копеек за метр, баснословно дешево! Приобрел видеокамеру формата VHS. А телевидение подарило нам 16-миллиметровую камеру. На видеокамеру я давал снимать работы по самым слабым сценариям, на 16 миллиметров – по нормальным, а на 35 – по самым лучшим.
В США я усвоил, что между студентами тоже должна быть конкуренция. И прежде чем мы начали, я опубликовал рекламу не только в местных газетах, но и в газетах зарубежных эстонцев, что в Эстонии открывается кинообразование на эстонском языке. Приехали 8 кандидатов из Канады, Германии и других стран, а всего 76 человек хотели поступить. Я собрал молодых кинематографистов, и мы провели трехдневный конкурс. Отобрали каждого девятого, 8 из 76. Тех, кто мог рассказать историю не только словами, но и фотоаппаратом. Среди них были Райнер Сарнет, Яак Кильми, Урмас Ээро Лийв, Рейн Пакк, Рене Вильбре, Эрик Нооркроос... Всё парни. Потом взяли еще двух девушек, но из них ничего не вышло. А парни оказались отличными: 6 из 8 остались в профессии.
В конце первого года обучения наши ребята стали выигрывать призы на международных студенческих кинофестивалях. Первым это сделал Сарнет, потом Вильбре, потом Кильми. Сначала на конкурсе «Святая Анна» в Москве, а потом и в разных странах Европы. Пошел шумок: в Таллинском пединституте творится что-то интересное. Мы показали первую публичную программу студенческих фильмов; зал Дома кино был набит до отказа. И только после первых успехов Эстонское государство дало нам немножко денег. А Фонд Сороса еще два раза давал нам деньги, сначала 5000 долларов, а потом уже крупную сумму, чтобы купить электронную монтажную систему. На 3-м курсе мы уже снимали на Betacam, и у нас была своя монтажная студия.
За 4 года я очень устал – ведь мне приходилось и деньги доставать, и искать преподавателей, самому лекции читать и съемки организовывать... В то же время я временами преподавал в Финляндии. В киношколе Хельсинки я договаривался с преподавателями, объясняя, что мы можем платить им суточные, можем дать жилье в Таллинне на одну неделю, но не в состоянии адекватно оплачивать их труд. Время было интересное, людям хотелось знать, что же в этой Эстонии творится, и преподавать приезжали мои друзья и коллеги из Финляндии, Швеции, Англии, Франции, Швейцарии, даже из США. В общем, за три года учили наших студентов 27 иностранных преподавателей, и среди них многие из ВГИКа.
И если сначала студенты были настроены иронично по отношению к русскому преподаванию, то потом признали: лучшие преподаватели были из ВГИКа. В них студенты просто влюбились. Они поняли, что уровень там очень хороший, вот только много идеологической белиберды. Но когда я договаривался с учителями из ВГИКа, то ставил условие: «Никакой идеологии – только профессия!» Я также нанял специального преподавателя английского языка, чтобы ребята изучали киношный английский. И через два года уже стали приезжать мастера со всего мира.
Это было невероятно интенсивное время, очень трудно было... Я, словно трактор, волок за собой весь этот груз, и очень устал за эти 4 года. Для продолжения начатого дела надо было найти себе на замену сильного человека. Мне удалось уговорить Рейна Марана: «Рейн, ты один, кому я могу доверить это дело. А я так вымотан, что хоть в психушку ложись!» Я мечтал попасть на живую природу. В тайгу.
Б. Т.: Чем вас пленила тайга?
А. И.: В 1991 году я прочел роман Николая Батурина «Сердце медведицы», и так влюбился в этот мир, что возникла вторая сумасбродная идея: снять фильм по этому роману. Я ринулся сначала в Западную Сибирь, а потом в Восточную Сибирь, в Эвенкию, где Николай Батурин в течение 16 лет был таежным охотником. Это 500 километров на север от Красноярска, а от Эстониий аж 6000! Очень далеко, и я убедился, что снимать там кино невозможно. Наконец, в 1998 году я нашел на Северном Урале в Республике Коми, подходящие места и даже финансового партнера.
Б. Т.: «Сердце медведицы» – ваш предпоследний игровой фильм. Потом был «КрУжовник». А после него?
А. И.: Я после этого вообще никаких фильмов не снимал. Только фотографии.
Б. Т.: Но если взять ваши фотовыставки – хотя бы о причудских староверах и живущих в Эстонии мусульманах – это фактически фильмы, состоящие из статичных кадров?
А. И.: Вы же видели, что они построены как двухголосое кино. У меня не бывает одиночных кадров. Например «Блюз каменного города»: сначала два черно-белых потока изображений, но в кульминации три «голоса» и цвет. Две темы: синее и алое – тоска и любовь.
Б. Т.: Этот переход мне напомнил финал «Андрея Рублева» – где все черно-белое, а в конце цветная «Троица».
А. И.: Вы же помните эти фото в Кик-ин-де-кёк: идешь по лестнице вниз, три больших черно-белых фото Ласнамяэ вводят мотив грусти «каменного города». Люди спускаются в подвал и ходят кругами пред двухголосым потоком картин, сопровождаемых джазовой музыкой тех музыкантов, что изображены на фотографиях. Примерно так же я сделал в «Сердце медведицы». Городской парень приезжает в тайгу и постепенно погружается в жизнь таежных людей и их верований. В тайге всё по-другому. Там нужен проводник, и старый Толкун становится его духовным проводником на этом пути.
Б. Т.: Автор романа Николай Батурин сам человек мистический?
А. И.: Конечно!
Б. Т.: А как сыграл в этом фильме Райн Симмуль (Rain Simmul)! Я очень люблю этого актера, помню, каким он блистательным Свидригайловым был в Линнатеатре, но здесь нечто совсем иное.
А. И.: Он не играет. Он живет. Сначала я две недели делал пробы с Майтом Мальмстеном (Mait Malmsten). Он – отличный актер. И очень красив. Но – горожанин до мозга костей. Невозможно поверить, что такой пойдет один в тайгу. И когда я это понял, я сказал ему: «Извини, что мы с тобой потратили две недели, но я пришел к выводу, что ты не герой романа Батурина. Я очень тебе благодарен, но не хочу потратить неправильно два года».
Б. Т.: Каков был бюджет картины?
А. И.: По тем временам для эстонского кино большой – 840 000 долларов.
Б. Т.: Сказать какому-нибудь голливудскому режиссеру – не поверит!
А. И.: Когда картина была готова, в США она получила премию им. Джека Лондона за лучший сценарий. Она получила номинацию на «Феликсе» за операторскую работу, и ее представили на конкурс «Оскара». В Праге на показе лучших европейских фильмов один американский продюсер подошел ко мне и спросил: «Сколько стоила эта интересная картина? Наверное, порядка 40 миллионов долларов?» Я покраснел. Если суммировать все затраты всех партнеров, то получилось 1 240 000 долларов. У американца челюсть отвалилась: «Я думал, миллион только вы заработали!» Если бы! Я остался в долгах на 40 000 крон!
Это была сумасбродная затея, но я был счастлив, что все же закончил этот фильм. Потому что когда Эстонский фонд кино закрыл проект на 10 месяцев, у меня случилась страшная язва желудка: 16 открытых ран. Единственное, что меня спасло – подаренный другом литр облепихового масла. И еще меня вытащило из этой болезни то, что Институт Эстонии предложил мне сделать фотовыставку на тему: «Приморская Эстония». У Эстонии большая береговая линия. Я снимал маленькие деревеньки, совсем не туристические места. Видимо, получилось интересно, поскольку премьеру этой выставки устроили в Пекине, в Запретном городе. И вот эти два компонента – облепиховое масло и возможность творчески работать – меня спасли. Иначе я бы загнулся. У меня было чувство, что «Сердце медведицы» – главный проект моей жизни, и если я его не закончу, то умру. Вот вам крест!
Во время вынужденной производственной паузы я слепил из отснятого материала ролик на 22 минуты, и продюсер Мати Сеппинг (Mati Sepping) показал его на Берлинском фестивале. Немецкий продюсер Манфред Дурниок и два чешских продюсера посмотрели, им понравилось, и они решили поддержать наш проект. Деньгами не участвовали, но дали потасканную камеру «Аррифлекс», кое-какую осветительную технику и звукооператора, который не очень справился с записью звука в тайге. Если бы не дикое желание сделать этот фильм, я бы умер. В тайге я пережил свой первый инфаркт.
Б. Т.: Все тот же путь. Как у Тарковского. Сложность съемок, инфаркт, перерыв…
А. И.: Перерыв длился 10 месяцев. За время простоя я пять раз переписывал сценарий. Когда мы вначале запустились, это был двойной проект: 3-часовой фильм для киноэкрана и пять серий по 56 минут для телевидения. Так мы и снимали. Но нас подвел партнер из Коми. В июне 1999-го он бросил нас. Был должен каким-то бандитам, которые его хотели убить – и он скрылся. В Таллинне после пропажи партнера решили закрыть проект. И он оставался закрытым до тех пор, пока Мати Сеппинг на Берлинском фестивале не обрел новых партнеров. Было очень сложно, и я чуть не отдал Богу душу – в свои 50 лет.
С новыми партнерами возобновили съемки в апреле 2000 года. И сразу все хорошо пошло. Как у Тарковского со «Сталкером» после возобновления. Я уже точно знал, что хочу и могу снимать. Последняя съемка была в лесах Эстонии 2 февраля 2001 года. Таежные эпизоды с участием медведя снимали в эстонских лесах, а общие планы природы – на Северном Урале.
Б. Т.: Кто играл «медведицу» – мистическую женщину, в которую по легенде превратилась убитая медведица?
А. И.: Мы с Семеном Левиным, нашим замдиректора, просмотрели все театры от Омска до Красноярска. Но ни в одном не нашли «туземную» актрису из северных народов. Старика по прозвищу Толкун я нашел в Казани. А в поисках героини позвонил в Якутский театр, и мне сообщили, что такая девушка есть, но она живет далеко от Якутска, в бухте Тикси. Однако, к вашему счастью, эта девушка сейчас в Москве, поступает в театральный институт.
Я сразу же рванул в Москву. В Театральном училище им. Щепкина набирали якутский курс. Сделал кинопробы с тремя девушками, и тут случилось прямое попадание в «десятку». Девушка по имени Ильяна Павлова была воплощением героини, именно такой, какой я ее видел. В хорошем смысле дикарка, дитя природы. И еще она владела горловым пением! У нее были такие здоровые нервы, что она могла упасть на пол и тут же заснуть. Во время съемок мы это видели. Мы снимали сцену, где Ника ее домогается. Она оттолкнула Нику, уползла под лежанку и там заснула. Реакция совершенно нечеловеческая. Медведица!
Спросите, где она сейчас? Она солистка Якутского оперного театра. И такой сногсшибательной красавицей стала! Имеет большой успех и в опере, и в драме. Мы переписываемся, она мне иногда присылает поздравления с праздниками и свои новые фотографии. Два года назад она вышла замуж.
Эпилог
А. И.: В августе 2018 года я вышел из штатного преподавательского состава BMF – Балтийской школы кино, телевидения и медиа, потому что истек мой договор. Я баллотировался на новый срок, но предпочли более молодых. Мне 71. Время летит...
Но я доволен, что мне и дальше доверили читать два курса: «Фотография и основы киноизображения» для 1-го курса и «Искусство освещения» для 2-го курса. Я не умею жить без работы и очень люблю общение с молодыми. Вижу их горящие глаза и чувствую, что могу им что-то полезное дать!
Очень приятно видеть, что вот уже лет 10 почти все лучшие фильмы в Эстонии сняты бывшими студентами этой школы, которой я дал начало в 1992 году.
И самое радостное: в сентябре 2020 наш студент Герман Голуб был награжден студенческим «Оскаром» за свой фильм «Мои дорогие трупы»!
Прошло 28 лет с моей затеи начать кинообразование в Эстонии, и сейчас BFM стала международно признанным заведением, где учатся более 400 студентов из 34 стран мира!
Я сам фильмы уже не снимаю. Но без творчества не могу. Я верен своей первой любви – фотографии и через каждые 3-4 года устраиваю новую большую фотовыставку. Одна из самых важных выставок последних лет Pääsukese jälgedes. 100 aastat hiljem (По следам Пяэзуке. 100 лет спустя). Иоханнес Пяэзуке (Johannes Pääsuke) был первым эстонским кинематографистом. Но особенно важен его вклад в визуальную историю страны. По заданию Музея эстонского народа он в 1913–1915 годах фотографировал жизнь простых людей во многих районах Эстонии и оставил более 800 качественных негативов. Ровно 100 лет спустя я повторил его путь, снимая в тех же местах. Получилась большая интересная выставка. Через год-два собираюсь опубликовать этот материал в книге.
*** Balti Filmi Meediakool (эст.) – Балтийская школа кино, телевидения и медиа.