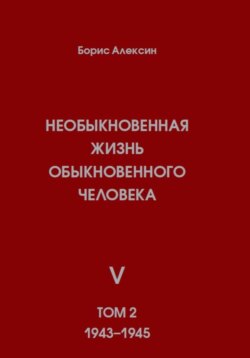Читать книгу Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 2 - Борис Яковлевич Алексин - Страница 3
Часть вторая
Глава третья
ОглавлениеИтак, 30 января 1945 года госпиталь № 27 закончил погрузку в эшелон и тронулся в путь по направлению к Польше. Очевидно, приказ о спешной отправке госпиталя был достаточно строгим, потому что комендант станции то и дело торопил и Алёшкина, и Захарова, непосредственно руководивших погрузкой. Вероятно, начальник госпиталя и его помощники столкнулись бы с неприятностями за задержку погрузки, если бы не помощь пограничников, которых по приказанию генерала Зайцева комендант выделил целую роту, и то, что с большей частью громадного вспомогательного хозяйства руководство госпиталя решило расстаться. Посоветовавшись, Борис и Захаров оставили в Раквере все деревянные стенды, ограничились пятьюдесятью немецкими складными двухъярусными кроватями, от матрасов взяли только чехлы. Оставили большую часть железных печек, занимавших всегда много места, а также самодельную жестяную посуду – тазы, вёдра и т. п. Они справедливо рассудили, что дело идёт к весне. В Эстонии, в отдельных домах находились хорошие чугунные печурки. Понадеялись, что, если понадобится, что-то подобное найдётся и в Польше. Пришлось оставить и передать пограничникам значительную часть посуды и продуктов, вывезенных Гольдбергом из Таллина.
В эшелоне было всего десять теплушек и шесть платформ, которые были заняты автомашинами. Одну теплушку пришлось отдать пяти госпитальным лошадям с запасом фуража. Они всё-таки нагнали госпиталь в Таллине и даже привезли с собой кое-какие запасы овощей. Две теплушки заняли кухня и склад продовольствия, ещё одну загрузили вещевым имуществом. Таким образом, для размещения всего личного состава госпиталя оставалось шесть теплушек: в одной разместился штаб и весь офицерский состав, то есть врачи и старшие медсёстры, в остальных – санитары, дружинницы и младшие сёстры. В штабной теплушке, кроме офицеров, находилась переводчица, которую Павловский от себя не отпускал, и Игнатьич с Джеком.
Перед переездом из Раквере предстояло освободиться и от личных трофейных вещей, появившихся почти у всех работников госпиталя. Дело в том, что, несмотря на бои, а впоследствии и на изгнание фашистов, частная торговля ни в Таллине, ни в других городках Эстонии, в том числе и Раквере, не прекращалась. У многих госпитальных работников, несмотря на ежемесячное отчисление по аттестатам, приобретение военных займов и просто пожертвований в Фонд обороны, всё-таки скопились кое-какие деньги. Ни под Ленинградом, ни около Войбокало, ни на Новгородчине и Псковщине тратить их было некуда: военторги до армейских госпиталей не добирались, других лавок и магазинов не было. Поэтому, попав в Таллин, а затем и в Раквере, в условия свободной торговли на толкучке, почти все бросились накупать самые разнообразные вещи не только для себя, но и для своих семей. Кое-что было захвачено из немецкого госпиталя, преимущественно новое столовое и постельное бельё. Все прекрасно понимали, что сейчас их семьи во многом испытывают большую нужду. Тем не менее, всё лишнее пришлось оставить в Раквере, в эшелоне для этого не было места.
Однако нет худа без добра. Пожалуй, именно потому, что было жалко оставлять купленные и благоприобретённые вещи за просто так, а покупателей на них, конечно, не нашлось бы, Захаров поехал в штаб армии, чтобы договориться о передаче имущества работникам какого-нибудь госпиталя. Вернувшись, он, к радости всех, сообщил, что получил разрешение главного командования каждому офицеру раз в месяц отправлять домой посылки с личными вещами весом до восьми килограммов. Конечно, этим немедленно воспользовались.
За несколько часов до отправления эшелона Борис упаковал купленные на барахолке пальто, старую шкуру лисицы, кое-какие вещи из белья, отрез ткани, старые платья в одну посылку, а другую заполнил столовым бельём, простынями, полотенцами и чем-то ещё. Вторую посылку ему удалось организовать за счёт Павловского, которому отправлять было некуда. То же самое сделали почти все, но всё равно значительную часть трофейного барахла пришлось оставить в Раквере.
Приехавшие за два часа до отправления медсёстры, санитары и дружинницы принялись благоустраивать теплушки для долгой дороги. Поставили в каждой из них железные печки, так как на улице было холодно. Из разговоров с комендантом станции Алёшкин узнал, что до города Белостока, который был указан как конечный пункт их маршрута, им придётся ехать не менее десяти дней, поэтому начальник распорядился, чтобы все постарались устроиться с максимальными удобствами. В их распоряжении были старые, но ещё целые, двухосные теплушки с двухъярусными нарами по обеим сторонам от двери. По нормам, установленным в царское время, такой вагон вмещал 40 человек или восемь лошадей. Почти соответствуя этой загрузке, пришлось передвигаться и госпиталю.
Кое-кто ехал не в общих вагонах, отведённых для личного состава, а вместе со своим имуществом: повара – вместе с кухнями, кладовщики – вместе со складами, аптечные работники – со своими медикаментами, ездовые – с лошадьми, а шофёры – в санитарных машинах, закреплённых на платформах. После благоустройства помещений все забрались на свои нары и ждали отправки эшелона.
Оставался час до его отхода, когда на станцию подъехала «эмка», из которой вышел начсанарм Скляров, разыскал Бориса, тепло попрощался с ним и добавил, что он вместе с командованием армии надеется, что госпиталь Алёшкина заслужит такую же добрую славу на новом фронте, какую заслужил в 8-й армии.
Наконец, после свистка кондуктора, эшелон № 1247, в котором следовал полевой двадцать седьмой госпиталь, тронулся в путь.
Комендантом эшелона, обязанным обеспечивать организацию караульной службы, Алёшкин назначил начальника канцелярии Добина, который организовал охрану эшелона во время остановок, выставляя часовых. Сам Борис считался начальником эшелона, а Захаров его заместителем. На остановках они связывались с военным комендантом станции, выясняли следующий пункт назначения и время отправления, а Павловский в это время запасался газетами, политическими новостями, которыми потом делился со своими помощницами – секретарями партийной и комсомольской ячеек и поручал им провести соответствующие беседы во всех вагонах.
Конечно, несколько раз в сутки в каждой теплушке бывал и Алёшкин, проверяя, как ведут себя его подчинённые, и организуя с ними занятия по специальным медицинским дисциплинам.
Вечерами в офицерском вагоне зажигали «гитлеровские» свечи, дававшие слабый свет. Это были трофеи, захваченных в Таллине, они представляли собой картонную чашечку диаметром 6–8 см и фитиль в пару сантиметров. Чашечка была заполнена какой-то массой, похожей на стеарин. Такой свечки хватало на 3–4 часа. Если горели сразу две, то при них можно было даже читать.
Уже на вторые сутки после отъезда из Раквере Борис и его командиры стали определять свой путь. Специальных карт у них, конечно, не было, пользовались имевшейся у Добина ученической картой Европейской части СССР, изданной ещё до войны. К сожалению, на ней Прибалтийские республики и Польша были изображены весьма схематично, без обозначения каких-либо населённых пунктов, кроме Таллина, Риги и Варшавы. Да и масштаб её был таким, что расстояние от Ленинграда до Москвы составляло всего семь сантиметров. Конечно, никакого Белостока на этой карте не обозначили, но предполагалось, что этот город находится где-то на границе с Польшей. Борис проложил от Таллина прямую линию до этой границы. Сверив длину её с масштабом карты, он определил, что им предстоит проехать не менее полутора тысяч километров, и если они будут двигаться с такой же скоростью, как в эти сутки, то дорога отнимет не менее десяти дней. Следовательно, чтобы люди не распустились от безделья, надо их занять.
Посовещавшись с Павловским и Минаевой, решили регулярно проводить политические, специальные медицинские и военные занятия. Последние – для изучения недавно полученного нового автомата. Заодно решили изучить и немецкий автомат, принесённый кем-то из раненых и оставленный в госпитале, когда раненого эвакуировали в тыл. Военное дело поручили Захарову, политзанятия проводили Павловский, Алёшкин и секретари ячеек. Минаева, Батюшков, Алёшкин, старшие операционные сёстры – Журкина и Шуйская и старшая госпитальная сестра Мертенцева отвечали за специальные медицинские занятия. Они проходили в вагонах, в которых ехал определённый персонал. Так как переходить из вагона в вагон можно было только на остановках, то продолжительность занятия зависела от времени перегона.
В процессе следования эшелона выяснилось, что далеко не все линии железной дороги, по которым он должен был идти, восстановили. Часто приходилось сворачивать от нужного направления в сторону и совершать довольно большой объезд. Кроме того, несмотря на то, что эшелон № 1247 был литерным (имел литер «А») и, следовательно, должен был пропускаться в первую очередь, его часто обгоняли эшелоны, следовавшие как внеочередные. Это были поезда, гружёные боевой техникой – танками, орудиями, боеприпасами, а также продовольствием. Они обгоняли госпиталь, пересекая его путь, и потому волей-неволей приходилось задерживаться на какой-нибудь полуразрушенной станции по нескольку часов.
Борису вспомнилось его путешествие в 1923 году на Дальний Восток, которое он начал в «пятьсот весёлом» поезде. Ехали почти так же: на остановках люди выскакивали в разные стороны от пути, прятались по канавам, за уцелевшими остатками заборов или даже просто за сугробами для отправления естественных надобностей, так же бегали умываться к железнодорожным колонкам и так же было много всяких комичных происшествий и приключений с тем или иным пассажиром, вызывавшим впоследствии насмешки. Разница была в том, что в одной из теплушек всегда топилась печь, регулярно готовилась еда, и три раза в день всех досыта кормили.
Вечера в эшелоне проводили в различных разговорах, рассказывании забавных историй, анекдотов, иногда играли в домино. Игнатьич на одной из станций добыл ещё довольно приличный столик, и в офицерском вагоне теперь по вечерам собирались вокруг него. У Добина оказалась колода карт, и в свободное время они втроём с Павловским и Алёшкиным играли в преферанс.
Из сводок стало известно, что Красная армия перешла в новое наступление (через несколько лет Борис узнал, что ускорение наступления произошло по просьбе союзников), оно успешно развивается в западном направлении.
Когда эшелон прибыл на станцию Белосток, а это случилось 15 февраля 1945 года, комендант станции сообщил, что для госпиталя получено дополнительное распоряжение: не разгружаться, а следовать далее на запад, по направлению к Варшаве.
Спустя двое суток на станции Тлущ, в 30 километрах восточнее Варшавы, от коменданта узнали, что пока регулярного движения по железной дороге далее на запад нет, и госпиталь должен разгрузиться здесь. Разгрузка заняла около восьми часов, когда её закончили, было уже совсем темно. Развёртывать палатки было невозможно, и люди стали устраиваться на ночлег между грудами сваленных около железнодорожного полотна тюками палаток и других вещей.
Игнатьича, заботившегося о своём начальнике, как нянька о ребёнке, такая ночёвка не устраивала. Хотя на улице в Тлуще было теплее, чем в Раквере, ведь эта станция находилась гораздо южнее, но в феврале ещё и здесь держался мороз. Заметив невдалеке от полуразрушенного здания станции огоньки, Игнатьич решил, что это железнодорожный посёлок, и рассчитывал, что можно устроить ночлег в каком-нибудь домике. Получив разрешение Добина, ответственного за охрану этого своеобразного лагеря, старик отправился в путь. Минут через пятнадцать он уже стучался в дверь небольшого домика, из окошка которого исходил мирный довоенный свет. А ещё спустя час здесь уже были Борис и Катя Шуйская, в сенях лежал Джек, а Игнатьич хлопотал у небольшой плитки, разогревая принесённый из кухни ужин. Когда он ходил за едой, сообщил Павловскому и Захарову, что рядом с «квартирой» Алёшкина есть ещё несколько домиков, и можно на ночь устроиться там.
Дом, найденный Игнатьичем, состоял из кухоньки и двух чистых комнат, застланных половиками. Здесь жила совсем молодая женщина и двое детей – один грудной, другой около пяти лет.
Борис, вспоминая забытые польские фразы, затеял с женщиной разговор. Та очень обрадовалась, услыхав родную речь, и хотя, конечно, Алёшкин порядочно перевирал и слова, и построение фраз, всё-таки это был её язык. Она оживилась, начала что-то быстро рассказывать, и Борис, к своей радости, убедился, что, пусть с трудом, но большую часть сказанного он понимает. Игнатьич только хлопал глазами, он не ожидал, что его начальник знает польский язык, это его сильно удивило. Впрочем, потом этому удивлялись и Павловский, и Захаров.
Хозяйка между тем рассказала Борису, а он впоследствии пересказал услышанное своим спутникам, что её мужа немцы заставили работать кочегаром на паровозе. Он за это получал паёк, на который они жили всей семьёй. Этот паёк был так мал, давали его только на работающего (хлеба-суррогата – 200 г., маргарина – 20 г., немного крупы или макарон), и, конечно, они перемёрли бы от голода, если бы не овощи с огорода, которые у них, к счастью, не отобрали. Всех мужчин из их посёлка посылали на строительные работы, они строили военные сооружения или склады. А её муж в 1939 году был ранен в ногу и сильно хромал, вот германец (так она называла фашистов) и придумал его затащить на паровоз. Эта работа всё-таки давала право на жизнь и какое-то существование.
Далее она добавила, что жителей этого посёлка, которые не могли работать (стариков и полных инвалидов), отправляли в Майданек, а оттуда возврата не было. Муж водил эшелоны в Майданек-2, так что рассказал ей о тех тысячах людей, которых увозили туда целыми семьями. Он говорил, что там была выстроена красивая станция, каждый эшелон встречали музыкой, но люди, попавшие туда, уже никогда не возвращались.
Майданек находился недалеко от Тлуща, и иногда, когда ветер дул с той стороны, он доносил смрадный запах сгоревшего мяса и костей.
– Неужели всё-таки их там всех сожгли?! – изумлялась и возмущалась молодая полька.
Конечно, всё это она рассказала не сразу, а когда получше познакомилась со своими постояльцами, убедилась в их доброжелательности и перестала опасаться. Сначала же она держалась настороженно, забилась с ребятами в угол кухни и с недоверием поглядывала на то, как Игнатьич хлопотал около плиты, разогревая принесённую еду.
Когда приезжие уселись ужинать (макароны с мясной подливкой), Борис пригласил хозяйку с детьми присоединиться к трапезе. Та сначала отказывалась, но потом под влиянием умоляющего взгляда своего старшего сына, радушного и ласкового приглашения со стороны гостей осмелилась, и они с аппетитом поели.
Игнатьич разлил в кружки, поданные хозяйкой (для себя и сына – старенькие чашечки), чай, положив каждому по большой ложке сгущённого молока. Катя извлекла из своего мешка, где она хранила дополнительный офицерский паёк, пачку печенья, и ужин превратился в настоящее пиршество, особенно для изголодавшихся поляков.
Глядя на то, с каким вожделением смотрел маленький Стась на еду, и в особенности на печенье, Борис невольно подумал о своих: «Как-то они там, в Александровке? Сыты ли, может быть, голодают хуже, чем эти поляки?»
После ужина хозяйка, немного осмелев, спросила Бориса:
– А та пани ест малжонка пану офицэру?
Борис некоторое время смущённо молчал, а затем произнёс:
– Так…
Катя, хотя и не поняла подлинной сущности вопроса хозяйки, но всё же, видимо, догадалась, о чём идет разговор, слегка покраснела и посоветовала:
– Скажи, что я тоже офицер-фельдшер, твоя помощница, можешь добавить, что временно и малжонка.
Борис не стал переводить польке всей фразы, а лишь только сказал, что пани тоже медик и работает с ним. После этого хозяйка провела их в соседнюю комнатку и сказала, что они могут спать на кровати. Игнатьич улёгся на лавке в кухне, хозяйка ушла в комнатку, где спали её дети, а Джек, как верный сторож, устроился у входа в кухню.
На следующее утро, после очень раннего завтрака, Борис подошёл к груде сваленного около железнодорожного тупика имущества. Дружинницы, санитары и младшие медсёстры уже успели понастроить себе около этой «свалки» шалаши из плащ-палаток и сейчас вылезали из этих убежищ в сырой предутренний туман.
Алёшкин разыскал Захарова и приказал немедленно обойти все ближайшие домики посёлка и устроить на жильё врачей, старших медсестёр и других офицеров. Сам он вызвал старшину Еремеева и старших сестёр и приказал на ближней поляне, окружённой высокими тополями, развернуть две палатки ДПМ: одну – для жилья всего личного состава, а другую – на всякий случай, как лечебную. Последняя палатка должна была служить и сортировкой, и перевязочно-операционной, и госпитальной на первые дни. Для этого её перегородили утеплениями на три неравные по величине части.
Борис предполагал, что надолго в этом посёлке они не останутся, не зря же их тащили в такую даль из Раквере. Как подсчитал Добин, они проехали более полутора тысяч километров. Он, между прочим, внимательно следил за всеми более или менее крупными станциями, которые они проезжали, и в результате своих наблюдений представил Алёшкину маршрут, который они проделали за 17 суток: Раквере – Тапа – Тарту – Валга (это в Эстонии) – Валмиера – Цесис – Даугавпилс (Латвия) – Вильнюс (Литва) – Гродно (Белоруссия) – Белосток – Тлущ (Польша). Путь, как видим, немаленький, а когда они сравнили его с известной линией фронта, то увидели, что он пролегал вдоль фронта с севера на юго-запад. И по их предположениям, госпиталь находился от передовой километрах в сорока. Это подтверждалось иногда раздававшимся громыханием орудийных выстрелов.
Тлущ и его окрестности должны были быть заполнены множеством тыловых фронтовых учреждений. На самом же деле здесь царило полное спокойствие. Это удивляло и Алёшкина, и его друзей.
Прежде, чем описывать дальнейший путь госпиталя, мы считаем нужным рассказать ещё об одном случае, который произвёл на всех, кто оказался его свидетелем, самое ужасное впечатление.
На следующий день после прибытия в Тлущ госпиталя № 27, утром в дом, где квартировал Алёшкин, вошёл хромающий, небритый, грязный человек. Хозяйка испуганно бросилась к нему. Что-то быстро ему сказала, а затем повернулась к Борису, сидевшему за столом, и сообщила, что это её муж, которого не было дома в последние дни. Сказав это, она смущённо замолчала.
Вошедший остановился у двери и по-военному отрапортовал:
– Панове офицеры, кочегар паровоза ЭНС–1382 Щербинский, до услуг панов!
Борис усмехнулся:
– Цо пан есте жолнеж? Солдат?
– Не, пан майор, я вольный, маю инвалидность. Но мне заставляли работать, а потом сказали, что русские всех, работавших у немцев, будут расстреливать. Я, да и другие тоже, убежали в лес. Сидели там неделю, а потом стали выходить. Никто нас не трогал и наши семьи так же. Вот я и пришёл.
– Что же вы думаете делать?
– То же самое, буду кочегаром работать. Теперь поезд ходит Тлущ – Люблин. Машинист сказал, чтобы сегодня приходил, вечером поедем.
Разумеется, весь этот разговор вёлся на польском языке. Борис угостил кочегара папиросой и стал расспрашивать про жизнь и службу у немцев. Юрек, так звали мужа хозяйки, охотно рассказывал, что машинист, помощник и он – поляки, но немцы им не доверяли и всегда сажали на паровоз автоматчика. Не одни раз кочегару приходилось вместе со всей бригадой возить эшелоны с евреями и другими жителями из Варшавы, Люблина или других мест в Майданек-2 – так называлась станция на ответвлении от главной линии железной дороги, соединявшей Тлущ и Люблин. Она находилась на расстоянии около 15 километров от Тлуща.
– Тогда, – говорил он, – на паровоз сажали двух автоматчиков, и бригаде при подходе к станции строго запрещалось смотреть в окна паровозной будки на выгрузку прибывших, а также и на то место, куда их привезли. После выгрузки эшелон задним ходом выходил на главную линию и уже продолжал следовать в обратном направлении. Конечно, – рассказывал поляк, –мы умудрялись через различные щели в паровозной будке незаметно для своих сторожей рассматривать Майданек-2 и успевали разглядеть и внешний вид красиво оформленной станции, и перрон, по вечерам ярко освещённый, видели за этим зданием ряды бараков, а немного в стороне – высокую трубу, из которой временами шёл густой чёрный дым. Каждый такой эшелон на станции встречал оркестр, исполнявший самую жизнерадостную и весёлую музыку. Уже перед самым уходом германца нам удалось узнать, что все, кого мы привозили, предназначались на смерть. Под трубой находились печи, в которых сжигались трупы. Мы с бригадой, уже после прихода Красной армии, как-то раз были там, и с этих пор я не могу видеть фашистских солдат. Когда ваши красноармейцы вели колонны пленных фрицев, таких покорных и послушных любой команде, мне хотелось броситься в их толпу и своими руками душить всех подряд. Как видите, я калека, – Юрек показал на деревяшку, привязанную к его правой ноге. – Ногу я потерял ещё в 1939 году, из-за неё меня и не отправили на работу в Германию или в какой-нибудь лагерь. По той же причине не брали меня и наши партизаны, которые, хотя и недолго, но здесь тоже были, – закончил свой рассказ Щербинский.
Выслушав кочегара, Борис загорелся желанием своими глазами увидеть этот Майданек-2. Впоследствии он узнал, что так назывался один из филиалов огромного лагеря, в котором была уничтожена часть евреев, вывезенных фашистами из Польши и других стран. Всего в Майданеке фашисты уничтожили миллион пятьсот тысяч мирных жителей, главным образом стариков, женщин и детей. Об этом Борис прочитал спустя несколько лет.
После обеда, зайдя к Павловскому, поселившемуся в соседнем, ещё более бедном, домишке, Алёшкин рассказал ему о своём намерении, тот тоже вдохновился этой идеей, и через час маленький санитарный автобус, вмещавший 10–12 человек, был забит до отказа офицерами госпиталя. Из женщин взяли только одну Минаеву, остальных решили оградить от впечатлений этой невесёлой экскурсии. В лагере из врачей-мужчин остался один доктор Батюшков, который на время отсутствия Алёшкина заменял его.
Полтора десятка километров по хорошей шоссейной дороге преодолели за полчаса, и уже в три часа дня стояли возле ворот страшного лагеря смерти. До сих пор все они читали в газетах и сводках Информбюро о зверствах, чинимых фашистами, видели разрушенные города и сёла, виселицы с трупами, которые ещё не успели снять наступавшие форсированным маршем части Красной армии, слыхали, как в Белоруссии живыми сжигали население целых деревень. Но ещё ни разу до этого не бывали в таком ужасном месте, как этот сравнительно небольшой лагерь смерти.
Отступавшие, а точнее, бежавшие в панике фашисты команды СС, охранники лагеря не успели уничтожить последних заключённых, бараки и другие следы своих зверств. К тому времени, когда туда приехала «экскурсия» из госпиталя № 27, в лагере уже никого не было, но и порядок навести там ещё не успели.
У ворот их остановил часовой. По просьбе Алёшкина он вызвал караульного начальника, сержанта, и тот рассказал, что их части, находящейся на переформировании и расположенной в видневшихся невдалеке казармах, приказано охранять лагерь и никого из посторонних не впускать. Несколько дней назад приезжала комиссия – какой-то генерал в сопровождении офицеров, они всё осмотрели, приказали ничего не трогать и сказали, что пришлют людей, которые всё запишут, сфотографируют, а потом организуют уборку территории.
На просьбу Бориса пропустить их в лагерь, сержант ответил, что на это надо получить разрешение командира части, попросил подождать, а сам направился к ближайшей казарме. Вскоре он вернулся вместе со старшим лейтенантом, который заявил, что, имеющееся распоряжение о запрете входа в лагерь посторонних вероятно адресовано гражданским лицам, и прежде всего полякам. Он не видел причин не впускать приехавших офицеров-врачей, но просил ничего не трогать, не перекладывать с места на место. На вопрос Бориса, а где же сама станция Майданек-2, лейтенант показал на видневшиеся невдалеке остатки обгоревшего здания.
После этого приехавшие вошли в ворота, за которыми стояла, почти не тронутая огнём, добрая половина широких приземистых бараков. Пройдя немного вперёд, они увидели огромные печи с большими железными дверцами и подведённые к ним рельсы с вагонетками. Всем было понятно, что на этих вагонетках трупы замученных подвозились к топкам для сожжения. Около печей валялась груда обгоревших костей, которую фашисты, очевидно, не успели спрятать.
Группа обратила внимание на остатки взорванного санпропускника, находившегося недалеко от печи.
– Зачем фашистам было обмывать трупы перед сожжением? – удивлялась Минаева.
На этот вопрос никто не мог ответить. И лишь через несколько месяцев они узнали, что то, что они приняли за санпропускник, на самом деле было газовой камерой, служившей местом умерщвления несчастных.
Ещё одна ужасная подробность вызвала у них негодование, страх и отвращение к немцам, которые позволяли себе так издеваться над людьми, пусть даже и врагами, как они считали. В нескольких десятках метров от здания, остатки которого они приняли за санпропускник, стоял большой добротный кирпичный сарай, его фашисты тоже не успели ни поджечь, ни взорвать. Большие двери его были распахнуты настежь. Борис, Павловский, а за ними и остальные, вошли внутрь, и то, что предстало перед ними, вызвало возглас гнева и возмущения.
Они увидели большие длинные стеллажи, на которых лежали, связанные в аккуратные тюки, длинные женские волосы, тщательно рассортированные по цвету и длине. На других стеллажах находились уже уложенные в большие картонные коробки предметы женского туалета, взрослая и детская обувь, а на противоположной стороне – такие же коробки с одеждой. На каждой коробке имелась этикетка с надписью о количестве содержимого. Посредине сарая на длинном деревянном столе валялась куча неразобранного белья и груды женских волос, предназначенных к сортировке. В одном из углов стояли коробки с детскими игрушками и различными дешёвыми женскими украшениями. Там же находился ящик с портсигарами, мундштуками и трубками.
Окинув всё быстрым взглядом, группа поспешила выйти из сарая. Некоторое время все молчали. Эти люди, видевшие огромное количество самых разнообразных, самых страшных ран человеческого тела, вызывавших огромные страдания, привыкшие к смерти десятков людей каждый день, здесь, на складе прониклись таким ужасом и омерзением, что желающих продолжать дальнейший осмотр лагеря не нашлось. Они поспешили в автобус и тронулись в обратный путь.
Часов в пять вечера группа вернулась на станцию Тлущ. На расспросы об увиденном отвечать не хотелось, так сильно они были поражены. Лишь через некоторое время Павловский, получив газетные материалы о лагерях смерти, сделал обстоятельный доклад о преступлениях фашистов против человечества, присовокупив к тому, что было написано, и то, чему стали свидетелями все ездившие с ним в Майданек-2.
***
Между тем на станции Тлущ, по приказанию Алёшкина, две палатки были уже поставлены, полы устланы брезентами. В одной суетились все операционные сёстры, развёртывая соответствующее медицинское оборудование, рядом под руководством Мертенцевой расставлялись носилки и готовились к приёму раненых. Во вторую палатку медперсонал перенёс личное имущество. Установили железные печки, предусмотрительно вытащенные из теплушек при выгрузке, в них уже горели где-то раздобытые санитарами дрова. Под небольшим брезентовым навесом устроили кухню. Ликвидировали все шалаши из плащ-палаток и аккуратно сложили остальное имущество госпиталя.
В таком виде можно было простоять на этой крошечной станции довольно длительное время и, в случае необходимости, начать свою медицинскую работу. Конечно, по сравнению с предыдущими размещениями, когда госпиталь прятался в лесах, тщательно маскируясь от противника и от наземной разведки, настоящее положение казалось никуда не годным. Но, видимо, обстановка изменилась. Во-первых, в воздухе не было слышно ни одного вражеского самолёта. Правда, этому не благоприятствовала и погода: небо было затянуто свинцово-серыми тучами, из которых временами шёл дождик, иногда со снегом. Во-вторых, отступавшие немцы, видимо, находились в большой панике, и если в тылу наших войск и оказывалась вражеская вооружённая группа, то, встретив какую-нибудь нашу тыловую часть, торопливо сдавалась в плен, лишь в отдельных случаях нападая на одиночные подводы или машины, да и то в поисках продовольствия. Учитывая эту вероятность, Добин, по распоряжению Алёшкина, всё-таки организовал из санитаров и шофёров круглосуточную охрану территории, занимаемой имуществом госпиталя.
Так прошло два дня, и Борис уже начинал подумывать о поездке на одной из машин по направлению к Варшаве – самому или поручив Захарову, чтобы разыскать там управление 2-го Белорусского фронта, в распоряжение которого следовал госпиталь, и получить какие-либо указания. Сразу же по прибытии в Тлущ Алёшкин через военного коменданта станции послал в штаб фронта телеграмму и удивлялся, почему до сих пор не было ответа.
На третий день, утром, когда Захаров в сопровождении двух вооружённых санитаров стал готовиться к не совсем обычной разведке, группа грузовых машин (как оказалось, авторота из штаба фронта) подошла к станции. Её командир – младший лейтенант привёз на имя Бориса Алёшкина приказ НСК фронта генерал-майора медслужбы Жукова о срочной передислокации госпиталя в город Бромберг (Быдгощ) для получения дальнейших распоряжений. В приказе говорилось, что для перевозки имущества и личного состава госпиталю следует использовать собственный транспорт и присланную автороту, рекомендовалось всё лишнее оставить на станции Тлущ, сдав по акту коменданту станции. Между прочим, под этим «лишним» подразумевались стенды, деревянные конструкции, разборные дома, самодельная утварь и т. п.
Получив приказ, Борис собрал ближайших помощников – Захарова, Павловского и Минаеву – и приказал сразу же после завтрака приступить к погрузке. По предварительным расчётам, её можно было закончить в течение полутора-двух часов. Следует помнить, что большая часть имущества, находившаяся на машинах госпиталя во время переезда по железной дороге, не разгружалась, поэтому погрузка и не отняла много времени.
***
22 марта 1945 года в 12 часов дня колонна, состоящая из пятнадцати автомашин, уже следовала по дороге в Бромберг (здесь и в дальнейшем мы будем употреблять те названия городов в Польше, какими пользовались в то время). У прибывшего лейтенанта имелась карта, правда, немецкая, но и по ней можно было легко проследить, что госпиталю предстояло проделать путь в 200–240 километров. И хотя большая часть пути проходила по так называемым государственным дорогам Германии (как известно, фашисты считали Польшу своей провинцией), а они были хорошо асфальтированы и почти не разрушены, всё-таки иногда обледенение асфальта, а местами ещё не засыпанные воронки от бомб, заставляли колонну передвигаться сравнительно медленно.
Госпиталь около девяти часов вечера прибыл в Бромберг. Это был большой город. Хотя он имел довольно значительные разрушения, но совсем не походил на впечатляющие развалины, которые встречались ранее в Новгороде, Пскове, а сейчас и в Варшаве, где, по существу, не уцелело ни одного дома.
Младший лейтенант подвёл колонну к какому-то довольно мрачному зданию с готическими окнами, окружённому высокой железной вычурной оградой. Подойдя к Борису, лейтенант, следовавший в голове колонны на одной из своих машин, сказал:
– Ну вот, товарищ майор, прибыли. В этом здании –сануправление фронта. Пройдите туда и выясните, где будем разгружаться.
Оставив главным Захарова, Борис с Павловским прошли в ворота. На крыльце их остановил пожилой солдат – часовой. Подсвечивая себе фонариком, он посмотрел удостоверения личности Алёшкина и Павловского и впустил их в здание.