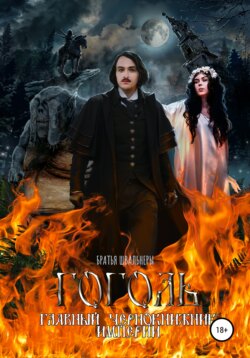Читать книгу Гоголь. Главный чернокнижник империи - Братья Швальнеры - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава первая. Болезнь
ОглавлениеВесна 1845 года, Малороссия
Поезд двигался медленно и, казалось, чем ближе подъезжал он к Киеву, тем более тихим становилось движение состава. Мерный стук колес располагал ко сну, но болезненное состояние Николая Васильевича не позволяло ему забыться в объятиях Морфея, да и периодические толчки на горках нарушали стабильность движения, вагоны раскачивались, сцепка дергалась, и сон сходил, но буквально ненадолго – очень скоро слабое, едва различимое движение снова наводило сон на истощенных ранней весной пассажиров. Пришла она в этом году и впрямь слишком рано, как будто без предупреждения, роль которого всегда исполнял март – он и прошел как-то быстро, и встречен был Николаем Васильевичем в Иерусалиме, где жара стоит круглый год, и потому знаменитое правило «марток – надевай сорок порток» было здесь неактуально. Резкий переход от зимы к теплому времени года способствовал перепаду температур в ослабленном зимними болезнями организме Николая Васильевича, что не могло положительно сказаться на его здоровье – в Палестине на него напала горячка, очень скоро превратившаяся в малярию по причине несвоевременного лечения. Оттого, возвращаясь сейчас в малороссийское тепло, что царило не только в имении его матери, но и за его обширными пределами, не мог он ощутить его в полной мере и насладиться, как это бывало прежде, в дни безмятежной юности его. Болезнь прогрессировала, а к лечению больной относился, что называется, спустя рукава, потому симптомы ее проявлялись все более. Снаружи тело его обдавало холодом, морозило, а изнутри жарило так, что сил не было. Николай Васильевич верил еще в глубине души, что родные места с их благоприятным климатом будут способствовать его выздоровлению, но вообще в последние дни думал о своем состоянии все меньше и меньше – апатия завладела им целиком еще там, в Иерусалиме. Быть может, болезнь таким способом проявляла себя, а может, просто он устал от своих мытарств и частого изменения жизненных обстоятельств, но напавшая на него меланхолия притупила как желание скорейшего выздоровления, так и желание жить вообще – во всяком случае, так он иногда думал. Мысли эти чаще стали появляться в более, чем некомфортном поезде, который вообще лишал душевного настроя и возможности сосредоточиться на чем-либо созидательном. Если бы не настояние слуги Семена и упрямые письма матери, беспокоящейся о состоянии здоровья сына, сил бы он не наскреб на эту поездку, которая даже после трехдневного путешествия по железной дороге была еще в середине своей.
Однако, не все было так плохо. Три дня мучительных разъездов все же подошли к концу – и вскоре за окнами замелькали знакомые киевские пейзажи, которые немного оживили утомленный и болезненный взор Николая Васильевича, и ему на мгновение даже показалось, что болезнь отступает и ему становится как будто легче. Прошло полчаса – и пассажир сошел на благодатную малороссийскую землю в главном городе этой удивительной земли. У станционного смотрителя сразу взяты были обывательские лошади, на которых и пришлось следовать ему весь путь до Полтавы. Минутное облегчение было лишь кажущимся – ибо следование даже не по дорогам, а по лесистым просекам в маленькой душной карете нездоровому человеку могло показаться еще более мучительным. Однако, поездка по железной дороге так утомила его, что, едва только сев в карету, которая первую часть пути следовала по мощеным киевским мостовым, ехать по которым в любое время года – одно удовольствие, он сразу заснул и проспал так до самого вечера, когда до Полтавы оставалось несколько десятков верст. Уставшему Николаю Васильевичу хотелось бы, чтобы остаток пути они проделали без остановок, и он скорее смог бы по-человечески отдохнуть в родных пенатах, но еще более уставший слуга настоял на том, чтобы ночь провести на постоялом дворе вблизи имения его матери. Сон несколько облегчил состояние больного, он стал добр и уступчив и потому согласился.
Сойдя с каретных подмостков, он вдохнул полной грудью тот чудесный чистый воздух, коего не было ни в заснеженном Петербурге, когда покидал его, ни в жарком и пыльном песчаном Иерусалиме. И впрямь, права была мать, когда говорила, что здесь болезнь наконец оставит его. Николай Васильевич улыбнулся, глядя на бегающих взад-вперед с его вещами слуг, которые размещали чемоданы в выделенной писателю комнате, на горящие костры и факелы, освещавшие темный двор так, что светло было, как днем, и вдыхая наряду со свежим воздухом Полтавщины запах жареных поросят и только что выгнанной горилки.
Скоро они с Семеном сидели уже за столом в шинке на постоялом дворе. Изголодавшийся с дороги и порядком уставший Семен ел от пуза и так же обильно пил, чего нельзя было сказать о Николае Васильевиче, который ел мало, так как опасался желудочного расстройства. Внутренности у него были и без того слабые, а тут еще эта болезнь совсем некстати. Хинин, который писатель был вынужден принимать и который, казалось, совсем не помогал от болезни, другого лекарства от которой просто не было выдумано, расстраивал кишечник, и переедание могло быть для писателя чревато. Однако, немного горилки он все же себе позволил. Обычно она действовала на него угнетающе и плохо, от нее сразу клонило в сон и тошнило, а сегодня едва отходящий от болезни Николай Васильевич сразу захмелел и даже повеселел после возлияния.
За соседним столом сидел бурсак, отправлявшийся домой на вакансии, в окружении каких-то казаков, тоже, по всей видимости, из дворни здешнего боярства. Они уже были порядком пьяны – ученики церковных школ, с малолетства воспитуемые только березовыми палками, при малейшей возможности напивались чернее государевой шляпы, чем немало расстроили сейчас взгляд набожного писателя. Меж тем, в этом был закон жизни, который великий Александр Иванович Герцен сформулировал как «правило пружины» – простой русский человек, измученный работой крестьянин или батрак, всю неделю ломавший да гнувший спину на хозяина, под конец седмицы распрямляется так, как распрямляется железная пружина, на которую сначала долго-долго давят, а после отпускают пресс. Выгибаясь в обратную сторону, бьет эта пружина всех, кого ни попадя – как может запросто ударить любого зеваку увлекшийся горилкой бурсак, – потому что знает, что уже утром снова терпеть ей этот гнет. Воспоминание о словах знаменитого философа заставило Николая Васильевича по-другому, с пониманием и даже некоторым сожалением посмотреть на пьющего, которого его товарищи все пытали:
–А я хочу знать, чему вас в бурсе учат?!4
Писатель слушал их пьяную речь и понимал, что верно его предположение, сделанное по внешнему виду облаченного в жупан и стриженого на манер древни французских рыцарей школяра. Тот, хоть и был порядочно пьян, решил продемонстрировать свои умения – поставив полную чарку горилки на нос, наклонив голову назад на столько, на сколько хватало только возможностей, он вдруг резко выпрямился, чарка слетела с его лица, но была поймана его не менее проворными губами – и вмиг осушена да так, что, как говорил поэт, по усам текло, да в рот не попало.
Заулюлюкали, оценили его товарищи такое мастерство, и, несмотря на старый возраст свой, наперебой стали высказывать пожелания об устройстве собственной судьбы и разума:
–Я тоже пойду в бурсу!
–И я!
–И я – кто ж еще такому обучит, как не пан ректор?!
Громко смеялись, и не слышал за их смехом Николай Васильевич речи своего, обычно не умолкавшего, молодого слуги, а, когда повернул голову направо от себя, где сидел Семен, то увидел его спящего. Потряс его за рукав для приличия – не откликается, устал сильно. Николай Васильевич велел отнести слугу в людскую, а сам отправился к себе.
Сон не шел, он решил сотворить молитву, в которой вознести хвалу Господу. Болезнь, что настигла его в святом месте, не ослабила его веры, не сбила с пути истинного, на который он, как ему казалось, только-только начинает вставать после многолетних поисков себя. И никогда, ни в одном своем обращении к Господу, не просил он о своем здоровье, полагая его сугубо божьим промыслом и вообще недостойным каких-либо просьб.
«Конечно, католикам дается больше воли, в том числе в быту и обиходе, нежели, чем православным, – размышлял Николай Васильевич, стоя на коленях пред иконой в тускло освещенной, темной комнатке, выделенной ему хозяйкой постоялого двора для ночевки. – Но все равно вера их не вполне такая, какой задумывал истинное служение Господь наш. Более походит она на театральную игру, в которой у каждого – своя роль, свой удел, который напрямую зависит от социального твоего положения и кармана. А будет удел иным – и слова иными станут, и роль изменится. Не искренне, не живо. Иное дело вера наша, православная, которая мне, хоть по праву рождения и не положена, а все же исповедуется мной. Ну какой я Яновский? Я Гоголь, я русский человек, который и состоялся, и жизнь прожил, и прозрел в России, и не могу и не хочу от нее отрываться. Хоть и люблю Малороссию, а все же саму великую родину ни на нее, ни на что другое не променяю…»
Он осенял себя крестным знамением снова и снова, бился лбом в грязный пол постоялого двора, пока не начало светать, не утомился он окончательно и заснул, едва сумев дойти до кровати. Таким образом, планы Семена выехать пораньше, с петухами, были обречены – барин спал до самого обеда, а будить его, больного и все еще не собравшегося с силами, слуга считал невозможным. Воспользовавшись временем, слуга опохмелился, заложил карету, уложил в нее вещи барина и стал дожидаться его пробуждения под большой липой, что росла в самом центре двора, где обдувал его свежий весенний ветер, выгоняя из головы усталость и тяжелые мысли и наполняя ее мыслями светлыми.
Ах, и до чего же чудесная и славная эта земля – Малороссия! В ту пору, когда природа сбрасывает с себя оковы зимы и зацветает вся, благоухает торжеством весны и обновления всего живого, что ходит по земле, растет на ней, питается ее соками, любому, кто приедет сюда, покажется на время, что он попал в рай еще при жизни. Не увидеть здесь однообразия черноземной Руси, ее похожих друг на друга степных равнин, раскинувшихся на сотни верст, ее одинаковых деревьев, ее узких и извилистых рек. Каждая верста, что проедешь ты, пока следуешь по Малороссии, не похожа на другую – и каждая по-своему прекрасна. Словно в волшебной стране оказался Николай Васильевич, одно созерцание которой изгоняло мысли о болезни, и сама она отступала не по дням, а по часам – вот уж правду говорят, что вся болезнь только и сосредоточена, что в головах наших, и только оттуда руководит нашим организмом и сознанием, делая их словно бы зависимыми от нее. А коснись излечения интеллектуального, мысленного – как сразу болезнь наружняя отступит, не оставив о себе скверного напоминания, пока схожие пейзажи вновь не внушат его человеку, единожды заболевшему в каких-нибудь недобрых краях.
–Николенька, наконец-то! Как же заждалась…
Мать Николая Васильевича, Мария Яновна, была женщиной кроткого нрава – во многом, наверное, потому, что покойный отец его таковым не отличался. Он был мужчина резкий, властный, сложно шедший на уступки – то говорили в нем его корни польского происхождения, да и дворянская кровь не позволяла быть добрым и степенным, хоть и располагали к этому дивные по красоте и доброте своей полтавские места. Но располагали они только Николая Васильевича, который с детства не пользовался особым отцовским расположением по причине мягкости характера и порожденным ею сходством с матерью. Потому, наверное, мальчиком еще он оставил родную свою Малороссию и уехал сначала учиться, а потом и устраивать судьбу в Петербурге, не отыскав средств и времени посетить прощание со своим знатным родителем. Разъединенный с корнями, с пупом своим, здесь, в этой земле захороненным, он стал подвержен мытарствам и поискам себя – и до сравнительно недавнего времени не мог это собственное «я» отыскать. За что бы он ни брался, все казалось ему чуждым, ни к чему не лежали ни руки, ни душа, и потому он часто отчаивался и оставлял свои занятия. Приехав же сюда после долгих лет странствий, он словно телом начал понимать, что только тут обретает он гармонию.
Горячо обняв маменьку, он едва не расплакался.
–Так счастлив я, так рад этому возвращению…
–А сколько я тебя уговаривала и писала то же самое?! Нет ведь, упрямство Яновских, как видно, покоя не давало.
–Все думал найду себя там…
–Ну ладно, проходи скорее в дом, там поговорим.
Когда они сидели за столом за наскоро сооруженным обедом, а Семен вовсю беседовал со своим давним приятелем – здешним молодым кучером Вакулой, – Мария Яновна стала расспрашивать сына о поездке, которая наделала столько шуму и была, как видно, для него весьма значимым событием.
–И как же ты съездил? Что нового открыл для себя в столь священном для всех христиан месте? Ну, разумеется, кроме болезни, – пошутила Мария Яновна.
–Многое. Как мне сейчас кажется, я наконец нашел, что искал.
–В 36 лет? Не поздновато ли?
–Ну что ты, – рассмеялся Николай. – Иные и всю жизнь не находят. А иным для этого требуется куда больше времени. Вспомни знаменитых старцев, отшельников.
–Если уж заговорил о нем, стало быть..?
–Да. Я решил если не посвятить всю жизнь свою услужению Господу, то, во всяком случае, значительно пересмотреть свои взгляды и стараться быть более богопослушным.
–Это болезнь на тебя так повлияла? Тамошний климат?
–Думается, что нет.
–Но ведь ты же писатель, тебе сложно будет с твоим пониманием этого мира, с твоим злым и замечательным во всех отношениях пером, вдруг взять и отправиться в путь, благословенный Господом. Ты же понимаешь, что он налагает множество запретов и ограничений? Как с этим быть?
–Думаю, что трудности только приумножают желание истинно верующего следовать прямым путем. Конечно, их придется преодолевать, но как без этого?
–И все-таки я не понимаю, как простое созерцание мощей может произвести столько сильное впечатление на писателя – человека, видевшего и понимающего многое?..
–Дело здесь не в простом созерцании. Вот, – Николай достал из-за пазухи носовой платок, развернул его и продемонстрировал Марии Яновне маленький ржавый предмет, похожий на наконечник от копья.
–Что это?
–Говорят, именно этим копьем был заколот Христос. Легионер Гай Кассий Лонгин заколол его, чтобы облегчить его муки на кресте…
Мать писателя побелела. Ей явно сделалось дурно.
–Что с тобой?
–Нет, ничего. Только, мне кажется, будто писали, что прежде это копье уж находили какие-то францисканские монахи или средневековые рыцари. Я читала об этом еще в своей юности в переводных романах.
–Я говорил со многими знатоками, они утверждают, что отысканное прежде копье есть выдумка. Вот – настоящее.
–И ты так легко поверил?
–В столь святых местах верой пронизано все. Нет там той лжи, что нам свойственна и нами исповедуется почище любой религии. Да и потом проверять не было времени. Найдя это недалеко от Гроба Господня, я вскорости заболел и встречи мои с посторонними людьми пришлось ограничить. Так что чем богат, тем и рад.
–Думаю, тебе надо поделиться этим с дядюшкой.
–С Иваном Афанасьевичем? – родной брат покойного отца писателя жил в нескольких верстах от их имения. Всю жизнь свою он славился еще большей, чем у Василия Афанасьевича, жесткостью и своенравностью, а потому еще с детства не вызывал у Николая сколько-нибудь теплых чувств. Меж тем, приехать спустя столько лет к матери и не повидать родную кровь, единственного живущего брата собственного отца, было бы непочтительно по отношению к нему.
–Понимаю, что ты ехать сразу не захочешь, но должна тебя немного порадовать. Помнишь ли ты его дочь, Александру?
–Смутно, еще ребенком.
–Она выросла и теперь совершенная невеста…
–Мама, ведь она – моя кузина!
–Ну и что? Я вовсе не имела в виду ничего предосудительного. Просто мне кажется, что вы нашли бы с нею общий язык. Отправимся к нему завтра утром, а пока отдохни. Ты устал с дороги, да и слаб еще.
Николай Васильевич последовал маминому совету, а уже утром, скоро заложив коляску, отправились они в имение Ивана Яновского.
О характере его можно было судить по одной только детали – когда они приехали, он не сразу вышел их встречать. Отправившаяся в разведку Мария Яновна вскоре вернулась и сообщила, что он немного занят, ибо порет провинившегося в чем-то крестьянина, но велел им проходить и обещал скоро предстать пред их ясные очи. Так и случилось – вскоре он появился в сопровождении своей изумительно красивой дочери Александры Ивановны.
Николай посмотрел на сестру и обомлел. В его жизни был опыт любовного увлечения, но мелкий, практически ничтожный, и который больно ранил его невозможностью продолжения отношений с объектом своего поклонения- она была замужем, и любое случайное упоминание ее имени могло нанести ей вред, чего бы Николай желал в меньшей степени. Это молчание стало одной из причин его мытарств и, в итоге, обращения к Богу, но разве мог он смотреть на сестру с теми же чувствами, какие ее тезка в свое время возбудила в его душе? Ведь она – сестра ему? Но можно ли было смотреть на нее всего лишь как на женщину и дальнюю родственницу? Любой, кто встретил бы ее, и кто был бы при этом в здравом уме, ответил – никогда.
Казалось, на этой удивительной плодородной земле и не родятся другие. Белая кожа Александры в сочетании с иссиня-черными бровями и правильностью и умеренностью всех пропорций, которые от природы должны быть присущи женщине, делали из нее ожившую Галатею, совершенную и оттого прекрасную во всех отношениях. Видимые на прекрасном челе черты украинки сочетались каким-то магическим образом с кротостью ее, горящий огнем взгляд, присущий титкам, гармонировал с ладной косою и милой улыбкою, от которых нельзя было отвести глаз. Пушкин сказал про таких: «Они сошлись – волна и камень, стихи и проза, лед и пламень…» Никого прекраснее нее не видал Николай за всю жизнь и только, ловя себя на мыслях этих, отмечал, что он, пожалуй, слишком влюбился после длительного отсутствия в родных местах во все родное, что было в них, и что сосредотачивалось мистическим образом в этой совершенно прекрасной, без изъян, молодой женщине.
–Однако, – только и смог произнести он, припадая к руке кузины. – Определенно, или я слишком долго пробыл в отдалении от сих славных мест, и вы успели так похорошеть, или впрямь детство не дает точного представления о женской красоте, как не дает представления о предательстве, лжи или убийстве как о неотъемлемых чертах нашего мира.
Она в ответ ему рассмеялась:
–Определенно, ты или слишком долго прожил вдали отсюда, или слишком начитался мудреных петербургских книг, что не желаешь называть на «ты» сестры своей, с которой в детстве играл под вон той липою в батином саду.
–Прости, это я от смущения, – зарделся Гоголь. – Не каждый день такую красу встретишь. Очевидно, от женихов отбоя нет.
–Эээ, – протянул Иван Яновский. – Я тебе после расскажу, какие тут женихи. Нам таких даром не надо. Скажи-ка лучше, как с этим делом в Петербурге обстоит?
–С женихами-то? Думается, сносно, только и там достойных такой красоты лично я почти не знаю. Разве Пушкин – да и тот почил в бозе, царствие ему небесное.
–Полно, господа, – отмахнулась Александра. – Как забавно это слушать, что вы без меня меня женили. Рано мне об этом еще думать, да и мысли такие не посещают меня.
–О чем же думает столь светлая и красивая голова? – поинтересовался Николай.
–Все больше о петербургской жизни. Батя прав, здесь часы замирают – и не только те, что на стене висят, но и что внутри каждого человека отсчитывают его минуты, ускоряя обветшание всякого, кто ходит по этой грешной земле.
–Однако, думаю, что и там часы Господни не сильно отличаются от здешних. Разве замедлит их ход ничтожный по природе своей человек?
–Да, но одно дело медленно тлеть в болоте и другое – ярко гореть на центральной улице прекрасного города, освещая путь всем и вся, – мечтательно отвечала Александра, хоть и обвинившая Николая в любви к чтению, но и сама не уступавшая ему в этом.
–Здесь дело не в месте, а в человеке. Еще русская пословица об этом говорит. Поверь мне, там тоже тлеют. А вот если ярко горишь, если свет твой быстр и ослепителен, то и из самого дальнего лесного уголка можно будет увидеть тебя и в Париже.
–Мудрено рассуждаете, господа читатели, – скептически процедил Иван. – Такое общество явно не для нас, а, Мария? Так что мы пойдем сыграем в вист, а вы присоединяйтесь, если надумаете. Только чур – не умничать! Это уж для себя оставьте.
–Не будем, если только перестанете сечь крестьян или хотя бы объясните причину такого поведения, – хлестко отвечал Гоголь.
–Еще чего?! Мало я их секу, больше надо! Наш мужик только такое понимает, только кнут! Чем больше, тем лучше работает. А как только немного расповадишь, немного отпустишь поводья – гляди и на шею залезет, и ноги свесит, и повезешь. А не повезешь – так он тебе таких батогов всыпет, что мало не покажется! И между прочим, будет прав, ибо по заслугам и честь.
–Вот тебе раз! А как же христианское человеколюбие?
–Так то ж к людям. А это так, скот, – отмахнулся Яновский.
–Ну полно тебе, Иван Афанасьевич, – потянула его за рукав Мария Яновна. – Мы с тобой помнится, не доиграли партию, а молодым людям и впрямь есть чем поинтереснее заняться, чем твои садистские нотации слушать.
Они ушли, а молодые – хотя Николай Васильевич и был старше Саши почти на 10 лет, а все же в ее компании почувствовал себя моложе и практически совсем здоровым – остались в саду Яновских. Воздух крайне положительно влиял на шаткое здоровье писателя, и потому он предпочитал так проводить больше времени, чем в закрытом пространстве, которые и без того с самого Иерусалима его немало утомили.
–Признаться, я не узнал тебя при встрече.
–Что ж в этом удивительного? – улыбаясь, спрашивала Александра. – Столько лет прошло…
–Расскажи о себе.
–А что рассказывать? И без слов все видно, кругом и всюду одна тоска. Так и жизнь, глядишь, пройдет безвозвратно. Лучше ты расскажи о Петербурге, – сказала она мечтательно. Слово «Петербург» произнесла она с таким особым придыханием, как произносят его молодые провинциальные барышни, чьи мысли и чувства целиком сосредоточены на петровской столице, с которой они связывают надежды, кои, впрочем, имеют обыкновение рушиться при первом знакомстве с этим городом. Николай добрыми глазами посмотрел на кузину и улыбнулся. Они добрались почти до самой глубины сада, до старых качелей, которые на удивление вспомнил молодой писатель. Он усадил на них собеседницу и начал.
Беседа обещала быть долгой и интересной – вот только проходившие мимо или таившиеся по кустам крестьяне Яновского не давали ему покоя и периодически мешали сосредоточиться. Он ловил на себе их злые взгляды и искренне недоумевал, что он-то им сделал такого, что заставляет их испепелять его взором своим. Списав, однако, их на общую неприязнь ко всему дворянскому сословию и, в особенности, к той его части, что носит фамилию Яновские, Гоголь еще раз мысленно осудил дядьку за жестокость. Но скверные мысли и чувства сегодня не держались долго в голове – в таком обществе преступно таить их.
4
Гоголь Н.В. Вий (сборник). М., Издательство: «Эксмо» 2014 г. ISBN: 978-5-699-69140-1