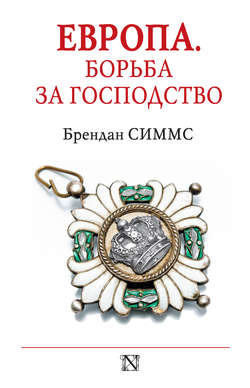Читать книгу Европа. Борьба за господство - Брендан Симмс - Страница 6
Часть третья
Революции, 1756–1813 годы
ОглавлениеМы те, кем были на протяжении столетий, калейдоскоп политических конституций, легкая жертва наших соседей и предмет их насмешек, небывалых в мировой истории; мы разъединены и по этой причине слабы, хотя и сильны настолько, чтобы вредить самим себе, но в то же время бессильны спасти себя; мы равнодушны к чести своего имени, безразличны к соблюдению законов… великий, но и ничтожный народ, потенциально счастливый, а на самом деле глубоко несчастный.
Фридрих Карл фон Мозер, немецкий тайный советник, 1766 г.[295]
История Германии – это история войн между императором и князьями и государствами, войн между самими князьями и их государствами; история вседозволенности сильных и угнетения слабых; иноземных вторжений и иноземных интриг; насильственных захватов людей и денег, которым не придавали значения или частично покорялись; попыток принудить народ, либо неудачных, либо сопровождавшихся избиениями и разорением, что постигало равно невинных и виновных; история всеобщего беснования, смуты и неизбывных страданий.
Джеймс Мэдисон и Александр Гамильтон. Газета «Федералист», 19, 1787 г.
Мы видим, что отмена данного закона [договора 1756 года между Австрией и Францией] – это революция, столь же необходимая в международных отношениях для Европы и для Франции, как и разрушение Бастилии, способствовавшее нашему возрождению. (Крики «Браво!» и аплодисменты в зале заседаний парламента и с галерей для публики.)
Пьер Верньо, речь перед французским Национальным собранием, 1792 г.[296]
В середине 1750-х годов Европу сотрясала «дипломатическая революция», в ходе которой двое заклятых врагов – Франция Бурбонов и Австрия Габсбургов, а также позднее Россия – объединились против Пруссии и Великобритании. Семилетняя война (1756–1763) подтвердила возвышение Пруссии до статуса великой державы, обеспечила колониальное превосходство Великобритании и ознаменовала наступление русского экспансионизма, который в последующие десятилетия трансформировал политику Восточной и Центральной Европы. Америку завоевали в Германии; сражение на два фронта оказалось роковым для Бурбонов. К концу восемнадцатого столетия все ведущие европейские державы принимали участие в событиях на территории Священной Римской империи или были с ними связаны: Франция и Россия выступали гарантами соблюдения Вестфальского и Тешенского договоров, Австрия и Пруссия являлись крупнейшими государствами империи, а Великобритания была связана с империей через Ганноверскую династию и была «опекуном» Нидерландов и немецкого хинтерланда. Семилетняя война, сверх того, заложила два заряда, оглушительно сдетонировавших в последней четверти века. Именно тогда была предпринята первая попытка объединить тринадцать колоний ради войны и экспансии; именно тогда колонисты Северной Америки впервые задумались о том, чтобы самостоятельно заботиться о собственной безопасности. Этот процесс, подчеркнутый британским равнодушием к позиции страны в Европе, особенно в Германии, напрямую привел к созданию Соединенных Штатов Америки. В ходе Семилетней войны французы начали долгий внутренний спор по поводу большой стратегии Бурбонов и по поводу мер, необходимых для поддержания великодержавных амбиций, что закончился революцией 1789 года. Все это завершилось формированием новых геополитических, конституционных и идеологических структур в Европе и за океаном, поскольку страны опробовали различные модели внутренней организации для сохранения конкурентоспособности на международной сцене. Рейх ныне сражался с республикой, империя – с союзом. Фокусом схватки оставались Германия и Нидерланды. Тот, кто контролировал это пространство, контролировал весь континент и мир.
Франция находилась на распутье. Если на протяжении столетий ее политика носила выраженный антигабсбургский характер, то теперь главным врагом сделалась Британия, чье колониальное господство виделось как неоспоримое преимущество. Маркиз де ла Галиссоньер, генерал-губернатор Канады, в декабре 1750 года предупреждал, что Британия «подпитывается» из Америки, «не допуская другие народы, что вне сомнения обеспечивает ей превосходство в Европе», особенно в Германии и Фландрии.[297] Вдобавок Версаль все больше тревожил прусский король Фридрих Великий. Дипломат Луи Огюстен Блондель в январе 1751 года заявил, что прусско-британский альянс, которого на тот момент энергично добивался Лондон, представляет смертельную угрозу империи, а следовательно, и интересам Франции в Германии. «Имперская конституция, – писал он, – есть основа величия короны [Франции], она утверждает монархию на берегах Рейна. Большое количество мелких государств, у которых столько разных интересов, служит доказательством того, что власть этой могучей империи не будет сосредоточена в одних руках».[298] Беспокойство вызывал и рост могущества России, которая дважды за последнее время решительно вмешивалась в дела Франции. До сих пор «восточный барьер» (barrier de l’est) – то есть альянсы со Швецией, Польшей и Османской империей – помогал сдерживать Австрию. Но отныне, как заметил впоследствии граф де Брольи, задачей этих альянсов стало «заталкивание России обратно в ее огромные просторы, где она не будет встревать в дела [Центральной] Европы».[299]
Между тем Габсбурги обсуждали с русскими, как следует поступить с Фридрихом. Как указал в мартовском меморандуме 1749 года главный австрийский переговорщик в Экс-ля-Шапель граф Кауниц, прежний союз с Британией и «наследственная» вражда с Францией стали невыгодны. Вместо этого он предлагал заключить альянс с Францией или, по крайней мере, пойти на уступки, что позволит Австрии разобраться с Фридрихом. Санкт-Петербург, традиционно рассматривавший Пруссию как «подчиненную» страну, возмутился тем, что Фридрих нарушил баланс сил в империи односторонним захватом Силезии. В глазах России Фридрих также угрожал северным границам; в мае 1747 года прусский король заключил оборонительный союз со Швецией, а когда Стокгольм начал переговоры с Портой, угрозу недружественного окружения стало невозможным игнорировать далее. Поэтому в апреле 1753 года Россия решила «вразумить» Пруссию дипломатическими средствами – и силой оружия, если понадобится.
Великобритания также подвергла фундаментальному пересмотру свою стратегию. Опыт конца 1740-х годов показал, что традиционные столпы ее континентальной политики требуют скорейшего ремонта. Голландцы были слишком слабыми, чтобы оборонять «барьерные» крепости в Нидерландах, а Габсбурги понесли слишком тяжелые территориальные потери в 1730-х и 1740-х годах, посему их способность обороняться также вызывала сомнения. Более того, французское нашествие на Америку угрожало морской власти и положению Британии в Европе. Тринадцать американских колоний служили источником постоянного притока обученных моряков, оттуда исправно поступали налоги и там можно было разместить морские базы. «Если мы потеряем наши американские владения или утратим на них влияние в мирное время – предупреждал герцог Ньюкасл в 1750 году, – Франция с легкостью развяжет против нас войну, когда ей это будет удобно».[300] Столкнувшись с новыми обстоятельствами, значительное число представителей публичной сферы – журналистов и парламентариев – требовало активной и «прозрачной» политики, которая отвергала дорогостоящую вовлеченность в дела континента. Правительство вигов, однако, верило в то, что Священная Римская империя остается ключевым условием сдерживания Франции. Война за австрийское наследство преподала важный стратегический урок: она показала фатальные последствия отчуждения императорской короны от династии Габсбургов. Лондон поэтому попытался убедить германских курфюрстов избрать сына Марии Терезии Иосифа «королем римлян», обеспечив тем самым автоматическое наследование императорской короны после кончины Франциска Стефана. «Имперская избирательная схема» доминировала в британской внешней политике начала 1750-х годов.[301] Это было своего рода упражнение в стратегическом упреждении.
За океаном нарастающее напряжение ускорило развитие американской публичной сферы; колонисты все больше осознавали собственную идентичность и все больше занимались собственной безопасностью.[302] Подобно британскому правительству, поселенцы рассматривали колониальные споры в широком контексте общеевропейской борьбы. Житель Бостона Уильям Дуглас называл французов «общей помехой и нарушителями спокойствия в Европе, которые в скором времени станут таковыми и в Америке, если только их не усмирить дома и если Америка не отгородится от них рвами и стенами, то есть широкими реками и неприступными горами».[303] Многие колонисты требовали, чтобы Британия перешла в наступление и устранила угрозу Бурбонов раз и навсегда, уничтожив Квебек и покончив с бурбонским окружением через экспансию. В 1751 году Бенджамин Франклин в «Наблюдениях касательно прироста человечества» утверждал, что новые колонии на западе спасут существующие поселения от участи оказаться «запертыми» на побережье и обеспечат жизненное пространство, в котором так нуждаются колонисты. Франклин заранее восхвалял «государя, который присвоит новые территории, если найдет их свободными, или изгонит туземцев, чтобы заселить собственными подданными».[304]
На практике, однако, колонисты были плохо подготовлены и собственными силами не могли справиться даже с франко-индейской угрозой. Им недоставало общей цели и перспективы. «Сейчас, – сокрушался Франклин, – мы схожи с раздельными волокнами, из которых совьется нить; мы лишены сил, ибо не имеем связей, зато союз сделает нас сильными и даже грозными».[305] Это было проиллюстрировано в 1754 году, когда британцы созвали конгресс в Олбани, в колонии Нью-Йорк, для обсуждения совместной обороны колоний от французов и индейцев. Британцы предложили, чтобы отдельные колонии не действовали против индейцев спонтанно и автономно, чтобы они объединили ресурсы и координировали усилия. Это предложение было отвергнуто всеми колониями, даже теми, что, как Пенсильвания, больше других страдали от разобщенности. Губернатор Массачусетса Шерли заметил, что «собраниям не нравится план, составленный комиссарами в Олбани, потому что в нем видят угрозу свободам и привилегиям колоний».[306]
В начале 1750-х годов вокруг Британии и Пруссии затягивался узел. Согласно договору, подписанному в Аранхуэсе в 1752-м, французы, испанцы и австрийцы заключили мир в Италии с тем, чтобы все три этих государства сосредоточили силы против Лондона и Потсдама. Британская «имперская избирательная схема» исчерпала себя, не в последнюю очередь потому, что австрийцы не хотели открыто отдаляться от Франции. Экспедиция генерала Брэддока, состоявшая из регулярных частей и ополчения колонистов, была разгромлена французами и индейцами на реке Мононгахела в 1755 году.[307] В мае 1756 года голландцы объявили о своем нейтралитете и нанесли тем самым еще один удар «старой системе». На юге саксонцы были готовы присоединиться к Австрии. Они давно воспринимали Пруссию как «досадную помеху», вклинившуюся между ними и Польским королевством. Больше всего тревожило нарастающее сближение Австрии и Франции, кульминацией которого стал Версальский договор, заключенный между двумя странами в мае 1756 года. Это была воистину дипломатическая революция, покончившая с враждой между Габсбургами и Бурбонами/Валуа, что длилась более двух столетий. Договор имел важнейшие последствия для соотношения сил в Священной Римской империи. Фридрих столкнулся с воплощением своих кошмарных снов, в которых Пруссия отдавала Силезию Австрии, уступала Померанию Швеции, Магдебург и, возможно, что-то еще – Саксонии, а Восточную Пруссию «дарила» либо Польше (в обмен на уступку восточных польских земель Санкт-Петербургу), либо напрямую России. Кауниц втайне мечтал о «полном уничтожении» Пруссии.
Шансы Фридриха на выживание в этом враждебном окружении заключались в согласованной внутренней и внешней политике. «Мне доводилось видеть, как малые государства одерживали верх над величайшими монархиями, – писал Фридрих, – в том случае, когда у них имелась промышленность и был порядок в делах».[308] Кантональная система обеспечивала постоянный приток рекрутов из крестьян и офицеров-аристократов; взамен король полагал «своим долгом защищать дворянство, прекраснейшую драгоценность короны, прославившую его армию».[309] Правильное управление позволяло получать больше доходов с населения; при Фридрихе сбор налогов увеличился троекратно, причем 83 процента этих средств тратились на оборону, даже в мирный период 1745–1756 годов. Фридрих также сумел расположить к себе религиозных диссидентов, нашел общий язык с католиками, особенно с теми, кто проживал в стратегически важной Силезии. Главной заботой Фридриха при этом оставалась Германия. Требовалось помешать Габсбургам, стремившимся использовать свою императорскую корону для мобилизации империи против Пруссии. «Со времен Фердинанда I, – писал король, – принципы Австрийского дома сводились к осуществлению в Германии политики деспотизма». По этой причине необходимо было блюсти «свободы Германии», то есть поддерживать баланс власти между императором и представительными собраниями.[310] Фридрих верил, что равновесие в империи является основой, от которой зависит Европа в целом. Он не сомневался в том, что, если Габсбургам удастся нарушить это равновесие, они со временем подчинят себе всю Европу, а следовательно, и Пруссию. Однако прусский король не нашел значимых союзников ни внутри, ни вне Германии, за исключением Великобритании, которой он пообещал защищать Ганновер в обмен на инвестиции, как оговаривалось в соглашении, подписанном обеими странами в Вестминстере в январе 1756 года. Как ни парадоксально, действия Фридриха помогли Вене запустить против него имперскую машину.
Открытая война в Европе и Америке в 1755–1756 годах неумолимо приближалась, и Великобритания с Пруссией приняли меры предосторожности. Лондон одобрил еще более жесткие шаги в отношении подавления внутренней угрозы. В горной Шотландии начались, выражаясь современным языком, «зачистки»: мелких фермеров уговаривали или заставляли бросать свои земли, отчасти ради более продуктивного использования этих владений, но прежде всего в стремлении расправиться с якобитами и лишить Францию потенциального союзника. Франкоязычное католическое население Новой Шотландии, которое давно являлось настоящей «занозой» для британского правительства, в 1755 году преимущественно депортировали – около 7000 человек из беспокойных «новых скоттов» – в тринадцать колоний и расселили в Массачусетсе, Виргинии и Мэриленде, а затем переправили в Луизиану. Теперь эти люди не представляли серьезной опасности. В обоих случаях британское государство решало стратегическую проблему посредством «этнической чистки».[311]
К суровым мерам прибегнул и Фридрих. После дипломатической революции его все больше беспокоила Саксония – «меч, нацеленный в сердце Бранденбурга».[312] Информатор из саксонского министерства иностранных дел сообщил, что курфюрст выжидает удобный момент, чтобы сбросить маску, и нападет на Пруссию в союзе с Марией Терезией, Людовиком и русской царицей. Русские настаивали на немедленном ударе, но австрийцы упросили повременить до следующего года. Фридрих решил действовать на опережение. В августе 1756 года он вторгся в Саксонию и быстро оккупировал княжество целиком. Едва ли не прежде всего он велел обследовать архив столицы Саксонии, Дрездена, и отыскать документы, которые оправдали бы его превентивное вторжение. Такие документы действительно были найдены и опубликованы для всеобщего изучения в том же году – вместе с заявлением короля, что «всякого, ожидающего тайно спланированного нападения, можно обвинить во враждебных действиях, но не в агрессии».[313] Фридрих обращался к немцам, пытался внушить имперскому сейму, что нет необходимости в санкциях против Пруссии за вторжение в Саксонию. Ему удалось избежать отторжения своих земель, однако он не убедил рейхстаг, который в январе 1757 года объявил ему войну. Неторопливая мобилизация имперской армии завершилась присоединением к французам.
Возникший в результате конфликт получил впоследствии название Семилетней войны.[314] Поначалу события развивались неважно как для Британии, так и для Пруссии. Летом 1756 года французские войска оккупировали Менорку и отбили нападение «эскадры спасения» под командованием адмирала Бинга. Британия испытала еще большее унижение, когда в конце года страну охватила паника перед вторжением и она вынуждена была призвать на защиту своего южного побережья ганноверских наемников. В 1757 году дела шли немногим лучше: неудачи в Америке затмила катастрофа в Ганновере, где экспедиционный корпус под командованием герцога Камберлендского потерпел поражение в коротком бою с французами и капитулировал по условиям Цевенского соглашения.[315] Пруссия в свою очередь увязла в боях с австрийцами в Богемии и понесла чувствительное поражение в битве при Колине в июне 1757 года. В мае 1757 года Франция заключила второй Версальский договор о размещении в Германии армии численностью в 100 тысяч человек против Фридриха и согласилась выплачивать Австрии субсидии до тех пор, пока та не вернет себе Силезию. На востоке русские захватили Мемель и в конце 1757 года одержали важную победу при Гросс-Егерсдорфе. На севере шведы спустя четыре месяца вошли в Померанию. Фридрих оказался в полном окружении. Лишь военный гений короля помог ему в ноябре 1757 года разбить объединенную французско-имперскую армию в битве при Росбахе. Германская имперская армия, или Reichsexecutionsarmee (жестоко прозванная Reissausarmee, «улепетывающей армией»), сделалась предметом всеобщих насмешек; ее командующий заявил, что скорее застрелится, чем «снова поведет ее в бой».[316] Вскоре после этого Фридрих разбил австрийцев в битве при Лейтене. Примерно тогда же Британия отказалась от Цевенского соглашения и приступила к формированию крупной армии британских, ганноверских и других немецких наемников, чтобы защитить Северную Германию от французов. В начале 1758 года командующий этой армией герцог Фердинанд Брауншвейгский обратил французов в бегство.
Война оказала немалое влияние на внутриполитическую обстановку по всей Европе. В Британии поражения 1756–1757 годов породили, если можно так выразиться, моральную и политическую панику. В имевшем широкое хождение трактате преподобный Джон Браун уподобил унижение британцев «тщеславной, разукрашенной и эгоистичной женственности».[317] Дорога к спасению заключалась в моральном возрождении и создании национального ополчения, каковое объединило бы все слои населения и отразило бы «истинно мужской» характер народа. Уильям Уильямс в 1757 году проповедовал: «Каждый подданный, каждый мужчина – солдат».[318] Эти настроения «материализовал» законопроект об ополчении (1757). Кроме того, в обществе крепло убеждение в том, что государству следует больше заботиться о медицинском обслуживании немногочисленной мужской половины населения, сильно пострадавшей от болезней в заморских экспедициях и от «гнусностей и тягот германских дебрей».[319] Во Франции катастрофа при Росбахе – которую Вольтер назвал унижением хуже тех, что страна испытала в Столетнюю войну[320] – заставила заговорить о «национальной болезни», под чем разумелось «разложение» народа «роскошью» и пренебрежением к множеству людей, пашущих землю, в пользу «женоподобных щеголей».[321]
Прямым следствием войны стали перемены в большой политике и в большой стратегии. Францию потрясло известие о разгроме при Росбахе – самой сокрушительной военной катастрофе монархии после Бленхейма. Главный министр кардинал де Берни так и не оправился впоследствии от этого удара по авторитету нации и по собственной репутации. «В войсках совершенно отсутствовала дисциплина, – писал он позднее. – Предательство и некомпетентность – вот приметы наших дней. Полководцы и вся нация совершенно утратили боевой дух».[322] В том же году Берни лишился власти. В Лондоне начальные поражения Британии привели к формированию нового правительства, которое возглавил оппозиционер Уильям Питт. Война также обострила давнее противостояние между вигами, которые по-прежнему цеплялись за стратегию военной и дипломатической вовлеченности в дела Европы, и тори, которые желали покончить с «континентальными обязательствами» и сосредоточить усилия на победе над Францией в колониях и на море. Уильяму Питту удалось отыскать компромиссное решение. Он увеличил расходы и на «германские дела», и на операции в колониях, но основное внимание сам уделял империи, надеясь сковать французские ресурсы в Европе и добиться тем самым преимущества Британии за океаном.[323] Усилия Питта в 1759-м были вознаграждены «годом побед». В июле был захвачен важный для Франции «сахарный» остров Гваделупа. В начале августа англо-германское войско нанесло поражение французам при Миндене (Вестфалия). Позже в том же месяце французская эскадра потерпела поражение в бухте Лагоса, а в середине сентября армия генерала Вольфа захватила Квебек. «Не сумей бы занять французов в Германии, – говорил Питт, – они бы перебросили свою армию в Америку… Америка была завоевана в Германии».[324] Другими словами, заморская империя Британии была спасена благодаря операциям в Священной Римской империи.
Франция не смогла добиться подобного «синтеза». Жаркие дебаты относительно большой стратегии страны, вспыхнувшие в 1756 году, доминировали в политике последующие тридцать лет. Основной темой служил австрийский альянс, заключенный в ходе дипломатической революции. Это сближение шло вразрез с французской дипломатической традицией и было осмеяно практически сразу после того, как началось, публицистом Жаном-Луи Фавье в его полемической статье «Doutes et questions»,[325] написанной по заказу антиавстрийской партии при дворе. Фавье обвинил сторонников альянса в отказе от давних союзов Бурбонов со Швецией, Турцией и Польшей. Боее того, по мнению Фавье, альянс с Россией и Австрией был губительным для Пруссии и полезным для «наследственного врага», то есть Габсбургов, а также позволял русским проникнуть еще глубже в Священную Римскую империю – эту политику сурово критиковали французские дипломаты. Все аргументы излагались классическим языком «моральной паники», и «противоестественный альянс» приписывался злокозненным махинациям любовницы короля, мадам де Помпадур. Фиаско при Росбахе будто бы подтвердило правоту критиков. Общественное мнение, поначалу не имевшее определенного отношения к договору с Австрией, теперь решительно стало его осуждать. Народ с воодушевлением читал статью Фавье и прочие филиппики такого рода, ходившие в рукописном виде по Парижу.[326]
Новый французский главный министр герцог де Шуазель сократил французское присутствие в Германии и сосредоточился на противостоянии Британии за океаном – при помощи Испании, если будет возможно. Новая стратегия, однако, не смогла изменить сложившегося положения. В 1760 году пал Монреаль, а когда в 1762 году Испания наконец вступила в войну на стороне французов, результат оказался плачевным, и перечень заморских поражений только пополнился. Британский экспедиционный корпус быстро захватил Манилу и Гавану. Фридрих Великий, с другой стороны, очутился на грани полного изнеможения сил. Он потерпел целый ряд серьезных поражений от Габсбургов, в октябре 1760 года австрийцы даже ненадолго захватили Берлин. Главную угрозу, однако, представляли собой русские, которые в 1758 году остановили Пруссию у Цорндорфа, а в 1759-м разгромили Фридриха при Кунерсдорфе. Король полагал, что теперь его может спасти только чудо, и в декабре 1761 года это чудо случилось: скончалась царица Елизавета. Трон унаследовал пруссофил Петр III, который в мае того же года отказался от союза с Австрией и Францией, а в июне даже заключил союз с Фридрихом.
Фридрих не сумел воспользоваться неожиданной передышкой, поскольку в июле 1762 года Петр III был свергнут и убит; ему наследовала супруга Екатерина. Она разорвала договор с Пруссией, однако обозначила желание покончить с враждой. Британия тоже была утомлена войной, беспокоилась в связи с французскими успехами в Германии и намеревалась отстоять свои колониальные владения. В мае 1762 года Лондон «вычеркнул» Фридриха – новый король Георг III, его правительство, парламент и население устали от «германской войны». Столкнувшись с этой общей позицией, обескровленный Фридрих согласился вложить меч в ножны. В 1763 году колониальная война между Британией и Бурбонами завершилась подписанием Парижского договора, а война с Германией – подписанием Губертусбургского договора. На суше Пруссия сохранила Силезию, и ей не пришлось выплачивать Австрии «компенсацию». За океаном и в колониях французы уступили Канаду, оставив себе лишь крошечный кусочек владений (острова Сен-Пьер и Микелон); кроме того, они удержали африканскую колонию Сенегал и цепочку территорий на Карибах, включая Гренаду и Сент-Винсент. Испания вернула Гавану и Манилу, но передала Британии Флориду. Взамен она получила от Франции Луизиану, которая была значительно больше нынешнего штата, носящего то же имя. Мировой баланс сил явно сместился в пользу Британии благодаря успехам ее политики в Священной Римской империи, в то время как равновесие сил в Европе, на которое опиралась межгосударственная система, изменилось с учетом возвышения России и Пруссии и относительного упадка Австрии и Франции.
Семилетняя война заставила призадуматься побежденную коалицию Бурбонов и Габсбургов.[327] Французский министр Шуазель полагал, что в катастрофе повинно решение сражаться на два фронта – в Европе и за морем. Поэтому, утверждал он, Франции следует на континенте проводить политику «удержания» и при этом использовать альянс с Австрией, чтобы помешать Британии организовать «диверсии» в Германии, а основные усилия направить на развитие флота. Критики правительства, со своей стороны, уверяли, что после 1756 года Франция избрала неправильную стратегию. По их мнению, главным противником являлась не Британия, а по-прежнему Австрия. Сохранение альянса с Габсбургами после 1763 года доказывало, что монархия так ничему и не научилась в ходе войны, и намекало на продолжение отступления из Восточной и Центральной Европы и – самое главное – из Германии. Многие французские дипломаты опасались, что эта стратегия откроет русским дорогу на запад. Санкт-Петербург, как выразился один чиновник, намерен «поощрять анархию в Польше, чтобы поработить ее», добиться «влияния в Германии» и в конце концов «привести войска на Рейн… а следом незамедлительно примчатся азиатские орды, которые покорят Италию, Испанию и Францию, часть населения этих стран уничтожат, часть поработят и отправят заселять пустыни Сибири».[328] Германия, по мнению критиков, была для Франции бастионом против восточного деспотизма. Что касается Австрии и Пруссии, ветеран французской дипломатии и эксперт по Германии Луи-Габриэль дю Бюа-Нансе предупредил, что Франции не следует солидаризироваться с кем-либо из ведущих германских государств; нужно сохранять баланс между ними, чтобы помешать «формированию объединенной германской монархии, которая перевернет всю европейскую государственную систему».[329] Коротко говоря, элита все больше склонялась к убеждению, что старый режим не способен защитить национальные интересы Франции, особенно в Священной Римской империи.
Для многих критиков, при Росбахе потерпела катастрофу не конкретная политика, а социально-политическая система в целом. Королевская авторитарность и господство аристократии опирались на военную мощь, лежали в основе исходных феодальных «контрактов» Средних веков и их производных. Поражение в Семилетней войне стало серьезным ударом по армии и дворянству; стало понятно, что заслуги должны цениться выше привилегий. Монархия и аристократия утрачивали легитимность, и это обстоятельство постепенно осознавалось, что порождало жаркие споры относительно форм социальной организации, которые сделают Францию более конкурентоспособной в европейской государственной системе. Большинство соглашалось с тем, что существующая система, с ее спесивыми наследственными аристократами и продажей должностей, крайне неэффективна. Шуазель и большинство военных реформаторов поддерживали прусскую (а еще лучше – русскую) модель, где использовалась «каста» государственных служащих, получавшая вознаграждение за заслуги и реальные дела. Другие предпочитали британский «коммерческий» нобилитет.[330] Некоторые призывали к сочетанию этих двух систем. Меньшинство, представителем которого являлся, в частности, Жан-Жак Руссо, ратовало за армию граждан. Стоимость войны также заставляла многих требовать большего участия в политической жизни. Аббат Мабли утверждал, что нация должна одобрять налоги через представительные собрания, но попытки короны удвоить налоги на аристократию (и только на нее) вызвали первые общенациональные протесты с конца семнадцатого века. Эти «бунтари» заявляли, что «нация» должна одобрять все налоги без исключения. Все вместе перечисленные вызовы представляли собой угрозу старому режиму – и одновременно возможности. Успешная национальная программа могла сплотить народ, но тот явно не собирался прощать очередной неудачи.
В Испании поражение в Семилетней войне и сохранение британской угрозы после 1763 года обернулись реализацией полномасштабной программы реформ.[331] Она имела принципиальное значение для статуса Испании как европейской державы, поскольку от благополучия «американской» империи зависела безопасность монархии по сию сторону Атлантики. В колониях проживало 9 миллионов человек, почти столько же, сколько в самой метрополии, и они являлись источником доходов казны. Поэтому испанское правительство в 1763 году учредило секретную комиссию, которой поручили заняться обороной колоний. Год спустя комиссия сообщила, что требуется больше солдат, местных налогов и фортификаций.[332] Необходимые суммы можно было отыскать только в колониях. За океан, к вице-королям, отправились чиновники, в 1765 году побывавшие в Новой Испании, а в следующие десять лет – в Перу и Новой Гранаде. Местных чиновников заменили эффективными и непопулярными интендантами из метрополии. Правительство приступило к изучению вопроса о привлечении большого количества рабов к труду в карибских колониях, особенно на Кубе, для увеличения производства сахара; к концу столетия «импорт» чернокожих рабов из Африки шел полным ходом.[333] Рабство и место Испании в европейской государственной системе оказались тесно взаимосвязаны.[334]
Габсбурги на протяжении 1760-х годов изучали итоги Семилетней войны. Одна фракция, во главе с канцлером Кауницем, помышляла о мести Пруссии. Другую фракцию возглавлял сын и наследник Марии Терезии Иосиф, соправитель матери, в 1764 году избранный «римским королем» и наследовавший своему отцу в качестве императора год спустя. Иосиф не отказывался от идеи сближения с Фридрихом, не в последнюю очередь потому, что его тревожило нарастание могущества России. Кауниц и Иосиф также расходились во мнениях относительно последствий войны для внутренней политики. Иосиф настаивал на немедленном увеличении военных расходов и численности армии, что подразумевало масштабные социально-экономические реформы. Кауниц придерживался стратегии устойчивого экономического роста, увеличения доходов от налогообложения и обретения тем самым в отдаленной перспективе военно-политического влияния. В обоих случаях внутренняя политика виделась второстепенной, ибо для Иосифа и для Кауница внутренние реформы были продолжением внешней политики иными средствами.[335] В марте 1770 года состоялась перепись населения, чтобы дать правительству более ясное представление о ресурсах, «людских, животных и неодушевленных», доступных для мобилизации в будущем.
Семилетняя война также спровоцировала бурные дискуссии о будущем Священной Римской империи.[336] Некоторые, восхищаясь победой Фридриха над французами при Росбахе, видели в прусском короле избавителя от «наемников Людовика [XV]», которые пытались «оторвать» от Германии больше земель.[337] Другие, не забывшие о нападении Фридриха на Саксонию, испытывали двойственные чувства. Но те и другие соглашались в двух отношениях. Во-первых, немцы искренно любили и гордились своим рейхом, который олицетворял для них «оплот» порядка и легитимности в окружавшем его алчном и хаотическом мире. Немецкие крестьяне, даже беднейшие, ощущали защиту императора, избавившего их от массовых экспроприаций, каковые постигли шотландских горцев и франкоаккадцев. Возможно, «склеротические» имперские суды не спешили вершить справедливость, а потребность в конфессиональном единстве не воодушевляла имперский сейм, однако после травм Тридцатилетней войны было признано, что цена стоила понесенных жертв. Во-вторых, события 1756–1763 годов, когда иностранные державы, что называется, истоптали империю вдоль и поперек, убедили многих немцев в том, насколько хрупким и слабым является их государство. Это ощущение выразил в своих записках Фридрих Карл фон Мозер. В трактате «О национальном духе Германии» (1765) он утверждал, что Германии нужна правительственная структура, способная сдерживать внутреннее напряжение и давать отпор внешней агрессии. «Кто осмелится напасть на Германию, – восклицал он, – если Германия будет единой?» Впрочем, поддержка имперских реформ вскоре иссякла. «Недостатки, обнаженные войной, в том числе в армии, столь велики, столь многочисленны и многообразны, – сокрушался Мозер в 1768 году, – что если Германская империя сохранит нынешнее состояние, ей следует запретить даже думать о войне, насколько сие вообще возможно».[338]
На востоке о своем положении в государственной системе размышляла царская Россия. С военной точки зрения, она удачно действовала в Семилетней войне, однако ее правители болезненно сознавали, что необходимы серьезные внутренние реформы, чтобы страна осталась конкурентоспособной на европейской сцене. «Россия, – писала в 1767 году Екатерина Великая в первых строках «Наказа комиссии о составлении проекта нового уложения», – страна Европейская». В следующем абзаце говорилось, что Россия стала великой державой, будучи европейской, то есть «ввела нравы и обычаи европейские». Екатерина имела в виду вовсе не репрезентативные институты Европы, а европейский абсолютизм. Далее в «Наказе» объяснялось, что «государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не может действовать сходно со пространством столь великого государства». Екатерина обозначила и цель монархии: «Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, государства и Государя» (здесь она подразумевала территориальную экспансию и военный успех); «от сея славы, – было сказано далее, – происходит в народе, единоначалием управляемом, разум вольности, который в державах сих может произвести столько же великих дел и столько споспешествовать благополучию подданных, как и самая вольность». Иными словами, русские получали «компенсацию» за отсутствие свобод в виде славы государства как великой европейской державы.[339]
Два победителя, Пруссия и Великобритания, по окончании войны испытывали смешанные чувства – стратегическая неуверенность сочеталась с внутренним спокойствием. После 1763 года Фридриха тревожило нарастание могущества России: «этот снежный ком» угрожал раздавить Пруссию, как лавина. Союз с Россией в 1764 году обеспечил временную передышку. В «Политическом завещании» 1768 года Фридрих писал, что «государство не может сохранить себя без большой армии, поскольку мы окружены врагами, которые сильнее нас, так что в любой момент мы должны быть готовы себя защитить».[340] По мнению прусского короля, это не требовало более широкого политического участия или социальных реформ. Напротив, он был убежден, что лишь строгое следование народа монаршей воле позволило Пруссии пережить трудные времена. Фридрих подумывал об отмене крепостничества после прекращения военных действий, однако успех «военно-аграрного комплекса» отнюдь не побуждал к проведению фундаментальных социальных реформ. Дееспособная прусская администрация сумела обеспечить содержание армии на доходы от Силезии, где Габсбурги прежде едва набирали средства на содержание двух кавалерийских полков.[341] В 1763 году прусская армия насчитывала 150 тысяч человек, к 1777 году увеличилась до 190 тысяч, а перед смертью Фридриха в 1786 году численность армии выросла до невероятных почти двухсот тысяч человек. Тем не менее король жил в страхе перед соседями. Фридрих как-то сказал одному высокопоставленному дипломату, что на своем гербе вместо черного орла ему следовало бы изобразить обезьяну, потому что Пруссия всего лишь подражает великим державам.
В Британии окончание Семилетней войны повлекло за собой немедленные политические и стратегические последствия. Первый министр, маркиз Бьют, подвергся столь яростным нападкам общественности за «оставление» Пруссии и ее «благородного» короля Фридриха, что он подал в отставку в начале апреля 1763 года.[342] Одновременно триумф 1763 года спровоцировал волну национальной гордости. Победу приписывали превосходству британской коммерции и доблести. Эта гордость нашла отражение и в британской внешней политике. Рутиной сделались демонстрации морской силы по отношению к Франции и Испании. К примеру, в 1763 году эскадру отправили на Теркс (Каймановы острова) для устрашения французов, а в заливе Гондурас напугали испанцев. Такие действия выглядели соблазнительно, поскольку доставляли удовлетворение без применения силы, однако они принесли Британии репутацию высокомерной страны. Кроме того, «морские афронты» позволили Лондону сократить свое дипломатическое и военное присутствие в Европе, особенно в Священной Римской империи, и оставить последнюю в опасной изоляции.[343] Очень скоро стало ясно, что победа в Семилетней войне отнюдь не покончила с Бурбонами – совсем наоборот. Вместо широкой коммерческой агломерации торговых пунктов и колоний Британия теперь несла ответственность за широко раскинувшуюся империю, периметр которой обнаруживал все новые уязвимости. На западе это была «миазматическая» граница с испанцами и с воинственными индейскими племенами в долине реки Миссисипи. На севере потенциальную «пятую колонну» представляла собой община индейцев в Квебеке, слишком крупная, чтобы ее депортировать. В 1763–1764 годах британскую Северную Америку потрясло восстание Понтиака, снова продемонстрировавшее слабость колониальных структур обороны.
Кабинет министров поспешил заняться обороной империи. Во-первых, в октябре 1763 года появился указ, запрещавший селиться к западу от Аппалачей. Эта мера была призвана умиротворить индейцев, проживавших в тех местах, успокоить страхи французов и испанцев, которых беспокоила британская колониальная экспансия, и сократить периметр границ, которые приходилось оборонять и без того чрезмерно растянутой королевской армии. Во-вторых, были составлены планы, предусматривавшие удвоение заморских вооруженных сил. Около двух третей этих войск подлежали развертыванию в Северной Америке, главным образом вдоль западной границы, а остальные предполагалось отправить на Карибы. В результате Семилетней войны Британия изрядно задолжала, и платить за реформы пришлось колонистам. Как сказал премьер-министр Великобритании лорд Гренвилл, «защита и послушание неразрывно связаны… Нация загнала себя в огромные долги, чтобы обеспечить колонистам защиту, а теперь их призывают внести свою малую лепту на общественные расходы». С этой целью кабинет ввел в действие сначала Сахарный закон, а затем закон о гербовом сборе на собственность, «имеющуюся в Северной Америке и Вест-Индии». Цель состояла в поддержке значительного военного контингента в долинах рек Огайо и Миссисипи. Аналогичные меры разрабатывались для Ирландии и особенно для Индии, где Ост-Индская компания являлась эффективной «дланью» государства.[344]
Наследие Семилетней войны ощущалось и в более слабых государствах, отчаянно старавшихся не уступать в конкуренции в рамках европейской государственной системы. Польша, к примеру, отреагировала на перемены в Центральной и Восточной Европе попыткой возродиться в качестве независимого игрока. В 1717 году царский указ сократил польскую армию до 24 000 человек, но потенциальная численность национальной армии была огромной. В 1750-х и в 1760-х годах, например, отдельные магнаты имели возможность выставлять большое войско; самый богатый из них, Михаил Радзивилл, содержал до 10 000 бойцов. Собрать многочисленную армию Речи Посполитой мешало не только внешнее вмешательство, но и хроническая склонность к внутреннему размежеванию и анархии. Коллективное принятие решений было практически невозможным из-за liberum veto. Как заметил в 1763 году русский канцлер граф Михаил Илларионович Воронцов, «Польша не вылезает из мятежей; покуда она сохраняет свою конституцию, ей не место в ряду европейских держав».[345] В самом деле, поляки настолько привыкли к тому, что иные государства действуют в их стране по собственному усмотрению, что прозвали свою родину «европейским постоялым двором» («корчмой Европы»). Новый польский король Станислав Август Понятовский, коронованный в ноябре 1764 года, решил изменить эту ситуацию. Он создал польскую дипломатическую службу, призванную препятствовать магнатам в проведении самостоятельной политики, увеличил численность армии, пытался навести порядок в финансах за счет общих налогов. Сверх того, Станислав Август планировал отменить пресловутое liberum veto, которое фактически делало сейм неуправляемым.
Главным в послевоенных дискуссиях, особенно среди проигравших и малых государств, был вопрос о формах правления и социальной организации, наилучшим образом отвечающих потребности в успехе на международной арене. Посему сведения о конфликтах середины столетия, между 1740-м и 1763-м годами, противоречивы. Кому-то казалось, что преимущество за коммерческими парламентскими государствами; в пример ставилась невероятная способность Британии повышать налоги и привлекать кредиты для борьбы на два фронта – в Европе и Америке. Более того, сама Британия выигрывала от открытых дебатов на темы внешней политики, каковые помогали сплотить нацию. В других странах, однако, представительное правление очевидно терпело неудачи, прежде всего в Швеции и Польше. Сообщения о достижениях монархического правления тоже противоречивы. Восстановление штатгальтерства в Нидерландах не активизировало, как в прежние времена, голландскую внешнюю политику, и постепенный упадок Соединенных провинций продолжился. Поражения французов при Росбахе, на море и в Америке также не могли служить рекламой абсолютизма. С другой стороны, милитаристская и «персонализированная» монархия Фридриха Великого, несмотря ни на что, процветала. В тайных политических завещаниях 1752-го и 1768-го годов прусский король подчеркивал важность единоличного правления, которое, как он считал, реагирует на опасные ситуации лучше и быстрее, чем неуклюжие представительные или совещательные органы. В том и заключался парадокс Семилетней войны: победителями из нее вышли Британия и Пруссия, олицетворявшие два идеала государственного устройства – парламентаризм и абсолютизм.[346]
Общеевропейская волна внутренних и имперских преобразований, вызванная Семилетней войной и ее последствиями, вскоре обернулась чередой кризисов в государственной системе. Первыми «полыхнули» тринадцать колоний, где нарастал конфликт между поселенцами и метрополией. Поводами явились споры из-за хода войны и отношения британских военных к офицерам-колонистам. Американцы – особенно молодой Джордж Вашингтон – не слишком удивились поражению Брэддока на Мононгахеле, этому «колониальному Росбаху».[347] Королевский указ 1763 года заставил социальный «нарыв» лопнуть. Американские колонисты ожидали, что их вознаградят долиной реки Огайо. Они полагали, что никто, будь то король или министры, не вправе ограничивать территориальную экспансию империи. В колониальных собраниях Северной Америки начало проявлять себя «экспансионистское» лобби, которое рассуждало не только о расширении, но и о величии: им виделось единое британское геополитическое пространство на континенте – от моря и до моря, от Атлантического океана до Мексиканского залива.[348] Имперская экспансия, таким образом, стала частью американского проекта еще до независимости, и именно поэтому случилась революция.
Попытки британцев и испанцев провести имперские реформы быстро столкнулись с трудностями. Гербовый сбор 1765 года, целью которого было найти средства на новые вооруженные силы в Америке, вызвал яростные протесты, и его пришлось отменить. «Налоги Тауншенда», принятые в 1767 году, преследовали ту же цель, и их постигла та же судьба. Американцы были готовы – пусть и без удовольствия – согласиться с усилением влияния правительства ради экспансии, но мало кто хотел раскошеливаться ради соблюдения королевского указа. Между стратегическими потребностями Лондона и конституционными устремлениями колонистов пролегла роковая пропасть. Реформа, столь необходимая для сохранения империи, теперь угрожала с нею покончить. Желание Испании наладить оборону империи и добиться от колоний поддержки великодержавных устремлений короны в Европе также встретило ожесточенное сопротивлением и в 1765 году привело к восстаниям в Кито и Пуэбло.
Приблизительно тогда же программа реформ Станислава Августа Понятовского сделалась неприемлемой для выразителей иных интересов внутри Польши и за ее пределами. Прусско-российская интервенция в октябре 1766 года не позволила ввести общий налог и лишила страну надежды на независимое финансирование, в котором Польша так нуждалась для обеспечения своей обороны. Екатерина также тайно провоцировала народное возмущение. Около половины населения Польши, примерно 5 миллионов человек, исповедовало католицизм; четыре миллиона являлись униатами, то есть православными, признававшими власть папы римского. Остальные, около полумиллиона русских православных и примерно столько же протестантов, считались «раскольниками»; крупная еврейская община в этой классификации и вовсе не учитывалась. В 1767 году конфедерация протестантов и православных при поддержке России потребовала равенства вероисповеданий. В 1768 году король Станислав под нажимом согласился на «вечный мир», который закрепил права верующих – и утверждал доминирование русских Речи Посполитой. Это решение обернулось «патриотическими бунтами»: появилась Барская конфедерация, именовавшая Станислава царской марионеткой. Началась гражданская война. Русские войска вошли в Польшу для «защиты» православия. Опасаясь русского контроля над Польшей и возникновения угрозы своим северным границам, османы решили нанести упреждающий удар. Когда казаки в погоне за польскими конфедератами очутились на турецкой территории, Порта объявила войну Санкт-Петербургу.
Екатерина быстро расправилась с османами. В июле 1770 года турецкий флот был разгромлен при Чесме. Русские войска оккупировали Молдавию и Бессарабию и готовились войти в Валахию. Потсдам и Вена встревожились: они опасались, что победы Екатерины еще ощутимее сдвинут баланс сил в пользу Санкт-Петербурга. Русский «прилив» грозил захлестнуть южный фланг монархии Габсбургов. Фридрих боялся, что «война против турок решит польские дела» и откроет России прямую дорогу к еще большему вмешательству в ситуацию в империи.[349] Единственным мирным исходом виделся как можно более равный раздел территориальных завоеваний. В августе 1772 года три восточных государства объявили, что между ними будет проведен раздел территории Речи Посполитой. Значительный кусок Восточной Польши отходил России, австрийцы получили относительно богатую Галицию, а Фридрих аннексировал небольшую, но стратегически очень важную Западную Пруссию, соединив Восточную Пруссию с территориями прусского хинтерланда. «Неприкрытая дерзость» этого раздела доставила некоторое беспокойство Марии Терезии, однако обстоятельства не оставляли ей выбора. Она сразилась со своей совестью – и победила; как заметил Фридрих: «Плачет, но берет».
Спустя два года Екатерина заставила османов подписать Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Русские завоевания ограничились побережьем Черного моря. Более важным было неформальное влияние Санкт-Петербурга. Османы отказались от Крымского ханства, которое стало марионеткой России. Екатерина также вынудила Порту признать Россию гарантом прав балканских христиан, которых царица собиралась «защищать» подобно польским «раскольникам». Почти через год, в мае 1775-го, Австрия захватила Буковину, «красиво округлив» свою восточную границу.
Все это имело последствия, выходившие далеко за пределы Восточной Европы, Скандинавии и Балкан. Пал бастион, не пускавший Россию в Центральную Европу. «Польша, – писал ирландский политический философ и член британского парламента Эдмунд Берк, – являлась естественной преградой для Германии и для северных корон против сокрушительной силы и амбиций России». Раздел Польши угрожал «окончательно разрушить старую систему Германии и севера». Польша могла превратиться в «дорогу, по которой русские войдут в Германию».[350] Следовало ожидать дальнейших конкретных шагов в этом направлении. Борьба за Священную Римскую империю вступила в новую фазу.
Влияние международных кризисов на внутреннюю политику Западной Европы было весьма ощутимым. Франция осознала насущность создания в монархии стабильной финансовой базы. Повышение налогов было необходимым, но блокировалось парламентом, который отказывался одобрять королевские указы (вдобавок «капризность» парламента увеличивала для правящего режима стоимость кредитов на международных финансовых рынках). Конфликт, что называется, витал в воздухе, ибо расходы на Семилетнюю войну и на программу реконструкции флота после 1763 года требовалось как-то оплачивать. В 1768 году в Бретани произошла полномасштабная конфронтация: местный парламент обвинил губернатора в неконституционном повышении налогов для финансирования локальной обороны. Парламент в Париже и региональные парламенты поддержали Бретань. Ситуация выглядела тупиковой. Годом позже генеральный контролер предупредил, что «финансы Вашего Величества находятся в самом плачевном состоянии». У короны не осталось выбора. В январе 1771 года канцлер Мопу распустил парламент, несмотря на яростное сопротивление.
Международная турбулентность конца 1760-х и 1770-х годов усилила интервенционистские настроения в Европе. В 1770-х минимум трех германских князей арестовали за злоупотребление властью.[351] В Британии известные авторы и члены парламента, такие как Джеймс Босуэлл и Берк, выступали в защиту Корсики, которую французы оккупировала в 1768 году, изгнав харизматичного патриота Паскаля Паоли, и за свободу Польши.[352] Причиной многих интервенций являлись, разумеется, своекорыстные мотивы. В самом деле, эффективная защита прав меньшинств зависела от взаимосвязи чувств и стратегии; два этих элемента далеко не всегда можно было разделить. Сочувствие делу «свободы» на Корсике, например, проистекало из озабоченности за судьбу свобод в Британии и желания сдержать Францию, от которой эти свободы и зависели. С другой стороны, верно и то, что государства вмешивались в защиту прав, которые сами же нарушали, либо дома, либо за границей. Французская гарантия имперской конституции и обеспокоенность России нарушением польских «свобод» – самые яркие тому свидетельства. Многим европейским государствам или их населению поэтому можно простить некоторую двойственность отношения к интервенциям во имя «свободы» и «толерантности, но фактически нацеленным на сохранение подчиненного положения ряда стран».
При этом «гуманитарная обеспокоенность» не сводилась к стремлению отыскать соринку в глазу соседа и нежеланию увидеть бревно в собственном глазу. Данное утверждение можно проиллюстрировать примером карибского острова Сент-Винсент, аннексированного Британией у Франции и используемого для снабжения продовольствием Барбадоса. Некоторые считали, что туземцы заключили союз с французами на Мартинике. Местные плантаторы требовали колонизировать Сент-Винсент, и Лондон подумывал истребить караибов, однако отказался от этого намерения, посчитав его неэтичным. Депортация тоже виделась непрактичной, посему было рекомендовано создать резервацию. Когда туземцы оказали сопротивление, против них в 1772 году началась вооруженная кампания. Сообщения о зверствах британских войск вызвали громкие протесты в парламенте, зазвучали требования расследовать «жестокую и бессмысленную», как представлялось общественному мнению, операцию. Член парламента Барлоу Трескотик выступил от имени многих, когда осудил войну против «невинного и безобидного народа».[353] В том же году законодательно запретили рабство в самой Британии, хотя рабский труд по-прежнему широко использовался в колониях, а британские корабли продолжали возить рабов через Атлантику. Вскоре парламент приступил к изучению положения караибов. Очевидная «гуманитарная» озабоченность выплеснулась за пределы страны.
На другом берегу Атлантики набирала обороты совершенно иная критика британской внешней политики. Североамериканские колонисты тоже сокрушались о нарушении «свобод» на Корсике и публично чествовали изгнанного с родины корсиканского патриота Паоли.[354] Одновременно они протестовали против запрета британского правительства селиться на территориях к западу от Аппалачей и возмущались демонтажем фортов (исключительно по финансовым соображениям) за Аппалачами – эти форты предназначались для отражения набегов индейцев, а также для сдерживания франко-испанских притязаний на западные территории. В 1772 году случилось банкротство Ост-Индской компании, которая, как надеялся Лондон, должна была обеспечить своими финансами повсеместную защиту империи. Первый министр лорд Норт пытался спасти компанию в мае 1773 года посредством чрезвычайно непопулярного «чайного» закона. Примерно тогда же Лондон в итоге отверг долгожданный план создания новой западной колонии (современные западная Виргиния и восточный Кентукки) под названием Вандалия, в честь германских предков королевы Шарлотты. В мае 1774 года были эвакуированы Фолклендские острова – отчасти с целью экономии средств, отчасти ради умиротворения Испании. В глазах колониальных критиков Британская империя уже распадалась, задолго до революции. Можно сказать, что именно ощущение имперского упадка побудило колонистов к мятежу.[355]
Квебекский акт 1774 года стал последней каплей. Он сулил французским канадцам религиозную терпимость и был повсеместно воспринят как часть папистского заговора против протестантских свобод. Более всего колонистов возмутил способ, посредством которого этот закон определил внешние границы провинции. Все земли между Огайо и Миссисипи – с 1763 года бывшие предметом яростных споров между Лондоном и экспансионистским лобби колонистов – вошли в состав провинции Квебек. Для многих североамериканцев это угрожало окружением тринадцати колониями со стороны абсолютизма (этакой возрожденной Новой Франции). Поэтому в 1775 году колонисты пошли на конфликт с Лондоном из-за конституционных и стратегических противоречий, вызванных направлением британской внешней политики. «Первым принципом американской независимости и революции, который я когда-то принял и отстаивал, – признавался один из отцов-основателей Джон Адамс, оглядываясь назад, – была необходимость защиты от французов».[356]
Вскоре британские и местные силы схлестнулись при Лексингтоне.[357] Прогремевшие выстрелы «услышали во всем мире» не столько потому, что они предвещали «зарю свободы», сколько вследствие их влияния на международную государственную систему. На кону стоял ни больше ни меньше чем баланс сил в Европе. Без Америки – так полагали в Лондоне – Британия не сможет сдерживать Францию и Испанию по эту сторону Атлантики.[358] Напротив, многие европейские государства были убеждены, что если британцы победят в Америке, то скоро обретут такую силу, что станут попросту невыносимыми. Среди Бурбонов начался разлад, поскольку никто из них не хотел создавать опасный прецедент и открыто поддерживать мятежников против законной власти. В особенности это касалось Испании, которая имела схожие проблемы в своих обширных американских колониях. Тем не менее возможность сбить спесь с британцев была слишком хороша, чтобы ею не воспользоваться. Победа колонистов, как сказал в конце 1775 года первый министр Франции граф де Вержен, будет означать, что «могущество Англии ослабеет, а наша мощь возрастет в той же степени».[359]
Американские патриоты между тем были убеждены, что смогут уцелеть только через интернационализацию конфликта. Им предстояло убедить Европу в том, что, как выразился Бенджамин Франклин, дело американцев есть «дело всего человечества: борясь за свободу Европы, мы отстаиваем и нашу свободу».[360] В данном контексте под свободой подразумевались конституционные свободы и европейский баланс сил. В марте 1776 года был организован тайный Комитет корреспонденции, которому поручили налаживать иностранные связи и искать снаряжение за рубежом; этот комитет направил Бенджамина Франклина посланником во Францию. Мятежники также отправили своего представителя в Вену – чтобы лишить британцев возможности привлекать немецких наемников для войны в Америке. По меньшей мере треть британских войск в Америке состояла из уроженцев Священной Римской империи; для колонистов связь между несвободой в Европе и их собственной безопасностью была столь же очевидна, как и во времена Людовика XIV и Людовика XV.[361] Эти шаги определялись собственной несокрушимой логикой, поскольку полные и открытые альянсы с европейскими странами были невозможными, пока колонисты считали себя подданными короны. Том Пейн в воодушевляющем памфлете «Здравый смысл» утверждал, что только независимость позволит американцам заручиться иностранной поддержкой, необходимой для защиты революции.
Дипломатия являлась лишь одним из способов защиты революции и обретения независимости. Многие американцы, однако, стали рассматривать собственную безопасность и свою миссию в мире в более широком смысле. С самого начала они полагали исключительными и «импортируемыми» как самих себя, так и свое государство. Америка, заявлял Пейн, «сражается не только ради себя, но и ради всего мира, и смотрит далее преимуществ, которые может получить сама»; ее дело – это «в значительной мере дело всего человечества».[362] Отстаивая принцип самоопределения в век империй, республиканизм во времена монархии, конституцию в мире традиционного корпоративизма и абсолютистского правления, свободную торговлю в период торжества меркантилизма, будущие Соединенные Штаты надеялись изменить мир.[363] Как говорил Пейн, «идея прорвется там, где не пройдет армия солдат; она преуспеет там, где дипломатия потерпит крах»; «ни Рейн, ни Английский канал, ни океан… не смогут остановить ее распространение, она достигнет горизонтов мироздания и победит». Когда это произойдет, распространившаяся свобода приведет к всеобщему миру, народы будут свободно торговать и разоружаться. Однако Пейн был не только интернационалистом, но и ярым противником интервенционизма, выступал против всех международных войн и считал их заговором, целью которого является подчинение и обман народов. Со временем, впрочем, многие американцы поверили в то, что их свобода может сохраниться только при активном распространении по всему миру, начиная с соседних стран. Едва эта вера утвердилась, Соединенные Штаты принялись менять мир своими действиями.
Американская декларация независимости, принятая 4 июля 1776 года, не создала единое государство. Она четко обозначила сосуществование «свободных и независимых штатов». Но все же, чтобы вести войну с Британией, новой стране очень скоро пришлось приобрести некоторые черты единого государства. В ноябре 1777 года после долгих и ожесточенных споров Конгресс согласовал статьи устава Конфедерации, где оговаривались рудиментарные общие монетарная, налоговая и кредитная политики. Штатам возбранялось далее печатать свои деньги, они обязывались платить Конгрессу процент с налоговых сборов и индивидуального земельного налога. Статьи обеспечили национальное единство, пусть и весьма несовершенным способом. Налоги «на Конгресс» являлись добровольными и очень часто не платились вовсе, причем единственным наказанием служило «публичное оглашение» имен нарушителей. Американцы поэтому отстаивали независимость конфедерации, а не единого государства и даже не союза штатов.[364]
Тем временем император Иосиф II и канцлер Кауниц вознамерились изменить геополитическую колоду, которую они исторически тасовали в Европе. В конце 1777 года Иосиф перехватил инициативу. Его дипломаты убедили курфюрста Пфальца Карла Теодора согласиться на частичный обмен австрийских Нидерландов на наследство в Баварии. Таким образом Иосиф надеялся обменять «мутные» геополитические обязательства на актив, сопряженный с основной территорией монархии. Этот маневр спровоцировал немедленный ответ Фридриха Великого, который опасался изменения баланса сил в Германии. Фридрих хотел сохранить империю в равновесии и тем самым лишить австрийцев возможности использовать императорскую корону для мобилизации потенциала Германии против Пруссии. Фридрих фактически противопоставлял себя австрийцам, становился своего рода «контримператором», пытаясь привлечь на свою сторону малые княжества ради сохранения статус-кво. С учетом альянса Габсбургов и Бурбонов, казалось, что американские и германские конфликты сольются в один большой пожар, подобный Семилетней войне.
Война за баварское наследство поставила Францию перед дилеммой. В феврале 1778 года Людовик XVI, связанный договором с Австрией, сказал: «Мы должны поддержать в Германии репутацию Франции, которая в последнее время подвергалась яростным атакам», не в последнюю очередь потому, что «гарантии Вестфальского мира неотделимы от французской короны».[365] Против этого императива был очевидный факт: интервенция грозила новым фронтом в Европе в тот самый миг, когда Франция получила возможность нанести Британии роковой удар за океаном. В конце концов французы решили остаться в стороне и позволить событиям в Центральной Европе идти своим чередом. Вместо этого, будучи давними тайными сторонниками колонистов и воодушевившись победой над англичанами при Саратоге в 1777 году, французы в 1778-м открыто вступили в войну за независимость США, а в 1779-м к ним присоединилась Испания. Британия лишь чудом избежала совместного вторжения Бурбонов. На следующий год и голландцы, разъяренные «морским высокомерием» Британии, присоединились к числу ее противников. Примерно тогда же Екатерина Великая, оскорбленная действиями Королевского флота против судоходства невоюющих стран, учредила Союз вооруженного нейтралитета. Отныне Британия, по горьким словам главы Адмиралтейства графа Сэндвича, «вступила в войну… со всем миром. Объединенные державы расчленят наше государство и поделят его между собою, как пожелают».[366]
Перед лицом такого вызова Британия начала самую интенсивную мобилизацию в истории. За три года – с 1778-го по 1780-й – Королевский флот вдвое увеличил численность кораблей линии,[367] число моряков возросло более чем на 50 процентов. Британское правительство начало задумываться о способах привлечения обширных людских ресурсов католической Ирландии, игнорируя возражения местных протестантов, не желавших призыва в армию католиков.[368] В 1778 году были обнародованы первые послабления для католиков, а в следующем году появился закон о правах диссентеров. При этом многие британцы опасались, что монархия рано или поздно получит преимущество перед представительным правительством. Последние пятьдесят лет показали, что «свободные» политии Польши, Швеции и Соединенных провинций находятся в необратимом упадке. Казалось, что будущее за центрально- и восточноевропейскими автократиями, приучившими подвластные народы к военной мобилизации и экспансии. Как отметил в середине марта 1778 года заместитель британского государственного секретаря по вопросам войны, «крупные военные державы во внутренней части Европы, которые объединили огромные богатства и сформировали из своих подданных многочисленные армии, в ближайшее время и в последующие годы станут господствовать в Европе».[369]
Неповоротливость не позволила британской военно-финансовой машине изменить ход событий в Америке и сохранить морское превосходство Британии, когда это сделалось насущным. Самоизоляция Британии от Европы оказалась фатальной. Не затронутые сухопутной войной в Европе Бурбоны, как и предсказывали виги, превзошли Британию на море. Франция не только установила временный контроль над водами у берегов Северной Америки, но и отправила контингент на помощь Вашингтону. В 1781 году объединенная французско-американская армия блокировала в Йорктауне крупное британское соединение и принудила его сдаться. Правительство лорда Норта не пережило этого удара. Новая администрация вскоре заговорила о мире.
Парижский мирный договор 1783 года, который завершил американскую войну, произвел революцию в международной государственной системе. Британскую империю поделили между собой Франция, Испания и колонии. Британии пришлось признать независимость тринадцати колоний. Она сохранила Гибралтар, но Флорида и Менорка отошли Испании, а Франция вновь обрела Луизиану. По словам торжествовавшего Вержена, Франция «избавилась от пятна 1763 года». Более того, в Западном полушарии появилось новое государство, и дальновидные обозреватели уже предрекали, что эстафета мирового господства вскоре перейдет от Британии к Соединенным Штатам. «Этот маленький остров [Англия], – заметил Хорас Уолпол, услышав о Декларации независимости, – когда-нибудь станет смехотворно гордиться былой славой и говорить, что его столица была когда-то не меньше Парижа или – как там будет называться город, что станет диктовать законы Европе? – возможно, Нью-Йорка или Филадельфии». Когда некий француз предсказал, что тринадцать штатов станут «величайшей империей в мире», член британской делегации в Париже парировал: «Да, сэр, и они будут говорить по-английски, все до одного».[370]
Влияние американской войны на европейскую политику было колоссальным. Во Франции война привела к возрождению поддержки старого режима. Впоследствии один наблюдатель напомнил французам: «Вы сами, в ваших домах, в публичных местах, в кафе и даже в тавернах, видели в воображении, как весь английский флот поглотила морская пучина, и поднимали стаканы за удовольствие отмщения».[371] Но чувство эйфории быстро иссякло. Расходы на войну были огромными, оплачивали их преимущественно кредитами, а не за счет новых налогов, что заставляло беспокоиться о кредитоспособности старого режима. Финансовые рынки, иностранные и отечественные, требовали прозрачности, как и французская общественность. В феврале 1781 года Жак Неккер опубликовал свой знаменитый «Отчет королю» о состоянии казны, и всего за год было продано 100 тысяч экземпляров этого документа. В намерения автора входило укрепить «совещательность» политики и обеспечить выделение новых кредитов, но оказалось, что Неккер подорвал доверие к правительству. К осени 1783 года корона очутилась на грани банкротства.
Головную боль вызывали не только финансы, но и стратегическая неопределенность. Невмешательство Франции в войну за баварское наследство открыло дверь для дальнейшего «погружения» России в дела Священной Римской империи. В начале 1770-х годов Екатерина расширила сферу своего влияния благодаря браку сына и наследника с немецкими принцессами: в 1773 году Павел женился на Вильгельмине Гессен-Дармштадтской, а после смерти супруги в 1776 году мать женила его на принцессе Вюртембергской Софии-Доротее. Русское дипломатическое присутствие в имперском сейме и в мелких принципатах существенно возросло. Царица хотела не просто признания своего императорского титула, ей требовался решающий голос в делах Священной Римской империи. В октябре 1779 года она обронила, что «Россия давно желала стать гарантом конституции Германской империи», поскольку такая власть «обеспечила Франции выдающееся влияние» в Европе.[372] Желания царицы привели к заключению Тешенского договора, который подытожил войну Австрии и Пруссии за Баварию. Иосиф вынужден был уступить. Посредничество Екатерины сделало Россию «опекуном» Священной Римской империи. «Русских, – заметил один британский дипломат, – следует отныне считать арбитрами Германии».[373] В декабре 1778 года французский посол в имперском сейме жаловался, что после полутора веков доминирования Франции в германской политике ее вытеснила Россия. Это имело огромное значение, поскольку, как заметил на следующий год Вержен, «Германия вполне способна навредить Франции. Территория у нее самая большая и густонаселенная… Легко понять, какие преимущества перед нами она получит, если эту грозную силу не ограничивало бы ее собственное устройство… Мы обязаны своим превосходством и своей безопасностью исключительно разъединенности Германии и недостаткам ее устройства».[374] Франция поэтому оправданно опасалась, что империя попадает во вражеские руки.
В Британии американская война спровоцировала яростные дебаты относительно причины поражения. Многие соглашались, что возрождение потребует фундаментальных внутренних реформ. Некоторые верили, что достаточно духовного и морального возрождения. Другие полагали, что для мобилизации национальной энергии на общее дело необходимо расширение политического участия. Многие поддерживали идею «экономических реформ» для приведения в порядок финансов. Почти все соглашались с тем, что следует полностью изменить большую стратегию. Нужно строить «вторую», географически еще более обширную империю, а для того надлежит воспользоваться «демографическим резервом» американских лоялистов, среди которых было много освобожденных чернокожих рабов.[375] В 1788 году на побережье Австралии ступили первые поселенцы, вскоре появились новые колонии или стали расширяться старые – в Африке, Азии и в Америке, особенно в Канаде. Главной задачей, однако, виделся пересмотр прежних альянсов, прежде всего в Центральной Европе. «Морской» подход тори оказался дискредитирован в силу пренебрежения к континентальной «запутанности». В декабре 1783 года дипломат и член парламента сэр Джеймс Харрис заявил, что «восстановить наше влияние на континенте, заключив разумные альянсы, – таково желание всякого человека, хоть немного сознающего интересы страны».[376] Впредь Британия никогда не пыталась изолироваться от Европы.
В середине 1780-х годов Иосиф II приступил к осуществлению внутренних реформ для укрепления Габсбургской монархии.[377] Были отменены все внутренние налоги, за исключением тех, что взимала Венгрия со своих наследственных земель; сняли ограничения с некоторых гильдий. Иосиф также намеревался покончить с доминированием иерархов римской католической церкви. В 1781 году императорский эдикт о веротерпимости даровал послабления евреям и протестантам; целью было не просто привлечь «еретиков» к служению государству, но и помешать иностранным державам, в особенности Пруссии и России, воспользоваться религиозным расколом как своим стратегическим преимуществом. Иосиф провел литургическую реформу, попытался «рационализировать» границы епископатов, распустил сугубо «умозрительные» монашеские ордена и в целом поддерживал «смиренное», покровительствующее бедным, «рациональное» и менее «вычурное» католичество, уважающее его власть и чуткое к нуждам его подданных (как ему казалось). Еще император, чтобы укрепить власть короны, попробовал сократить полномочия представительных собраний, особенно в Венгрии и австрийских Нидерландах. К середине 1780-х годов Иосиф подступил к решению важнейшего вопроса – проблемы крепостничества и «тройственных» отношений короны, дворянства и крестьянства; он полагал, что эти отношения нуждаются в срочной корректировке.
Все перечисленные меры были призваны сделать Австрию более значимым игроком на международной сцене, однако с точки зрения дипломатии они обошлись дорогой ценой. Реформы вызвали изрядное неудовольствие дома – прежде всего у духовенства и венгерского дворянства; это недовольство было чревато не только сопротивлением, но и сотрудничеством с иностранными державами. Пересмотр границ епископатов возмутил иерархов римской католической церкви. Своеволие Иосифа убедило многих германских князей, что император не защищает привычное устройство империи и представляет собой серьезную угрозу ее целостности. Самое главное «зло» политики Иосифа заключалось, однако, в его намерении обеспечить территориальную консолидацию монархии, и ради этой цели он, в случае необходимости, готов был попрать права княжеств империи. В ноябре 1784 года он вернулся к своему плану по обмену австрийских Нидерландов на Баварию. Это породило в обществе опасения касательно возникновения новой габсбургской универсальной монархии в Германии, появление которой нарушит баланс сил на континенте. На сей раз – благодаря нескрываемому презрению Иосифа к имперским устоям – к Фридриху присоединились многие традиционные союзники Габсбургов, например, имперский эрцканцлер и курфюрст Майнца. В 1785 году образовался Союз германских князей, показавший, что империя все еще в состоянии дать согласованный дипломатический отпор внутренним угрозам. Иосифу снова пришлось отступить; дорогостоящие неудачи его внешней политики обернулись массовой критикой внутри империи.[378]
Россия благоразумно не спешила воспользоваться своим влиянием в империи. Вместо этого Екатерина пожертвовала своими немецкими амбициями в обмен на союз с Австрией ради движения на юг. Следующий шаг Россия сделала не в Центральной Европе, а на Балканах и на Черном море, с целью обрести альтернативную «римскую» легитимность.[379] Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года наделил Россию правом вторгаться в Османскую империю от лица православных христиан, и этим правом Екатерина безжалостно пользовалась через сеть своих консульств. На карте возник номинально независимый Крым, который тут же раскололся на пророссийскую и проосманскую фракции. В ноябре 1776 года Екатерина направила туда войска и вмешалась в гражданскую войну; в 1783 году она полностью аннексировала Крым. Все это было частью более широкого «греческого проекта», который подразумевал захват Константинополя, восстановление главенства православия и закрепление за Россией статуса «третьего Рима».[380] Поэтому в 1779 году Екатерина окрестила своего новорожденного внука Константином, а на арке российской базы в Севастополе появилась надпись «Дорога в Византию».[381]
Прочитав, так сказать, слова на стене, османы в 1787 году нанесли по России превентивный удар. Однако русские снова контратаковали и продвинулись далеко на юг. Две державы Центральной Европы отреагировали незамедлительно, ведь неспособность ответить могла означать полное поглощение Россией Османской империи или, по меньшей мере, ее европейской части; в этом случае монархия Габсбургов оказывалась опасно уязвимой с востока. Посему в конце 1787 года Иосиф вступил в войну на стороне России – с условием, что территориальные завоевания будут поделены поровну. Этот шаг императора встревожил Пруссию. Наследник Фридриха Великого, Фридрих-Вильгельм II, счел, что успешная австро-русская кампания против турок ослабит его собственные позиции. Пруссии также угрожали с запада, где патриотическая партия, которую поддерживал союзник Австрии – Франция, набирала силу в Соединенных провинциях. Война на два фронта казалась вполне реальной. Когда патриоты захватили жену штатгальтера (сестру Фридриха-Вильгельма), прусский король решил действовать. В 1787 году он вторгся в Голландию и восстановил Оранский двор. Через год он заключил Тройственный союз с Голландией и Великобританией. Обезопасив свой западный фланг, Фридрих-Вильгельм начал переговоры с поляками, шведами и османами. В январе 1788 года прусский первый министр Эвальд-Фридрих фон Герцберг раскрыл «Великий план» территориальной реорганизации, который «уравновешивал» территориальные приобретения трех восточных держав. Австрийцам позволялась ограниченная экспансия на Балканы, однако они должны были вернуть Польше Галицию, Польша в свою очередь отдавала Пруссии Данциг и Торунь. Иосиф пришел в бешенство. Он заявил, что будет «биться до победного конца, прежде чем позволит королю Пруссии завладеть хотя бы одной деревней», не говоря уже об осуществлении «этого нелепого плана во всей полноте».[382] Чтобы ослабить давление на турок, шведы тем летом напали на Россию. Большая европейская война подступала все ближе.
Эти события сильно отразились на Соединенных Штатах Америки, первом независимом европейском государстве, основанном на дальнем берегу Атлантики. «Над Европой некоторое время сгущаются тучи, – замечал Александр Гамильтон. – Если грянет буря, кто может обещать, что на своем пути эта буря не затронет нас?» Нейтралитета или сдержанности будет недостаточно. «Нужно помнить, – продолжал Гамильтон, – что не всегда мы можем выбирать – мир или война; мы можем быть сколь угодно умеренными или лишенными честолюбия, но нельзя полагаться на умеренность или надеяться утолить амбиции других».[383] Способность даже малых стран навредить американским интересам была продемонстрирована, когда после революции Америка лишилась защиты британского Королевского флота. Американские торговые суда немедленно подверглись нападениям берберских пиратов из Северной Африки. Речь ни в коем случае не шла просто о защите «чести»: активная коммерция рассматривалась как необходимое условие укрепления молодой республики в соперничестве с Францией и Британией.[384] В марте 1785 года посол Триполи в Лондоне уведомил Томаса Джефферсона и Джона Адамса, что все народы, не признающие авторитет Корана, являются «грешниками, так что теперь мы вправе и обязаны объявить войну любому, кого найдем, и обратить в рабство всех, кого захватим». Попытки договориться с пиратами лишь привели к возрастанию их требований. Другими словами, США волей-неволей пришлось взаимодействовать с мусульманским миром.
Многочисленные угрозы новой республике возникали и рядом с домом. В 1784 году Испания закрыла Миссисипи для навигации и занялась строительством укреплений в Техасе. Это спровоцировало негодование колонистов. «Разве мы прислуживаем испанцам, как некогда дети Израилевы прислуживали египтянам?» – вопрошало открытое письмо, которое зачитывали в 1786 году на городских собраниях и на заседаниях судов.[385] Министр иностранных дел Джон Джей гадал, на самом ли деле французы «окончательно отринули мысль обзавестись собственными колониями в Америке». Именно страх перед превентивным нападением со стороны любой европейской державы побуждал молодую республику вкладывать средства в изыскательские экспедиции на запад.[386] Хуже того, Британия удерживала Канаду и вернула себе господство на море после короткого периода в ходе войны за независимость. Британцев подозревали не только в том, что они подбивают к мятежу индейские племена, но и в том, что они готовят восстание в западном Массачусетсе. В результате, как заметил Гамильтон в середине декабря 1787 года, «с территориями Британии, Испании и индейских племен по соседству с нашими… Союз окружен от Мэна до Джорджии».[387] Иными словами, все те проблемы, которые привели к отделению от Британии, так и остались нерешенными.
Более того, конституционные механизмы, унаследованные от революции, совершенно не годились для вызовов конца 1780-х годов. В стране не существовало реальной исполнительной власти, Конгресс не имел возможности повышать налоги для оплаты общенациональных проектов, а все международные договоры подлежали ратификации каждым штатом, прежде чем вступить в действие. Долги времен революции в основном лежали на отдельных штатах, однако на их возмещение надежд было мало, а это подрывало доверие к кредитоспособности государства в целом. Союз не имел полноценной армии, поскольку штаты не могли договориться, как оплачивать ее содержание; вдобавок многие американцы опасались, что такая армия может быть использована для подавления свобод. Узы, объединявшие конфедерацию, были настолько непрочными, что многие полагали, будто Союз в скором времени распадется на части или погрузится в гражданскую войну. Этот страх особенно ощущался в связи с волновавшим всех вопросом относительно Запада. Гамильтон предвидел «территориальные споры» относительно «широких просторов западных земель».[388] Более того, провал попытки подчинить себе Запад, оставив вакуум власти, которым не преминут воспользоваться иностранные державы. Опасались, что население территорий между Аппалачами и Миссисипи выступит за воссоединение с Британией, захочет попытать счастья с Испанией или даже создать независимое государство. Требовалось сделать выбор: либо американцы сплотятся ради государства, способного вести войну и расширять свою территорию, либо они начнут воевать друг против друга и падут в итоге жертвами экспансионизма других стран.[389]
В 1787 году представители тринадцати колоний собрались в Филадельфии для пересмотра статей конфедерации. Итоговое обсуждение, одна сторона которого вошла в историю благодаря спорам между Александром Гамильтоном, Джоном Джеем и Джеймсом Мэдисоном в газете «Федералист», в основном опиралось на приоритет внешней политики. «Безопасность от внешней угрозы, – писал Гамильтон в ноябре, – вот наиболее могучая сила, определяющая поведение народа».[390] Именно с этой точки зрения Мэдисон и Гамильтон изучали «федеральную систему» Германской империи и признали ее «немощным телом, не способным к управлению собственными членами, одолеваемым нескончаемым брожением в кишечнике и беспомощным перед внешними угрозами». Далее они отмечали, что «военным приготовлениям должны предшествовать столь долгие и утомительные дискуссии, вызванные ревностью, гордостью, различиями во взглядах и столкновением претензий суверенных органов, что, прежде чем сейм примет какое-либо решение, враг уже подступит к воротам». Даже если преодолеть многообразные препятствия на пути к единению, полагали Мэдисон и Гамильтон, «никто из соседних стран не потерпит революции, которая наделила бы империю силой и могуществом соответственно именованию». Что касается Польши, она «совершенно не пригодна к самоуправлению и самообороне и давно сдалась на милость могущественных соседних стран, которые недавно милосердно избавили ее от трети территорий и населения».[391] Среди всех европейских прецедентов лишь один заслужил одобрение «Федералиста» – англо-шотландская уния 1707 года, когда две страны, прежде столь недружественных, объединились для противостояния врагам. Джей увидел здесь «единый и совершенный союз», если воспользоваться словами из послания королевы Анны шотландскому парламенту в июле 1706 года, которое он сочувственно процитировал и прибавил, что уния является примером для Американской республики.[392]
Конституция, текст которой был согласован в Филадельфии в 1787–1788 годах, показала, что американцы учились на собственном опыте и на опыте британцев, немцев и поляков. Подобно шотландцам с англичанами, они внесли в преамбулу упоминание о готовности к «более совершенному союзу». Ни один штат не получил права вето. Все решения на конвенте принимались большинством штатов, единогласия не требовалось. Сильная исполнительная власть была установлена в форме президентства, которому поручалось проводить внешнюю политику и заключать договоры, но последние подлежали одобрению обеими палатами Конгресса – сенатом и палатой представителей. Американцы учли случившееся в Польше, а потому была учреждена коллегия выборщиков – по предложению аристократа-южанина, представителя Южной Каролины Пирса Батлера, чтобы затруднить внутренние интриги и возможный подкуп со стороны иностранных государств. Все долги штатов были «федерализированы», что помогло возродить общественное доверие. Существование рабства признавалось статьей конституции, где говорилось о «трех пятых прочих лиц» и распределении налогов и подразумевалось допущением, что рабовладельческие штаты и само рабство могут «прирастать» территориально.[393] В то же время участники конвента согласились ликвидировать работорговлю в течение двадцати лет; все ожидали – по крайней мере, на севере, – что само явление постепенно исчезнет как таковое. В том же году ордонанс о Северо-Западной территории установил, что территориальная экспансия будет продолжаться через присоединение новых штатов к Союзу на условиях полного равенства с существующими штатами, а не за счет укрупнения нынешних штатов. В ордонансе также оговаривалось, что земли к югу от Великих озер и к северу от реки Огайо должны оставаться свободными, тогда как Юго-Западный ордонанс допускал рабство в штатах, которые могут появиться на юге и на западе. Конституция вступила в силу в июне 1788 года. Американцы, как и их европейские соперники, изменили свою внутреннюю политику, чтобы стать более конкурентоспособными в международной государственной системе.[394]
Американцы отвергли альтернативное решение своей стратегической проблемы, то есть создание на русско-прусский манер «служилого дворянства», призванного защищать независимость страны. Разумеется, некоторые патриоты носились с идеей создания американской аристократии из числа ветеранов войны за независимость. Общество Цинциннати считалось «обществом друзей», призванным «сохранять права и возвышенные свободы человека, за которые они сражались и проливали кровь», совершенствовать «союз и национальную честь штатов Американской империи [sic!] и оказывать благотворительную помощь нуждающимся офицерам и их семьям».[395] Несмотря на заинтересованность отцов-основателей, особенно Джорджа Вашингтона, общество Цинциннати не преуспело в своих начинаниях, в значительной степени потому, что оно погрязло в решении вопросов наследства. Вместо аристократов молодая республика создала небольшую регулярную армию, которую при необходимости дополняло крепкое народное ополчение. Этот компромисс засвидетельствовала Вторая поправка к конституции, которая определяла, что «хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства», а потому «право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться».[396] Время покажет, какой из двух способов мобилизации общества на войну – способ континентальной Европы или Континентального конгресса – окажется наиболее эффективным.
Весьма похожие дискуссии сотрясали Центральную и Восточную Европу. Поляки с тревогой наблюдали в 1787–1788 годах за коллапсом Османской империи, опасаясь стать следующими. Не намеренный сдаваться без борьбы, король-реформатор Станислав Август в октябре 1788 года созвал четырехлетний сейм. В отличие от предыдущих это заседание не завершилось после шести недель работы; парламент образовал конфедерацию, которая объявила, что не прекратит своей деятельности, пока страна не окрепнет. На повестке были вопросы, которые следовало решить, если Польша желает дожить до конца столетия: реформа армии и финансов и отмена пресловутого аристократического вето. Целью этой программы было предотвратить очередной раздел страны и превратить Польшу в страну, заслуживающую партнерства в международных альянсах. Реформы, как сказал Станислав Екатерине в ходе встречи в мае 1789 года, позволят Речи Посполитой отправить крупную армию против турок и даже претендовать на участие в разделе добычи. Польский король требовал компенсации за потери 1772 года – в виде Бессарабии, части молдавских территорий и порта на Черном море. Екатерина отказалась, однако неохотно согласилась отвести свои войска от польских границ. Впервые за последние двадцать лет казалось, что Польша снова может стать независимым игроком на европейской сцене.
В Германии страх перед «полонизацией» – то есть разделом страны по воле иностранных держав (Австрии или Пруссии) – заставил вернуться к обсуждению имперских реформ. Работу сейма в 1760–1780 годах практически парализовали региональные и конфессиональные противоречия, однако Союз князей показал, что согласованные коллективные усилия по защите государственного устройства вполне возможны. В июле 1787 года Карл фон Дальберг, коадъютор, заместитель и официально назначенный преемник эрцканцлера империи, приступил к реализации программы реформ, призванных восстановить сплоченность империи и задать общую цель. Дальберг заявлял, что нынешнее устройство империи «никуда не годится» и «делает империю достойной презрения в глазах соседей». Спасение виделось в «вечной электоральной капитуляции», или в «постоянной конституции» для империи,[397] что должно привести к появлению более сильной исполнительной власти, которая станет претворять в жизнь решения, одобренные сеймом. Некоторые также призывали к более широкому политическому участию в делах империи. Кристоф Людвиг Пфайффер, поборник Габсбургов, утверждал в 1787 году, что выборы в империи не могут быть прерогативой исключительно девяти курфюрстов, в них должны принимать участие все представительные собрания страны, входящие в сейм. Эти инициативы ни к чему не привели; в отличие от американских штатов, германские княжества и земли не хотели жертвовать своими интересами ради общего блага. В итоге конфликт между безопасностью империи и «германскими свободами» остался неразрешенным.
Самый выразительный ответ на вызовы внутри европейской государственной системы в конце 1780-х годов был дан во Франции. В августе 1786 года генеральный контролер финансов Шарль Александр де Калонн признал, что монархия обанкротилась. В феврале 1787 года Людовику XVI пришлось созвать собрание нотаблей. Через три месяца собрание распустили, поскольку оно так и не согласовало финансовую реформу. В результате монархия, к своему унижению, оказалась неспособной вмешаться, когда в сентябре 1787 года Пруссия вторглась в Голландию. «Франция пала, – заметил Иосиф, – и я сомневаюсь, что она когда-либо воспрянет».[398] Для политической нации, терпение которой истощилось после поражений внешней политики Бурбонов, это стало последней каплей; старый режим угодил в кризис легитимности в собственной стране.[399] Но не только монархия несла ответственность за неудачи французской внешней политики; ненавистный альянс с Австрией обрек на поток обвинений королеву Марию Антуанетту, родом из семейства Габсбургов.[400] Она олицетворяла габсбургский «деспотизм», иноземные «манипуляции» и «противоестественное» женское влияние. Нельзя сказать, что все нападки были несправедливыми: все знали, что королева дипломатически поддерживала своего брата Иосифа и вынашивала планы раздела давнего союзника Франции, Османской империи. Мария Антуанетта сделалась мишенью для шовинистической, порнографической и даже женоненавистнической критики со стороны «нижних уровней» публичной сферы. За этим «фасадом» скрывались финансовые и политические претензии. Обращая внимание на многочисленные провалы в политике, один критик спрашивал, может ли королевский министр «и далее тратить столько средств ради своих планов?» И отвечал: «Нет – без согласия народа».[401] Суть подобных доводов была очевидна: повышение налогов, которого требовали великодержавные амбиции Франции, не могло состояться без расширения политического участия.
Людовик XVI и его министры оказались заложниками ситуации. Сама политическая нация и финансовые рынки, внутренние и внешние, утратили доверие к большой стратегии Бурбонов. Это означало, что монархии отныне приходилось заимствовать по чрезвычайно высоким ставкам, что, в свою очередь, уменьшало дипломатические и военные возможности Бурбонов. В марте 1789 года министр иностранных дел граф де Монморан предупредил, что любые дипломатические инициативы невозможны до тех пор, пока не будет преодолен внутренний кризис и Франция «не восстановит свою силу и власть».[402] «Пауза» лишь усугубила положение старого режима, породив деструктивный цикл, из которого не было выхода. Различные «уловки» сменявших друг друга правительств, повышение налогов, «принуждение» представительных собраний и тому подобные действия только загоняли монархию в яму. Успешная война под девизом защиты свобод Голландии могла, конечно, сотворить невозможное. Ненавидевший Австрию граф де Сегюр заметил, что она «отвлекла бы страсти, обуявшие страну и сбивающие ее с верного пути». Но этого не случилось, продолжал де Сегюр, поскольку правительство «робело перед нашими заклятыми врагами, зато с народом вело себя слишком смело».[403] Другими словами, монархия отказывалась защищать стратегические интересы в Европе, и потому ей пришлось вступить в конфронтацию с собственным народом.
В середине августа 1788-го Людовик XVI наконец согласился созвать Генеральные штаты, впервые с 1614 года. Были поданы петиции о страданиях – cahiers de doleances. В этих жалобах монархия характеризовалась как форма правления, «наиболее подходящая для внутреннего спокойствия и безопасности от внешней угрозы»; никто не требовал ликвидировать аристократию как таковую, предлагалось лишь заставить ее лучше служить интересам народа.[404] Заседание Генеральных штатов состоялось в мае 1789 года. К этому моменту, однако, политическая нация окончательно утратила доверие к монарху и его министрам. Инициатива перешла к третьему сословию. Традиционное посословное голосование, при котором предпочтение отдавалось духовенству (первому сословию) и нобилитету (второму сословию) заменили общим поименным голосованием, которое благоприятствовало более многочисленному третьему сословию. В середине июня Генеральные штаты объявили себя Национальным собранием и очень скоро принесли «клятву в зале для игры в мяч»: не распускаться, пока не будет утверждена новая конституция Франции. 14 июля народ взял штурмом Бастилию. В сельской местности во второй половине июля разразился «Великий страх» (Grande peur) перед нападением австрийцев, начались нападения на аристократов и владения. При этом уничтожать монархию реформаторы не собирались, совсем наоборот. Стряпчий Пьер-Луи Люкретель сказал так: «Августейшая монархия соответствует нашей природе и нашей морали. Мы не ставим целью ослаблять ее, мы всего лишь хотим ее упорядочить, дабы она стала сильнее».[405] У Людовика все еще была возможность укрепить корону благодаря активной внешней политике.
Волна революционных перемен, захлестнувшая Францию в 1789–1790 годах, имела множество причин, но основной движущей силой революции являлось стремление улучшить французское общество, чтобы оно содействовало восстановлению величия Франции на европейской сцене. Главная роль в этом отводилась аристократии. Но за год реформаторы убедились в том, что аристократия не способна вспомнить о своем «воинском» предназначении. В начале августа Национальное собрание отменило все феодальные привилегии во имя создания социального порядка, основанного на заслугах, а не на праве по рождению. В конце месяца была опубликована Декларация прав человека и гражданина. В ноябре дошла очередь до первого сословия, которое также «пережило свою полезность»; декрет национализировал церковную собственность. Ожидаемые доходы от продажи церковных земель зафиксировали в ассигнациях, которыми оплачивали государственные расходы. В середине февраля 1790 года было запрещено монашество, а в июне официально отменен институт наследственного дворянства. Через месяц гражданская конституция духовенства подчинила церковь государству, в ноябре от священников потребовали поклясться в лояльности властям в соответствии с этим документом. Многие национальные и языковые меньшинства королевства – бретонцы, фламандцы, баски, каталонцы и немцы – подпали под пресс настоятельных призывов принять французский язык и французские обычаи. То же произошло с различными диалектными группами, особенно на юге и западе. Цель всех этих мер, как заявил революционер Эммануэль Сийе, заключалась в том, чтобы «собрать Францию воедино и свести все народы, ее населяющие, в единую нацию».[406]
Поначалу все случившееся не вызвало заметного интереса в крупных европейских странах. В целом переменам во Франции симпатизировали. Многие британцы верили, что французов вдохновила «славная революция» вигов, и потому предсказывали «торжество свободы» континентальному сопернику. В Потсдаме и Вене прусский министр Герцберг и император Иосиф II приветствовали победу принципов просвещенного правления. Насильственная реставрация монархической власти во Франции не входила в планы европейских правительств. «Без сомнения, – констатировал Кауниц в конце июля 1789 года, – мы не можем вмешиваться ни в коем случае».[407] Сама Германия оставалась относительно спокойной. На западе произошло несколько мятежей, но их быстро подавили, а также случилось восстание против епископа Льежского. В монархии Габсбургов, с другой стороны, складывалась по-настоящему революционная ситуация, этакий отклик на реформы Иосифа. К 1789 году планы императора по отмене крепостничества уже спровоцировали массовые волнения в Венгрии; в том же году ужесточение обращения с представительными институтами в австрийских Нидерландах привело к мятежу. Центробежные тенденции отражали стремление местных элит восстановить свое былое господство в противостоянии центральной власти, которая желала укрепить положение империи в европейской государственной системе.
Очень немногие в 1790 году соглашались с «Размышлениями о революции во Франции» Эдмунда Берка, который писал о нападениях на традиции, религию, собственность и «рыцарство», о революции «чувств, обычаев и моральных взглядов». В начале своего текста Берк замечал: «Мне кажется, что я присутствую при великом кризисе в делах не только Франции, но и всей Европы, а возможно, и не одной лишь Европы. Если учесть все обстоятельства, то окажется, что Французская революция – это самое удивительное из происходившего до сих пор в мире».[408] «Размышления» Берка стали не только литературной и политической вехой, но также и издательской сенсацией: было продано от 17 000 до 19 000 экземпляров этого трактата (а фактических читателей было еще больше), и в ответ на «Размышления» выпустили добрую сотню памфлетов других авторов.[409] В последующие годы Берк возглавил крестовый поход против «универсальной империи» якобинцев, выразителей «вооруженной доктрины», которую он считал не менее опасной, чем политика Людовика XIV. В особенности Берк опасался влияния французской революции на «центр Европы», то есть на Германию, – «этот регион соседствует и оказывает воздействие на все прочие», и там «разрушается августейшая ткань Священной Римской империи». Поэтому Берк напоминал о «законе соседства» и призывал европейские государства к интервенции в целях самообороны против Франции; он категорически отвергал идею невмешательства во внутренние дела суверенного государства как «ложный принцип закона наций».[410]
Главной причиной, по которой другие государства уделяли поначалу столь мало внимания кризису во Франции, являлись события в иных местах. Все соглашались только с тем, что революция уничтожила всякое влияние Франции в рамках европейской государственной системы. «По моему убеждению, самые умные головы Англии вряд ли предполагали, – заявил британский министр иностранных дел герцог Лидс вскоре после падения Бастилии, – и вряд ли хватило бы всех наших богатств на то, чтобы возникла ситуация, столь фатальная для нашего соперника, как та, вследствие которой Франция ныне обречена на сугубо междоусобные потрясения».[411] Пруссия также приветствовала падение старого режима – как удар по союзнику Габсбургов. В августе 1789 года, едва ли через месяц после падения Бастилии, прусский король решил воспользоваться текущим положением дел и напасть на Австрию в начале следующего года, если император Иосиф не уйдет с Балкан. Несколько месяцев спустя Пруссия провела интервенцию против мятежников в Льеже – не ради восстановления старого режима, но чтобы упредить австрийцев.[412] В январе 1790 года, когда Франция погрузилась еще глубже в хаос, Пруссия заключила наступательный союз с Османской империей и окружила Австрию с двух сторон. Общеевропейская война, которая казалась близкой накануне французской революции, теперь виделась неизбежной.
Между тем в Британии обсуждалась интервенция совершенно другого рода. В конце мая 1787 года группа парламентариев, врачей, священников и прочих учредила в Лондоне комитет Общества во имя осуществления отмены работорговли. Сторонниками общества во многом руководил усиленный религиозным чувством гнев в отношении к самому понятию рабства и особенно к «среднему этапу», то есть к перевозкам рабов через Атлантику. В середине апреля 1791 года парламент отверг законопроект Уильяма Уилберфорса о запрете работорговли, но этот вопрос, что называется, закрепился в политической повестке.[413] Рабы, конечно, не были пассивными «реципиентами» и не ждали милости от Запада. В августе 1791 года во французской колонии Сан-Доминго вспыхнуло восстание, во главе которого стояли чернокожие рабы с плантаций, возмущенные не только тем, что революция проявляла терпимость к рабству и отказом предоставить равные права gens de coleur,[414] но и отношением революционеров к королю и религии. Лидеры восстания считали себя африканскими племенными вождями, а не представителями народа. Возможно, оставленные в покое мятежные рабы сумели бы создать политическую систему, сходную с той, что существовала в традиционных рабовладельческих африканских королевствах, из которых они происходили; во всяком случае, они регулярно продавали чернокожих пленников испанцам и британцам.[415] Восстание доставило немало неприятностей европейским странам, особенно Британии и Испании, которые получали изрядный доход (и тем усиливали свое влияние в Европе) с рабовладельческих плантаций на Карибах, и Америке, которая опасалась, что пример Гаити воодушевит чернокожее население южных штатов. Взаимосвязь между рабством и международным балансом сил налицо.
События во Франции, таким образом, оставались на периферии внимания европейцев, пока не случились сразу две геополитические революции. Первая произошла в империи. Когда в феврале 1790 года скончался Иосиф II, на престол взошел Леопольд II, не только отменивший конфронтационную внутреннюю политику брата, но и намеревавшийся наладить дипломатические отношения с северным соседом. В июле 1790 года вместо войны друг с другом из-за планировавшегося Иосифом вторжения в Турцию Австрия и Пруссия подписали Рейхенбахскую конвенцию. Леопольд согласился остановить операции на Балканах и не требовать территориальных приобретений. Пруссия в свою очередь обещала поддержать кандидата Габсбургов на императорскую корону. Условия этого соглашения казались вполне безобидными, но сам факт австро-прусского сближения был подобен геополитическому землетрясению. Оно сулило немалую угрозу другим германским государствам, что опасались раздела Священной Римской империи между Габсбургами и Гогенцоллернами. Конвенция также подразумевала австро-прусское сотрудничество против Франции, которая виделась ослабленной. Пруссия начала составлять планы по аннексии Юлих-Берга[416] и по компенсации владельцам тех земель за счет территории Эльзаса.
Другая геополитическая трансформация состояла в радикальном изменении французской большой стратегии. Главным врагом в глазах революционеров стала не Британия, а снова Австрия.[417] Франция вновь перевела взор с Английского канала на восток. Но если Бурбоны пытались расширить монархию за счет особенностей имперского государственного устройства и обеспечить обороноспособность границ,[418] то новая французская геополитика подчеркивала необходимость защиты «естественных границ» – Пиренеев, Альп и Рейна. В начале мая 1790 года давний противник Австрии Клод-Шарль Пейссоннель, обращаясь к Обществу друзей конституции, сказал, что конечной целью Франции должно быть «закрепление ее границ вплоть до Рейна, ибо это рубеж, установленный самой природой». В итоге западные области Священной Римской империи, в особенности Рейнская область и Пфальц, оказались на передовой. Новые власти также подчеркивали важность революционной солидарности в Европе. Отчасти это подразумевало экспорт революционных ценностей, но еще отражало глубоко укоренившуюся веру в то, что революция во Франции никогда не будет в безопасности в Европе, где доминируют «государства со старым режимом». В письме к парижскому Дипломатическому комитету за июль 1791 года говорилось: «Когда в мире не останется тиранов, нам больше не придется бояться войны».[419]
Эти настроения нашли выражение в революционной политике в отношении империи.[420] С точки зрения идеологии рейх олицетворял все то, что было ненавистным для нового порядка: реакционную «смесь» мелких церковных территорий и малых княжеств. Революционеры отреагировали презрительными усмешками, когда имперские нобили и священнослужители Эльзаса обратились к сейму, а затем и к императору с протестом против отмены феодальных и клерикальных привилегий (последнее предусматривалось гражданской конституцией духовенства). Хуже того, французские эмигранты, помышлявшие о реставрации прежнего порядка, нашли пристанище при княжеских дворах Западной Германии, особенно у Кобленца. Убеди они одно или два крупных германских княжества выступить на их стороне, революция оказалась бы в смертельной опасности. В августе 1791 года показалось, что страхи сбываются: австрийцы и Пруссия подписали в саксонском Пильнице соглашение и выпустили совместную декларацию, где выражалась озабоченность состоянием дел во Франции.[421] Радикальный журналист и позднее министр иностранных дел Пьер Лебрен назвал этот документ «декларацией войны деспотов, объединившихся против свободы наций».[422] Если кампания начнется, писал Томас Пейн маркизу Лафайету в феврале 1793 года (он словно забыл свои былые возражения против экспорта свободы), то «есть надежда, что она завершится войной против немецкого деспотизма и установит свободу в Германии. Когда Францию окружат революции, она окажется в мире и безопасности».
Внешнее давление сильно повлияло на французскую внутреннюю политику. Поначалу революционеры довольствовались тем, что оставили внешнюю политику заботам королевского двора. Летом 1790 года, однако, спор британцев и испанцев за залив Нутка и за владение северо-западным побережьем Тихого океана заставил их изменить решение. В мае новый министр иностранных дел Монморан сообщил Национальному собранию, что король готов соблюсти «семейный пакт» и прийти на помощь родичам-Бурбонам. Это сообщение вызвало гнев парламента, отчасти потому, что, по мнению многих, король не имел права так поступать без одобрения собрания, а отчасти потому, что не все признавали династические обязательства старого режима; к тому же парламентарии опасались, что король воспользуется войной как прикрытием и восстановит в стране деспотизм. Большинство полагало, что республиканская Франция должна стать мирной страной и жить в гармонии с другими республиками; лишь меньшинство, например, депутаты Жан Сифрен Мори и барон Малуэ, предостерегало, что «деспотизм и свобода ведут к схожим эксцессам».[423] В конце месяца собрание приняло декрет, уточнявший взаимоотношения исполнительной и законодательной власти. Король по-прежнему мог назначать министров, дипломатов и армейских офицеров, однако вопросы войны и мира у короны отнимались, их следовало выносить на обсуждение народа. Никаких завоевательных войн, никаких действий, затрагивающих свободу других народов, отныне не допускалось; министров, нарушавших эти принципы, надлежало преследовать по закону. В целом революционеры требовали большей прозрачности внешней политике, дабы порвать с таинственностью и некомпетентностью дипломатии старого режима.[424] Возникла новая геополитика, которая оспаривала основы легитимности в рамках государственной системы.
В начале ноября 1791 года Национальное собрание постановило, что все эмигранты должны вернуться в страну, иначе им угрожает конфискация собственности. Король наложил вето на этот декрет. Тогда собрание решило нанести превентивный удар по эмигрантам и потребовало от короля настоять на их изгнании со дворов германских князей вдоль западной границы империи. В противном случае Франция осуществит эту операцию сама, нарушив, если понадобится, суверенитет империи. Король согласился на этот шаг, поскольку увидел в нем последнюю возможность восстановить свою прежнюю власть. Успешная война могла сплотить народ вокруг короны, тогда как поражение было чревато как минимум провалом революции. При этом Людовик тайно призывал ведущие европейские страны вмешаться и восстановить его полномочия. Королева и барон де Бретейль поддерживали его намерения и вели секретную переписку с Веной. В конце января 1792 года французы предъявили Австрии ультиматум, а в начале марта революционер «ястребиного толка» генерал Шарль-Франсуа Дюмурье стал министром иностранных дел. В середине следующего месяца Австрии объявили войну – поводом стало вмешательство императора во внутренние дела Франции, причем особо подчеркивалось его «желание поддержать притязания германских князей, владеющих землями во Франции», что признавалось «прямым оскорблением суверенитета французского народа». Пруссия присоединилась к войне 13 июня. В конце июля 1792 года командующий силами коалиции герцог Брауншвейгский в своем манифесте назвал защиту «германских князей в Эльзасе, Лотарингии и во всей Германии» более важной, чем подавление «не менее беспокоящей нас… анархии во внутренних областях Франции». Разумеется, эти цели были взаимосвязаны.[425] Так начались французские революционные войны.[426]
Для Франции схватка была одновременно идеологическим и стратегическим соперничеством; в сознании многих французов эти два фактора были неразделимы. Декларация, которой сопровождалось объявление войны Австрии, отвергала «всякое стремление к завоеваниям» и подчеркивала, что Франция никогда не применит силу «против свободы другого народа.[427] В середине ноября 1792 года Конвент, который «наследовал» Национальному собранию, принял декрет о братстве и помощи другим народам, предлагавший «братство и содействие всем народам, которые пожелают восстановить свою свободу; исполнительная власть вправе отдавать генералам приказы, необходимые для содействия таковым народам и для защиты граждан, которых преследовали или могут преследовать за дело свободы».[428] Наиболее значимой в этом отношении представлялась Бельгия, ближайший «промежуточный пункт» для наступления Австрии и Пруссии; географическое положение этой страны не предполагало «естественных границ», а местные революционеры взывали о помощи. Конвент намеревался, согласно Шарлю-Франсуа Дюмурье и Пьеру Лебрену, последовательно министрам иностранных дел с марта 1792-го по апрель 1793 года, изгнать Габсбургов из Нидерландов и установить там дружественную якобинскую республику. «Если люди не в состоянии совершить революцию собственными силами, – сказал Пьер Жозеф Камбон, – необходимо снабдить их средствами и действовать в их интересах, применяя революционную силу».[429]
Россия пока оставалась в стороне. После 1791 года Екатерина не упоминала о своей роли гаранта целостности Германии.[430] Царицу занимали дела ближе к дому; моральная поддержка австро-прусского вторжения во Францию во многом объяснялась желанием воспользоваться слабостью Польши. Здесь следовало поспешать, поскольку польская программа реформ привела к принятию в мае 1791 года конституции, призванной обеспечить выживание Речи Посполитой в недружелюбной международной обстановке. Будучи далека от французских революционных идей, вопреки утверждениям Екатерины, польская конституция предусматривала для страны наследственную саксонскую монархию. Отменялись liberum veto, конфедерация и анархическое «право сопротивления», армия увеличивалась и модернизировалась. Екатерина возражала против конституции именно потому, что документ пытался превратить Польшу в могучую монархию, способную защитить себя от хищников-соседей. В конце января 1793 года Екатерина убедила Фридриха-Вильгельма II отказаться от поддержки Станислава и произвести второй раздел Польши. Пруссия аннексировала огромный кусок Западной Польши, а Россия забрала значительную часть территории на востоке. Выборная монархия и liberum veto были восстановлены. «Угрюмая» сессия польского сейма должным образом одобрила эти решения в сентябре 1793 года. Спустя год поляки восстали под предводительством харизматичного лидера Тадеуша Костюшко. Восстание было подавлено. В 1795 году австрийцы, русские и пруссаки окончательно поделили Польшу. Это была наглядная иллюстрация участи государства, население которого не может сплотиться ради собственного выживания.[431]
Нигде на это не обратили внимания больше, чем в соседней Германии. С одной стороны, большинство немцев считало, что суеверные, умственно неполноценные, ленивые, отсталые, грубые и двуличные поляки получили то, что заслужили; к религиозным и национальным меньшинствам после раздела страны стали относиться лучше. С другой стороны, параллели между двумя странами (разделенными конфедерациями в окружении хищных держав) были слишком очевидными. «Недавнюю судьбу Польши, – предупреждал один памфлетист, – повторит и Германия», если не приступит своевременно к реформированию империи.[432] «После окончательного раздела Польши, – предрекал реформатор Йохан Якоб Мозер, – настанет наша очередь быть съеденными».[433]
Между тем наступление австрийцев и прусской армии под командованием герцога Брауншвейгского было остановлено в середине сентября 1792 года возле Вальми. За несколько месяцев французская контратака вытеснила союзников из Франции обратно в австрийские Нидерланды и Западную Германию. В конце ноября 1792 года была аннексирована Савойя. Вторжение революционеров в Нидерланды немедленно осложнило отношения с Британией. В феврале 1793 года Национальный конвент объявил войну Британии и Голландской республике. Через месяц последовал конфликт с Испанией. Все это сделало французскую политику еще более радикальной. Война спровоцировала массовую паранойю. В неудаче, постигшей французов при вторжении в Бельгию в апреле 1792 года, винили короля и загадочный «австрийский комитет», предположительно руководивший из-за кулис французской политикой. В конце мая священников, отказавшихся присягнуть гражданской конституции, депортировали как потенциальную угрозу безопасности страны. Кульминацией массовой истерии стали «сентябрьские убийства» заключенных-аристократов, которых обвиняли в сотрудничестве с врагом. Вскоре подозрение пало и на королевскую семью, ибо ходили слухи – вполне обоснованные, – что она «стакнулась» с врагами революции за рубежом. В начале августа монархия была свергнута, а в конце года суд вынес Людовику XVI смертный приговор. Казнь состоялась в конце января 1793 года. После казни короля внутренняя политика страны определялась новыми судебными слушаниями и дебатами относительно хода войны. В апреле военные успехи сменились неудачами, и был создан Комитет общественной безопасности, а в сентябре падение Тулона, осажденного британскими войсками, ознаменовало начало массовых расправ – «Террора».
Окруженные со всех сторон враждебными государствами революционеры призывали французский народ сплотиться и принять брошенный вызов. В конце февраля Конвент объявил о призыве на воинскую службу 300 000 мужчин; в следующие несколько месяцев революционная армия формировалась за счет ассигнаций, то есть бумажных денег, обеспеченных конфискованными церковными землями (эти деньги считались законным платежным средством и представляли собой этакий принудительный кредит от богачей). В конце августа 1793 года по настоянию Лазара Карно, военного министра и «организатора победы», Конвент объявил, что «все французы подлежат призыву для нужд армии». Общество отреагировало на этот декрет по-разному, рекрутский набор спровоцировал восстания роялистов-шуанов в Бретани и крестьян в Вандее; «федералисты» во многих районах страны и южные мятежники долгие годы оспаривали власть Парижа.[434] Эти группы вскоре нашли поддержку в Британии, и в 1790-х годах британцы неоднократно (и неудачно) пытались высадить экспедиционные силы на западном и южном побережьях Франции. Власти подавляли эти бунты и восстания с невероятной жестокостью. Конвент наставлял Западную армию в октябре 1793 года: «Солдаты свободы! Разбойников Вандеи нужно истребить!»[435] В регионе ввели суровые репрессии, начали действовать революционные «адские колонны» (colonnes infernales), совершавшие крупномасштабные казни, – людей сжигали заживо и даже массово топили. Погибло свыше 100 000 человек, в основном гражданского населения, и была разрушена одна пятая жилищ. Отчасти объявленная цель Конвента – уничтожение Вандеи – отражала беспокойство столицы из-за связей между бунтовщиками и иностранными государствами и опасения за целостность Франции; отчасти же это было воплощение утопического видения, где мир напрочь лишен «реакционных» элементов.
Внутренняя энергия, высвобожденная революцией, вновь сделала Францию ведущей европейской державой. Многие современники считали, что Франция обрела идеальное государственное устройство для защиты от внешней агрессии и что оно не только превосходит абсолютизм, но и оставляет далеко позади Британию с ее финансово-милитаристским порядком. Том Пейн, к примеру, предсказывал, что британская смешанная монархо-парламентская система постепенно погубит ее национальное величие, как это случилось с континентальными монархиями, погубленными паразитической аристократией. По контрасту, утверждал он, современные республики наподобие Америки и Франции способны «вести войну всем народом».[436] В следующие три года революционеры «затопили» Нидерланды, Западную Германию и Северную Италию. Они стремились не просто установить «естественные границы», но надеялись покончить с войнами посредством истребления реакционных правительств; притязания на континентальную гегемонию были пока не очевидны. «Французское государство заявляет, – говорилось в декрете Конвента в середине декабря 1792 года, – что врагом народа считается всякий, кто отвергает свободу и равенство или не содействует их достижению, желая сохранить или вернуть принцев и прочие привилегированные фигуры».[437] Конвент клялся не складывать оружия до тех пор, пока все народы не примут принцип равенства и не установят у себя «свободное и всенародное правительство». Во всем многообразии своих революционных правительств – Национального собрания, Законодательного собрания, Национального Конвента и Директории – Франция пыталась добиться не столько абсолютной власти в Европе, сколько абсолютной безопасности через всеобщий мир.[438]
Очень скоро, однако, революционеры обнаружили, что каждая новая территориальная экспансия делает мир все менее безопасным. После оккупации Бельгии многие французы стали говорить, что теперь нужно двинуться в Голландию, чтобы помешать ей, как сказал Дюмурье, «присоединиться к зловещему союзу, который может нас сокрушить»; к тому же «без Голландии наша позиция в Бельгии станет весьма уязвимой».[439] Первое вторжение в Голландию в феврале 1793 года провалилось, но к концу следующего года вторая попытка удалась, и к середине января 1795 года был взят Амстердам. Через четыре месяца Франция в сотрудничестве с местными якобинцами учредила «Батавскую республику». В Италии наступление революционных армий – которыми с 1796 года командовал выдающийся молодой генерал Наполеон Бонапарт – стремительно двигалось по полуострову к «каблуку» итальянского «сапога», порождая импровизированные политические структуры: в 1796-м – Циспаданскую республику, в 1797-м – Цизальпийскую Галлию и Лигурийскую республику, в 1798-м – Римскую республику, в 1799-м – Партенопейскую республику. В марте 1798 года оккупированную Швейцарию преобразовали в «Гельветическую республику». Динамика определялась в равной степени страхом и алчностью.
Основное внимание новая геополитика уделяла Германии. С весны 1791 года французские дипломаты размышляли о реорганизации империи, в том числе о ликвидации титула императора и консолидации малых княжеств в более крупные единицы, которые затем объединятся в конфедерацию и создадут буферное государство, способное защитить западные границы Франции. Этой геополитической повестке сопутствовала глубокая идеологическая антипатия. «Священная [Римская] империя, – сказал один революционер в 1795 году, – это чудовищное скопище мелких и крупных деспотов… тоже должно исчезнуть по следам нашей великой революции. Его поддерживало французское королевство, а французская республика будет трудиться над его уничтожением».[440] При этом, как признался один из экспертов Директории, французы опасались, что «после серии узурпаций Германия сделается единоличным королевством».[441] «Естественные границы» устанавливались за счет уничтожения всех имперских анклавов внутри Франции, таких, как Монбельяр, и аннексии территорий на левом берегу Рейна. Французы также экспериментировали с местными якобинскими режимами, а в Майнце даже создали республику (она просуществовала недолго).[442] Многие немецкие интеллектуалы и чиновники симпатизировали явно более «рациональным» и деловым французам, освободившим их от феодализма.[443] Вскоре, впрочем, революционеры осознали, что всем этим движениям недостает массовой легитимности, а потому они не могут служить надежными проводниками французской внешней политики. Не будучи полезными союзниками, они оказывались бременем, с которым приходилось считаться. По этой причине дальнейшие планы создания республик, как на юге Германии, были отложены.[444]
На другом берегу Рейна германские князья с ужасом наблюдали за этими шагами. Угроза «полонизации» со стороны Австрии и Пруссии усугубилась неотвратимой реальностью французского вторжения. Малые германские княжества не могли защитить кого-то одного среди себя, не подставляя под удар остальных. Некоторые князья, например, герцог Фридрих Вюртембергский, гордо заявляли, что не позволят сделать свою территорию «игрушкой» великих держав. На практике, однако, пространство для маневра было болезненно малым. «Все зависит от России, Англии и Франции, – обронил в 1795 году посланник Баварии в Вене. – В их руках судьба империи». К концу 1790-х годов германским князьям стало совершенно ясно, что никто не станет таскать для них каштаны из огня.[445] Все это привело к последним широким дебатам о реформе имперского устройства. Многие соглашались с Ренатусом Карлом фон Зенкенбергом, который в 1790 году заявил, что, если империя сумеет выступить единым фронтом против внешнего врага, тогда «никакая другая империя в Европе не сможет с нею сравниться в могуществе».[446] Австрийский первый министр барон фон Тугут даже предложил вооружить народ, провести Volksbewaffnung,[447] немецкий аналог levee en masse.[448] Но, когда в конце сентября 1794 года в Вильхельмсбаде в последней попытке объединиться для обороны империи собрались правители мелких государств, их усилия блокировала Вена. Австрийцы восприняли это собрание как умаление власти Габсбургов и опасались, что затея инспирирована Пруссией.
Большинство германских княжеств пыталось заключить мир с Францией. В самом конце 1794 года имперский сейм попросил императора договориться о мире на основе Вестфальского соглашения. Иными словами, империя готова была признать революционную Францию державой-гарантом. Первыми «вскочили на борт» пруссы. По Базельскому договору от апреля 1795 года они пообещали соблюдать строгий нейтралитет в имперской войне против Франции. Французы, со своей стороны, обязались уважать нейтральную зону в северной Германии под контролем Пруссии. Все германские территории к западу от этой линии нейтралитета были вынуждены полагаться только на себя; секретный пункт договора предусматривал аннексию французами левого берега Рейна. Лишь австрийцы продолжали сражаться. Проблема состояла в том, что империя все менее стремилась нести на своих плечах тяготы борьбы с Францией. Фон Тугут осознавал, что такое положение не вечно, однако продолжение войны наносило ущерб статусу Австрии внутри империи. Принудительные реквизиции в Южной Германии возмутили равно население и правителей. Больше того, дорогостоящие итальянские кампании 1795–1796 годов, призванные ослабить давление Франции на Германию, привели к обратному результату. Император Франциск, преемник безвременно скончавшегося Леопольда, оказался перед тем же выбором, что и его предок Максимилиан триста лет назад, – он предал Германию ради Италии.
Хуже того, новый французский полководец в Италии, Наполеон Бонапарт, крушил все на своем пути и критиковал парижское правительство за провалы на других фронтах. В сентябре 1797 года он преобразовал свою военную славу в политический капитал и вместе с союзниками совершил переворот и взял власть в Директории (переворот 18 фрюктидора).[449] По-видимому, изначально у Наполеона не было собственной большой стратегии; позднейшие рационализации подобного толка следует воспринимать скептически.[450] Шарль Морис де Талейран Перигор, его министр иностранных дел, позднее сказал: «Наполеон никогда не строил планов. То, что случалось, подсказывало ему, как поступать далее».[451] Погоня за «славой» и «судьбой» – двумя константами риторики Наполеона – не порождала стратегии сама по себе, разве только побуждала к постоянному движению и конфликтам.[452] Тем не менее можно выявить кое-какие повторявшиеся допущения и шаги. В первую очередь Наполеон стремился доминировать в Европе, объединив последнюю на французских условиях и во благо Франции. Исполнение этого замысла требовало от него подчинения Германии с целью завладения ее ресурсами и присвоения наследия Священной Римской империи. Данное намерение, в свою очередь, ввергло Наполеона в длительный конфликт не только с Австрией и Пруссией, но и с «арбитрами» империи – Россией и Великобританией. Сдерживание России подразумевало выход на передовые позиции за пределами Германии, прежде всего в Польше, на Балканах и в Средиземноморье. Удар по оплотам британского могущества означал либо вторжение в саму Британию, либо нападение на заморские колонии, из которых Лондон преимущественно черпал свою силу.[453] Если процитировать самого Наполеона – пусть он произнес эти слова уже в печальной ссылке на острове Святой Елены, – его целью тогда было «восстановить Польское королевство как барьер против московитских варваров, разделить Австрию, создать независимые подчиненные государства в Италии, сделать независимой Венгрию, разрушить Пруссию, учредить независимые республики в Англии и Ирландии, покорить Египет, изгнать турок из Европы и освободить балканские народы».[454]
Столкнувшись с таким вызовом, Габсбурги в октябре 1797 года наконец-то заключили мир с Францией в Кампо-Формио. Условия договора обозначили фундаментальный сдвиг в европейской геополитике: австрийцы обменяли отдаленную Бельгию и переднюю Австрию на более близкую Венецию, лишавшуюся при этом независимости. Из Западной Германии и Нидерландов им пришлось уйти. Но предстояли и более серьезные изменения. Будущее Священной Римской империи обсуждалось на конгрессе в Раштатте, заседания которого проходили с ноября 1797 года; там решалось, какая «компенсация» положена германским князьям, чьи земли на левом берегу Рейна были экспроприированы французами. Это расчищало путь к полномасштабной территориальной реорганизации империи под эгидой Франции и означало окончательный отказ от традиционной политики Бурбонов, поддерживавших сложный баланс сил в Германии в пользу раздела, который должен был привести к созданию меньшего количества крупных государств.[455] В том же году Наполеон задал тон грядущим переменам, назвав Священную Римскую империю «старой шлюхой, которой долгое время пользовались все, кто хотел».[456] Договор в Кампо-Формио, таким образом, был лишь перемирием перед возобновлением войны за господство в Германии. Продолжалось это перемирие чуть больше года, поскольку новый правитель Франции Наполеон Бонапарт оказался даже большим разрушителем европейской государственной системы, чем его революционные предшественники. Он пришел к власти благодаря своей воинской славе и обещанию вести войну против старого порядка Европы эффективнее, чем Директория. Дома Наполеон обещал «завершить революцию» и тем самым «покончить с нею навсегда». Огромная энергия, высвободившаяся в результате падения французской монархии, теперь устремилась наружу.
В 1798–1799 годах Наполеон продолжил наступление сразу на нескольких фронтах. В Германии его дипломаты неустанно проталкивали идею территориальной реорганизации. Швейцария была оккупирована в январе 1798 года, чтобы «округлить» французскую границу и взять под контроль важные альпийские перевалы. Летом и осенью 1798-го Наполеон отправлял войска в Ирландию для поддержки восстания «объединенных ирландцев» против британского правления. Примерно тогда же Наполеон высадился в Египте и начал войну против Османской империи. На следующий год он вторгся в Палестину. Эта операция вовсе не означала поворота на восток: Наполеон намеревался ударить по британским базам в Индии и тем самым уменьшить влияние Лондона в Европе.[457] Он сказал Талейрану: «Чтобы разгромить Англию, надо овладеть Египтом».[458] Французские войска уверенно продвигались по Апеннинскому полуострову, в январе 1799 года был захвачен Неаполь. В Карибском бассейне и в целом на море Франция усиливала давление на британский торговый флот, нападала на плантации, которые обеспечивали средствами на военные расходы не только самих британцев, но и европейских союзников Британии. Наполеон также помышлял о возвращении Франции ее былых заморских владений. Все эти действия, пусть тактически агрессивные, были по сути стратегически оборонительными. Вообще, здесь мало отличий между обороной и наступлением: ведь абсолютная безопасность Франции могла быть достигнута только благодаря абсолютной небезопасности ее ближних и дальних соседей.
Возобновление французского наступления при Наполеоне вызвало немедленную реакцию ведущих европейских держав. В Вене фон Тугут с тревогой наблюдал за нападениями на Швейцарию и Османскую империю, однако наибольшие опасения вызывала у него Германия. «Если французы продолжат удерживать Швейцарию, – писал он в июле 1798 года, – революция сначала в Швабии, а потом и по всей Германии неизбежна… а крушение Германии приведет к потрясениям во всей Европе».[459] Когда Германия падет, погибнет и остальная Европа. Так же полагал и Павел I, в 1796 году сменивший на русском троне Екатерину. Он не просто враждебнее своей матери относился к революции, но и был сильно встревожен проникновением Наполеона в Средиземноморье и Левант. Кроме всего прочего, Павел хотел восстановить баланс сил в Германии, которую Екатерина фактически игнорировала в последние годы своей жизни. По словам одного баварского дипломата, Россия, столь долго отличавшаяся пассивностью, «вдруг кинулась в драку как главный защитник империи».[460] Посему в 1798–1799 годах австрийские и русские войска (на британские деньги) атаковали французов в Южной Германии и Северной Италии, а англо-русский корпус высадился в Голландии. Началась война Второй коалиции.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
295
Quoted in Hagen Schulze, The course of German nationalism. From Frederick the Great to Bismarck, 1763–1867 (Cambridge, 1990).
296
Quoted in T. C. W. Blanning, ‘The Bonapartes and Germany’, in Peter Baehr and Melvin Richter (eds.), Dictatorship in history and theory. Bonapartism, Caesarism, and totalitarianism (Cambridge and New York, 2004), p. 54.
297
Cited in Daniel A. Baugh, ‘Withdrawing from Europe: Anglo-French maritime geopolitics, 1750–1800’, International History Review, 20, 1 (1998), pp. 14–16.
298
Quoted in Externbrink, Friedrich der Grosse, Maria Theresia und das alte Reich. Deutschlandbild und Diplomatie Frankreichs im Siebenjährigen Krieg (Berlin, 2006), p. 316.
299
Quoted in L. Jay Oliva, Misalliance. A study of French policy in Russia during the Seven Years’ War (New York, 1964), p. 9.
300
Newcastle is cited in Reed Browning, The Duke of Newcastle (Cambridge, Mass., 1975), p. 182.
301
Reed Browning, ‘The Duke of Newcastle and the imperial election plan, 1749–1754’, Journal of British Studies, 7 (1967–68), pp. 28–47.
302
Richard L. Merritt, ‘The colonists discover America: attention patterns in the colonial press, 1735–1775’, William and Mary Quarterly, Third Series, XXI, 2 (April 1964), pp. 270–87, especially pp. 270–72.
303
Cited in Max Savelle, ‘The appearance of an American attitude toward external affairs’, American Historical Review, 52, 4 (1947), pp. 655–66 (quotation p. 660).
304
Quoted in Brendan Simms, Three victories and a defeat. The rise and fall of the first British Empire, 1714–1783 (London, 2007), p. 393.
305
Ibid., p. 391.
306
A. G. Olson, ‘The British government and colonial union, 1754’, William and Mary Quarterly, Third Series, XVII, 1 (1960), pp. 24–6 (quotation p. 26).
307
Fred Anderson, Crucible of war. The Seven Years War and the fate of empire in British North America, 1754–1766 (New York, 2000).
308
Frederick the Great, The history of my own times (1746). Posthumous works of Frederic II. King of Prussia (London, 1789), Vol. I, p. xx. I thank Ilya Berkovich for this reference.
309
Quoted in Tim Blanning, ‘Frederick the Great’, in Brendan Simms and Karina Urbach (eds.), Die Rückkehr der ‘Grossen Männer’. Staatsmänner im Krieg – ein deutsch-britischer Vergleich 1740–1945 (Berlin and New York, 2010), p. 18.
310
Frederick the Great, History of my own times, Vol. I, pp. 214–15.
311
Об изгнании аккадцев как “этнической чистке” см. Geoffrey Plank, An unsettled conquest. The British campaign against the peoples of Acadia (Philadelphia, 2001), pp. 140–57.
312
Quoted in H. M. Scott, The emergence of the eastern powers, 1756–1775 (Cambridge, 2001), p. 26.
313
Erich Everth, Die Öffentlichkeit in der Aussenpolitik von Karl V. bis Napoleon (Jena, 1931), pp. 355–60 (quotation p. 360).
314
D. A. Baugh, The global Seven Years War, 1754–1763. Britain and France in a great power contest (Harlow, 2011).
315
В отечественной историографии после С. М. Соловьева установилось обозначение «Клостерсевенское соглашение»: эту конвенцию подписали в Цевенском монастыре (клостере). Примеч. ред.
316
Helmut Neuhaus, ‘Das Problem der militärischen Exekutive in der spätphase des Alten Reiches’, in Johannes Kunisch (ed.), Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der Frühen Neuzeit (Berlin, 1986), pp. 297–346 (quotations pp. 297 and 299).
317
Philip Carter, ‘An “effeminate” or “efficient” nation? Masculinity and eighteenth century social documentary’, Textual Practice, 11 (1997), pp. 429–43 (quotation p. 429).
318
Matthew McCormack, ‘The new militia: war, politics and gender in 1750s Britain’, Gender & History, 19 (2007), pp. 483–500 (quotation p. 497).
319
Erica Charters, ‘The caring fiscal military state during the Seven Years War, 1756–1763’, Historical Journal, 52 (2009), pp. 921–41, especially pp. 937–40 (quotation p. 939).
320
H. M. Scott, ‘The decline of France and the transformation of the European states system, 1756–1792’, in Peter Krüger and Paul W. Schroeder (eds.), The transformation of European politics, 1763–1848. Episode or model in modern history? (Oxford, 1996), pp. 105–28 (Voltaire quotation p. 114).
321
John Shovlin, The political economy of virtue. Luxury, patriotism and the origins of the French Revolution (Ithaca and London, 2006), pp. 54–5.
322
Quoted in Bailey Stone, The genesis of the French Revolution. A global-historical interpretation (Cambridge, 1994), p. 55. See also T. C. W. Blanning, The French Revolutionary Wars, 1787–1802 (London, 1996).
323
Brendan Simms, ‘William Pitt the Elder. Strategic leadership at home and abroad during the great war for the empires (1756–1763)’, in Simms and Urbach (eds.), Die Rückkehr der ‘Grossen Männer’, pp. 29–48, especially pp. 32–4.
324
Brendan Simms, ‘Pitt and Hanover’, in Brendan Simms and Torsten Riotte (eds.), The Hanoverian dimension in British history, 1714–1837 (Cambridge, 2007), pp. 28–57 (quotation p. 55).
325
«Сомнения и вопросы» (фр.). Примеч. ред.
326
Gary Savage, ‘Favier’s heirs: the French Revolution and the secret du roi’, Historical Journal, 41 (1998), pp. 225–58.
327
Hamish Scott, ‘The Seven Years War and Europe’s ancien régime’, War in History, 18 (2011), pp. 419–55.
328
Quoted in Hugh Ragsdale, ‘Russian projects of conquest in the eighteenth century’, in Ragsdale (ed.), Imperial Russian foreign policy (Cambridge, 1993), p. 76.
329
Quoted in Externbrink, Friedrich der Grosse, p. 339.
330
О кризисе французской аристократии после Семилетней войны: William Doyle, Aristocracy and its enemies in the Age of Revolution (Oxford, 2009), pp. 57, 83 and passim.
331
Gabriel B. Paquette, Enlightenment, governance and reform in Spain and its empire, 1759–1808 (Basingstoke, 2008).
332
J. H. Elliott, Empires of the Atlantic World. Britain and Spain in America, 1492–1830 (New Haven and London, 2006), p. 299.
333
D. R. Murray, ‘Statistics of the slave trade to Cuba, 1790–1867’, Journal of Latin American Studies, 3, 2 (1971), pp. 131–49. I am grateful to Carrie Gibson and Felicitas Becker for very useful conversations on this subject.
334
Evelyn Powell Jennings, ‘War as the “forcing house of change”: state slavery in late-eighteenth-century Cuba’, William and Mary Quarterly, Third Series, LXII (2005), 411–40.
335
Scott, Emergence of the eastern powers, pp. 76 and 79.
336
Manfred Schort, Politik und Propaganda. Der Siebenjährige Krieg in den zeitgenössischen Flugschriften (Frankfurt am Main, 2006), p. 463.
337
Hans-Martin Blitz, Aus Liebe zum Vaterland. Die deutsche Nation im 18. Jahrhundert (Hamburg, 2000), pp. 160–67 (quotation p. 165).
338
Quoted in Neuhaus, ‘Das Problem der militärischen Exekutive’, p. 301.
339
‘The Instructions to the Commissioners for Composing a New Code of Laws’, Moscow, 30 July 1767, in William F. Reddaway (ed.), Documents of Catherine the Great. The correspondence with Voltaire and the Instruction of 1767 in the English text of 1768 (Cambridge, 1931), pp. 216–17.
340
Quoted in Scott, Emergence of the eastern powers, p. 99.
341
Franz A. J. Szabo, Kaunitz and enlightened absolutism, 1753–1780 (Cambridge, 1994), p. 76. I am grateful to Daniel Robinson for this reference.
342
Kathleen Wilson, The sense of the people. Politics, culture and imperialism in England, 1715–1785 (Cambridge, 1995), pp. 215–16.
343
Michael Roberts, Splendid isolation, 1763–1780 (Reading, 1970).
344
Quoted in Simms, Three victories, p. 536. See also P. J. Marshall, The making and unmaking of empires. Britain, India and America, c. 1750–1783 (Oxford, 2005), pp. 1–3, 59–60, 273–310, and passim.
345
Quoted in Norman Davies, God’s playground. A history of Poland. Vol. I: The origins to 1795 (Oxford, 1981), p. 511.
346
T. C. W. Blanning, The culture of power and the power of culture. Old regime Europe, 1660–1789 (Oxford, 2003).
347
Ron Chernow, Washington, a life (London, 2010), pp. 59–62.
348
Marc Egnal, A mighty empire. The origins of the American Revolution (Ithaca and London, 1988). Недавнее исследование о колонистах как “английских империалистах”: Robert Kagan, Dangerous nation (New York, 2006), pp. 12–16 and 18.
349
Jerzy Lukowski, The partitions of Poland, 1772, 1793, 1795 (London and New York), pp. 52–81 (Frederick is quoted on p. 55).
350
Cited in D. B. Horn, British public opinion and the First Partition of Poland (Edinburgh, 1945), pp. 26 and 36–7.
351
Bernd Marquardt, ‘Zur reichsgerichtlichen Aberkennung der Herrschergewalt wegen Missbrauchs. Tyrannenprozesse vor dem Reichshofrat am Beispiel des südöstlichen schwäbischen Reichskreises’, in Anette Baumann, Peter Oestmann, Stephan Wendehorst and Siegrid Westphal (eds.), Prozesspraxis im Alten Reich. Annäherungen – Fallstudien – Statistiken (Cologne, Weimar and Vienna, 2005), p. 53.
352
Jennifer Pitts, ‘The stronger ties of humanity: humanitarian intervention in the eighteenth century’. I thank Dr Pitts for letting me have sight of her excellent unpublished paper.
353
Robin A. Fabel, Colonial challenges. Britons, Native Americans and Caribs, 1759–1775 (Gainesville, 2000), pp. 158–60.
354
George P. Anderson, ‘Pascal Paoli: an inspiration to the Sons of Liberty’, Publications of the Colonial Society of Massachusetts, 26 (1924–6), pp. 180–210, especially pp. 189–91 and 202–3 (for quotations).
355
Richard B. Sheridan, ‘The British credit crisis of 1772 and the American colonies’, Journal of Economic History, 20 (1960), pp. 161–86.
356
John Adams to Mercy Warren, 20 July 1807, in Collections of the Massachusetts Historical Society, Fifth Series, IV (1878), p. 338. I thank Daniel Robinson for drawing this letter to my attention.
357
Richard Middleton, The War of American Independence, 1775–1783 (Harlow, 2012), pp. 15–36.
358
Hamish Scott, British foreign policy in the age of the American Revolution (Oxford, 1990), and Donald Stoker, Kenneth J. Hagan and Michael T. McMaster (eds.), Strategy in the American War of Independence. A global approach (London and New York, 2010).
359
Cited in Robert Rhodes Crout, ‘In search of a “just and lasting peace”: the treaty of 1783, Louis XVI, Vergennes, and the regeneration of the realm’, International History Review, 5, 3 (1983), p. 374.
360
Quoted in Kagan, Dangerous nation, p. 47.
361
Jonathan R. Dull, A diplomatic history of the American Revolution (New Haven and London, 1985), p. 47.
362
David M. Fitzsimmons, ‘Tom Paine’s new world order: idealistic internationalism in the ideology of early American foreign relations’, Diplomatic History, 19 (1995), pp. 569–82 (quotations p. 579).
363
Mlada Bukovansky, Legitimacy and power politics. The American and French Revolutions in international political culture (Princeton and Oxford, 2002), pp. 110–64 and 216–20, and Walter McDougall, Promised land, crusader state. The American encounter with the world since 1776 (New York, 1997).
364
Ben Baack, ‘Forging a nation state: the Continental Congress and the financing of the War of American Independence’, Economic History Review, 54, 4 (2001), pp. 639–56, especially pp. 639–40.
365
Quoted in Munro Price, Preserving the monarchy. The Comté de Vergennes, 1774–1787 (Cambridge, 1995), p. 22.
366
Sandwich remarks to cabinet, 19 January 1781, Queens’ House, in the presence of the king, in John G. R. Barnes and J. J. Owen (eds.), The Private Papers of John, Earl of Sandwich, 1771–1782 (London, 1932–8), Vol. 4, p. 24.
367
Парусные линейный корабли имели экипаж до 800 человек и вооружение до 130 орудий и предназначались для боевых действий в линейном боевом порядке, когда все корабли были обращены одним бортом к противнику. Примеч. ред.
368
Stephen Conway, The British Isles and the War of American Independence (Oxford, 2000), pp. 16, 350 and 17.
369
Cited in Scott, Emergence of the eastern powers, p. 1.
370
Quotations in Crout, ‘A “just and lasting peace”’, p. 398, and Maya Jasanoff, Liberty’s exiles. American loyalists in the revolutionary world (New York, 2011), p. 87.
371
Quoted in Stone, Genesis of the French Revolution, p. 142.
372
Quoted in Claus Scharf, ‘“La Princesse de Zerbst Catherinisée”. Deutschlandbild und Deutschlandpolitik Katharinas II.’, in Dagmar Herrmann (ed.), Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 18. Jahrhundert: Aufklärung (Munich, 1992), p. 320.
373
Quoted in Jeremy Black, The rise of the European powers (London, 1990), p. 130.
374
Quoted in Brendan Simms, The struggle for mastery in Germany, 1779–1850 (Basingstoke, 1998), p. 45.
375
Vincent T. Harlow, The founding of the second British empire, 2 vols. (London, 1952–64), and C. A. Bayly, Imperial meridian. The British Empire and the world, 1780–1830 (London, 1989).
376
Quoted in Jeremy Black, British foreign policy in an age of revolutions, 1783–1793 (Cambridge, 1994), p. 13.
377
P. G. M. Dickson, ‘Count Karl von Zinzendorf’s “new accountancy”: the structure of Austrian government finance in peace and war, 1781–1791’, International History Review, 29, 1 (2007), pp. 22–56.
378
Ernst Wangermann, Die Waffen der Publizität. Zum Funktionswandel der politischen Literatur unter Joseph 11. (Vienna, 2004), pp. 168–84.
379
Karl Härter, ‘Möglichkeiten und Grenzen der Reichspolitik Russlands als Garantiemacht des Teschener Friedens (1778–1803)’, in Claus Scharf (ed.), Katharina II., Rußland und Europa. Beiträge zur internationalen Forschung. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Supplement 45 (Mainz, 2001), pp. 133–81.
380
Hugh Ragsdale, ‘Evaluating the traditions of Russian aggression: Catherine II and the Greek Project’, Slavonic and East European Review, 66 (1988), pp. 91–117, especially pp. 95–6.
381
Quoted in Virginia H. Aksan, Ottoman wars 1700–1870. An empire besieged (Harlow, 2007), p. 161.
382
Quoted in Karl A. Roider, Austria’s Eastern Question, 1700–1790 (Princeton, 1982), p. 180.
383
Alexander Hamilton, Federalist Paper no. 34, 5.1.1788, in J. R. Pole (ed.), The Federalist. Alexander Hamilton, James Madison, John Jay (Indianapolis and Cambridge, 2005), p. 178.
384
James R. Sofka, ‘The Jeffersonian idea of national security. Commerce, the Atlantic balance of power, and the Barbary War, 1786–1805’, Diplomatic History, 21 (1997), pp. 519–44, especially pp. 519, 522 and 527.
385
Quoted in Doris A. Graber, Public opinion, the president, and foreign policy. Four case studies from the formative years (New York, Chicago etc., 1968), p. 133.
386
Deborah Allen, ‘Acquiring “knowledge of our own continent”: geopolitics, science, and Jeffersonian geography, 1783–1803’, Journal of American Studies, 40 (2006), pp. 205–32 (Jay is quoted on p. 216). For the importance of the west see François FÜrstenberg, ‘The significance of the trans – Appalachian Frontier in Atlantic history, c.1754–1815’, American Historical Review, 113 (2008), pp. 647–77.
387
Alexander Hamilton, Federalist Paper no. 25, 21.12.1787, in Pole (ed.), Federalist, p. 133.
388
Federalist Paper no. 7, 17.11.1787, in Pole (ed.), Federalist, pp. 28–9.
389
О страхе колонистов перед расколом и повторением опыта итальянских городов-государств: David C. Hendrickson, Peace pact. The lost world of the American founding (Lawrence, Kan., 2003), p. 63.
390
Federalist Paper no. 8, 20.11.1787, in Pole (ed.), Federalist, p. 37.
391
Federalist Paper no. 19, 8.12.1787, in Pole (ed.), Federalist, pp. 99–102. For the impact of the Polish partition on the constitutional convention see Frederick W. Marks, Independence on trial. Foreign affairs and the making of the constitution (Baton Rouge, 1973), pp. 3–51, especially p. 33.
392
Federalist Paper no. 5, 10.11.1787, in Pole (ed.), Federalist, pp. 17–18.
393
George William van Cleve, A slaveholders’ union. Slavery, politics, and the constitution in the early American Republic (Chicago and London, 2010), p. 9.
394
Значимость международного соперничества для конституции: Michael Schwarz, ‘The great divergence reconsidered. Hamilton, Madison, and U. S. – British relations, 1783–89’, Journal of the Early Republic, 27 (2007), pp. 407–36, especially pp. 419–21.
395
Quoted in Doyle, Aristocracy and its enemies, p. 99. See also Markus Hünemörder, The Society of the Cincinnati. Conspiracy and distrust in early America (New York and Oxford, 2006).
396
Roy Weatherup, ‘Standing armies and armed citizens: an historical analysis of the Second Amendment’, Hastings Constitutional Law Quarterly, 2 (1975), pp. 961–1001, especially p. 995.
397
Wolfgang Burgdorf, Reichskonstitution und Nation. Verfassungsreformprojekte für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation im politischen Schrifttum von 1648 bis 1806 (Mainz, 1998), pp. 328–35.
398
Munro Price, ‘The Dutch Affair and the fall of the ancien régime, 1784–1787’, Historical Journal, 38 (1995), pp. 875–905 (quotation p. 904).
399
Своим представлением о взаимосвязи дипломатического упадка ancien régime и началом французской революции я в немалой степени обязан работе: Gary J. Savage, ‘The French Revolution and the secret du roi. Diplomatic tradition, foreign policy and political culture in later eighteenth-century France (1756–1792)’ (unpublished Ph.D. dissertation, University of Cambridge, 2005).
400
Thomas Kaiser, ‘Who’s afraid of Marie-Antoinette? Diplomacy, Austrophobia and the Queen’, French History, 14, 3 (2000), pp. 241–71.
401
Quoted in Price, Vergennes, p. 234.
402
Montmorin is quoted in Jeremy J. Whiteman, Reform, revolution and French global policy, 1787–1791 (Aldershot, 2003), p. 103.
403
Munro Price, ‘The court nobility and the origins of the French Revolution’, in H. Scott and B. Simms (eds.), Cultures of power in Europe during the Long Eighteenth Century (Cambridge, 2007), pp. 278–9.
404
Chapter 2 of the Cahiers, quoted in John Hall Stewart (ed.), A documentary survey of the French Revolution (New York, 1951), p. 59.
405
Quotation in Stone, Genesis of the French Revolution, p. 207.
406
David A. Bell, The cult of the nation in France. Inventing nationalism, 1680–1800 (Cambridge, Mass., and London, 2001), pp. 14–17 and passim (Sieyes is quoted on p. 14).
407
Quoted in Michael Hochedlinger, ‘Who’s afraid of the French Revolution? Austrian foreign policy and the European crisis, 1787–1797’, German History, 21, 3 (2003), pp. 293–318 (quotation p. 303).
408
Reflections on the Revolution in France, in Paul Langford (ed.), The writings and speeches of Edmund Burke. Vol. VIII: The French Revolution, 1790–1794 (Oxford, 1989), pp. 131 and 60.
409
Richard Bourke, ‘Edmund Burke and international conflict’, in Ian Hall and Lisa Hill (eds.), British international thinkers from Hobbes to Namier (Basingstoke, 2009), pp. 91–116.
410
P. J. Marshall and John A. Woods (eds.), The correspondence of Edmund Burke. Vol. VII: January 1792–August 1794 (Cambridge, 1968), p. 383; R. B. McDowell (ed.), The writings and speeches of Edmund Burke. Vol. IX: I The Revolutionary War. II Ireland (Oxford, 1991), pp. 195 and 250 (vicinage); Brendan Simms, ‘“A false principle in the Law of Nations”. Burke, state sovereignty, [German] liberty, and intervention in the age of Westphalia’, in Brendan Simms and D. J. B. Trim (eds.), Humanitarian intervention. A history (Cambridge, 2011), p. 110.
411
Quoted in T. C. W. Blanning, The origins of the French Revolutionary Wars (Harlow, 1986), p. 132.
412
Horst Möller, ‘Primat der Aussenpolitik: Preussen und die französische Revolution, 1789–1795’, in Jürgen Voss (ed.), Deutschland und die französische Revolution (Munich, 1983), pp. 65–81.
413
Adam Hochschild, Bury the chains. The first international human rights movement (London and New York, 2005), p. 137, and William Hague, William Wilberforce. The life of the great anti-slave trade campaigner (London, 2007), pp. 149–50.
414
Цветному населению (фр.). Примеч. ред.
415
Jeremy Popkin, You are all free. The Haitian Revolution and the abolition of slavery (Cambridge, 2010), p. 276. See also John Thornton, ‘“I am the subject of the King of Congo”: African political ideology and the Haitian Revolution’, Journal of World History, 4, 2 (1993), pp. 181–214, especially p. 183.
416
Историческое герцогство в долине Рейна, по обоим берегам реки Рур. Примеч. ред.
417
Michael Hochedlinger, ‘“La cause de tous les maux de la France”. Die “Austrophobie” im revolutionären Frankreich und der Sturz des Königtums, 1789–1792’, Francia, 24 (1997), pp. 73–120.
418
Eckhard Buddruss, Die französische Deutschlandpolitik, 1756–1789 (Mainz, 1995).
419
Quotations in Savage, ‘The French Revolution and the secret du roi’, p. 211.
420
Sidney Seymour Biro, The German policy of Revolutionary France. A study in French diplomacy during the War of the First Coalition, 1792–1797, 2 vols. (Cambridge, Mass., 1957).
421
The Padua Circular and Declaration of Pillnitz are printed in Hall Stewart (ed.), Documentary survey, pp. 221–4.
422
Quoted in Patricia Chastain Howe, Foreign Policy and the French Revolution. Charles-François Dumouriez, Pierre LeBrun, and the Belgian Plan, 1789–1793 (Basingstoke, 2008), p. 47.
423
Quoted in Whiteman, Reform, revolution and French global policy, p. 130.
424
Linda and Marsha Frey, ‘“The reign of the charlatans is over”. The French Revolutionary attack on diplomatic practice’, Journal of Modern History, 65, 4 (1993), pp. 706–44, especially pp. 714–17.
425
The Brunswick Manifesto, 25.7.1792, in Hall Stewart (ed.), Documentary survey, pp. 307–8.
426
Munro Price, The fall of the French monarchy. Louis XVI, Marie Antoinette and the Baron de Breteuil (London, 2002).
427
Declaration of the National Assembly, in Hall Stewart (ed.), Documentary survey, p. 285.
428
Decree of Fraternity and Help to Foreign Peoples, 19.11.1792, in Hall Stewart (ed.), Documentary survey, p. 381.
429
Quoted in T. C. W. Blanning, The French Revolution in Germany. Occupation and resistance in the Rhineland, 1792–1802 (Oxford, 1983), p. 64.
430
Erwin Oberländer, ‘“Ist die Kaiserin von Russland Garant des Westfälischen Friedens?” Der Kurfürst von Trier, die Französische Revolution und Katharina II. 1789–1792, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, New Series, 35 (1987), pp. 218–31.
431
Jerzy Lukowski, Liberty’s folly. The Polish – Lithuanian Commonwealth in the eighteenth century, 1697–1795 (London and New York, 1991), p. 265.
432
David Pickus, Dying with an enlightening fall. Poland in the eyes of German intellectuals, 1764–1800 (Lanham etc., 2001), pp. 36–45, 54–9 and 126–31 (quotation pp. 126–7).
433
Moser’s warning is quoted in Burgdorf, Reichskonstitution und Nation, p. 343.
434
Thomas Hippler, Citizens, soldiers and national armies. Military service in France and Germany, 1789–1830 (London and New York, 2008).
435
Quoted in Reynald Secher, A French genocide. The Vendée (Notre Dame, Ind., 2003), pp. 250–51.
436
Quoted in Richard Whatmore, ‘“A gigantic manliness”. Paine’s republicanism in the 1790s’, in Stefan Collini, Richard Whatmore and Brian Young (eds.), Economy, polity and society. British intellectual history, 1750–1950 (Cambridge, 2000), p. 150. For the strategic context of Paine’s thought see pp. 136, 138–40, 149 and passim.
437
Decree of 15.12.1792, in Hall Stewart (ed.), Documentary survey, p. 383.
438
David A. Bell, The first total war. Napoleon’s Europe and the birth of modern warfare (London, 2007).
439
Quoted in Howe, Foreign policy and the French Revolution, pp. 119 and 151.
440
Quoted in Jörg Ulbert, ‘France and German dualism, 1756–1871’, in Carine Germond and Henning Türk (eds.), A history of Franco-German relations in Europe. From ‘hereditary enemies’ to partners (Basingstoke, 2008), pp. 41–2.
441
Quoted in Biro, German policy of Revolutionary France, Vol. II, p. 624.
442
T. C. W. Blanning, Reform and revolution in Mainz, 1743–1803 (Cambridge, 1974).
443
Monika Neugebauer-Wölk, Revolution und Constitution. Die Brüder Cotta. Eine biographische Studie zum Zeitalter der Französischen Revolution und des Vormärz (Berlin, 1989), especially pp. 141–3.
444
Blanning, Reform and revolution in Mainz.
445
The quotations of Duke Frederick and the Bavarian envoy are in Simms, Struggle for mastery in Germany, pp. 60–61.
446
The Senckenberg quotation is in Burgdorf, Reichskonstitution und Nation, p. 411.
447
Букв. «всеобщее вооружение народа» (нем.). Примеч. ред.
448
Букв. «массовое вооружение» (фр.), всеобщая воинская повинность. Примеч. ред.
449
Пример авторского анахронизма: переворот 18 фрюктидора был поддержан Наполеоном, но до единоличной власти (переворот 18 брюмера) оставалось еще два года. Примеч. ред.
450
Philip Dwyer, Napoleon. The path to power, 1769–1799 (London, 2007), passim.
451
Quoted in Blanning, ‘Frederick the Great’, in Simms and Urbach (eds.), Die Rückkehr der ‘Grossen Männer’, p. 23.
452
Philip G. Dwyer (ed.), ‘Napoleon and the drive for glory: reflections on the making of French foreign policy’, in Philip G. Dwyer (ed.), Napoleon and Europe (London, 2001), p. 129.
453
Javier Cuenca Esteban, ‘The British balance of payments, 1772–1820: India transfers and war finance’, Economic History Review, 54, 1 (2001), pp. 58–86, especially pp. 58 and 65–6.
454
Quoted in Gunther E. Rothenberg, ‘The origins, causes, and extension of the wars of the French Revolution and Napoleon’, Journal of Interdisciplinary History, 18 (1988), p. 789.
455
Daniela Neri, ‘Frankreichs Reichspolitik auf dem Rastatter Kongress (1797–1799)’, Francia, 24 (1997), pp. 137–57, especially pp. 155–6.
456
Quoted in Hochedlinger, ‘Who’s afraid of the French Revolution?’, p. 310.
457
Geoffrey Symcox, ‘The geopolitics of the Egyptian expedition, 1797–1798’, in Irene A. Bierman (ed.), Napoleon in Egypt (Reading, 2003).
458
Quoted in Edward James Kolla, ‘Not so criminal: new understandings of Napoleon’s foreign policy in the east’, French Historical Studies, 30, 2 (2007), p. 183. О склонности Наполеона воспринимать Азию в рамках европейской концепции баланса сил: Iradji Amini, Napoleon and Persia. Franco-Persian relations under the First Empire, within the con – text of the rivalries between France, Britain and Russia (Richmond, 1999), pp. 47–54.
459
Quoted in Karl A. Roider, Baron Thugut and Austria’s response to the French Revolution (Princeton, 1992), pp. 283–4.
460
Manfred Hellmann, ‘Eine Denkschrift über Russland aus dem Jahre 1800’, in Heinz Dollinger, Horst Gründer and Alwin Hanschmidt (eds.), Weltpolitik. Europagedanke. Regionalismus (Münster, 1962), pp. 135 and 156 (quotation p. 139).