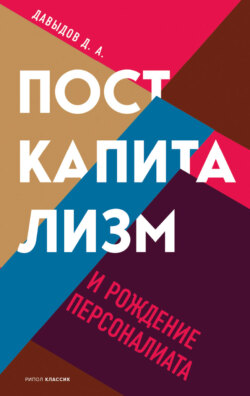Читать книгу Посткапитализм и рождение персоналиата - Д. А. Давыдов - Страница 3
Раздел I
Что такое социальная революция?
Глава 1
Забытая и актуальная. Эвристический потенциал теории общественных формаций
1.1. Теория общественных формаций и ее «фатальные» ошибки
ОглавлениеНаучное наследие К. Маркса и Ф. Энгельса по своим притязаниям на выявление и описание магистрального вектора развития человечества до сих пор не имеет аналогов. Разработанная советскими исследователями теория общественных формаций (здесь имеется в виду, что основоположники создали теорию формаций только в самых общих чертах, предложив формационную парадигму, которую затем развивали в основном советские ученые), в свою очередь, претендовала в странах советского блока на монопольное право делать научно обоснованные дальнесрочные прогнозы развития общества. Причем прогнозы эти, как предполагалось, должны были ориентироваться не на отдельные компоненты, не на те или иные черты или сферы общества, а на формирование образа будущего в его целостности. Основная функция теории общественных формаций заключалась в выявлении этапов исторического развития человечества (общественных формаций). Это давало возможность корректировать набор принципов, лежащих в основе материалистического понимания истории. Так, рассмотрение эволюции общественных формаций позволяло выяснить, какие конкретные процессы общественной жизни оказывают существенное влияние на историческое развитие (ведут к радикальным изменениям во всех сферах общества), а какие являются вторичными, несущественными.
Конечно, нужно учитывать, что теория общественных формаций как продукт советской науки – изобретение преимущественно идеологическое. (Впрочем, стоит отметить, что многие пришедшие на смену марксистскому истмату и заимствованные из зарубежной науки политологические (вроде концепций демократического транзита, «конца истории», теорий политической модернизации и т. п.) и экономические концепции (современная экономическая теория с ее «человеком экономическим») выполняли все ту же идеологическую роль, только в пользу противников марксизма и вообще «левой» картины мира.) Перед исследователями советского периода зачастую стояла задача «подгонять» факты под определенные теоретические клише. Тем не менее можно не согласиться с радикальным призывом отбросить всю советскую общественную науку как несостоятельную. За идеологической официальной ширмой скрывались весьма интересные и живые теоретические дискуссии, а сама теория общественных формаций, как мы увидим, зачастую не столько оправдывала существующий строй, сколько постепенно готовила теоретическую почву для «подрыва» самого идеологического над ней диктата. Моя цель – определить, насколько те «забытые» теоретические наработки современны, что из них сохранило эвристический потенциал применительно к изучению современности.
NB! Относительно скептического взгляда на научный статус теории общественных формаций можно привести цитату Ю. И. Семёнова:
«В России до революции и за рубежом и раньше и сейчас материалистическое понимание истории подвергалось критике. В СССР такая критика началась где-то… с 1989 г. и приобрела обвальный характер после августа 1991 г. Собственно, назвать все это критикой можно лишь с большой натяжкой. Это было настоящее гонение. И расправляться с историческим материализмом стали теми же самыми способами, какими его раньше защищали. Историкам в советские времена говорили: кто против материалистического понимания истории, тот не советский человек. Аргументация “демократов” была не менее проста: в советские времена существовал ГУЛАГ – значит, исторический материализм ложен от начала и до конца. Материалистическое понимание истории, как правило, не опровергали. Просто как о само собой разумеющемся говорили о его полнейшей научной несостоятельности. А те немногие, которые все же пытались его опровергать, действовали по отлаженной схеме: приписав историческому материализму заведомый вздор, доказывали, что это вздор, и торжествовали победу. Развернувшееся после августа 1991 г. наступление на материалистическое понимание истории было встречено многими историками с сочувствием. Некоторые из них даже активно включились в борьбу. Одна из причин неприязни немалого числа специалистов к историческому материализму состояла в том, что он навязывался им ранее в принудительном порядке. Это с неизбежностью порождало чувство протеста. Другая причина заключалась в том, что марксизм, став господствующей идеологией и средством оправдания существующих в нашей стране «социалистических» (в действительности же ничего общего с социализмом не имеющих) порядков, переродился: из стройной системы научных взглядов превратился в набор штампованных фраз, используемых в качестве заклинаний и лозунгов. Настоящий марксизм был замещен видимостью марксизма – псевдомарксизмом. <…> При этом не только превращались в мертвые схемы действительные положения материалистического понимания истории, но и выдавались за непреложные марксистские истины такие тезисы, которые никак не вытекали из исторического материализма. <…> Исторический материализм рассматривался как такой метод, который позволяет еще до начала исследования того или иного общества установить, что будет найдено в нем исследователем. Большую глупость придумать было трудно. В действительности материалистическое понимание истории не предваряет результаты исследования, оно лишь указывает, как нужно искать, чтобы понять сущность того или иного конкретного общества. Однако неверно было бы полагать, что для обратного превращения исторического материализма из шаблона, под который подгоняли факты, каким он у нас долгое время был, в подлинный метод исторического исследования достаточно вернуться к истокам, восстановить в правах все то, что когда-то было создано К. Марксом и Ф. Энгельсом. Материалистическое понимание истории нуждается в серьезном обновлении, которое предполагает не только внесение новых положений, которых не было у его основоположников, но и отказ от целого ряда их тезисов»39.
Сегодня актуальность марксизма, и в частности теории общественных формаций, растет, особенно в контексте современных дискуссий о движении человечества к посткапитализму. При этом стоит отметить, что здесь теория общественных формаций рассматривается как своего рода «аналитическая подпорка», теоретический инструмент в рамках материалистического понимания истории. Выделение по тому или иному критерию этапов развития общества позволяет выявлять и наглядно представлять механизмы воздействия экономического «базиса» на все остальные, «надстроечные», сферы общества. Это не означает, что общественные формации – нечто «объективно» существующее. Скорее общественные формации – продукт своеобразного абстрагирования, «логического упорядочивания» исследователем исторического процесса. Не исключено, что от результатов данного «упорядочивания» зависит успешность применения материалистического подхода к изучению глобальных политических, экономических и иных трансформаций современных обществ. Задача исследователя в данном случае – выявление наиболее значимых базисных (или, условно говоря, «фундаментальных абстрактных», позволяющих двигаться по пути к конкретному) факторов, влияющих на трансформацию общества и делящих историю на периоды (формации), в которых эти факторы наиболее действенны (влияют на все сферы общества и соответствующим образом выстраивают «социальную тотальность»). Разумеется, само материалистическое понимание истории необходимо рассматривать как один из возможных инструментов познания общества, не исключающий остальные (нацеленные на выявление культурных детерминант, описание своеобразия отдельных обществ и т. п.) и ориентированный на рассмотрение общества в определенном срезе, с помощью специфической «материалистической» методологической оптики.
Проблема заключается в том, что консенсус относительно критериев выделения общественных формаций так и не был достигнут. Теория общественных формаций в целом серьезно обесценилась в академическом сообществе, особенно после того как вместо предсказываемого ею перехода к коммунизму случилась реставрация капитализма. Другая крайность: многие современные исследователи утверждают, что никаких ошибок в основных положениях теории общественных формаций не было. Проблема якобы заключается в том, что изначальный посыл Маркса и Энгельса был искажен. Коммунизм стали строить в условиях недостаточно развитых производительных сил в отдельной стране, окруженной врагами и т. п. Иными словами, речь должна идти о том, что необходимо дождаться соответствующего развития производительных сил (дискурс об автоматизации и роботизации производства), и уже тогда можно вновь поставить вопрос о возобновлении целенаправленного движения к социализму/коммунизму. В конце концов, и капиталистическое общество возникло не сразу, происходили постоянные «откаты назад»40.
И все же, как я далее попытаюсь показать, ошибки были. Причем обусловлены они как раз отсутствием консенсуса относительно основного критерия выделения общественных формаций. В качестве такового пытались обозначить то преобладающие формы собственности, то исторические типы техники, то специфику производственных отношений. Все это попутно приводило к ряду трудностей, которые так и не были преодолены (не разрешены они и в современном марксизме). Моя цель – не только раскрыть те проблемы, которые имелись в теории общественных формаций, но также предложить новый принцип выделения исторических этапов развития человечества, опираясь на который можно было бы с иных позиций взглянуть на существующие представления о пределах капитализма и перспективах посткапиталистического общества.
***
В общем и целом, теоретический посыл, лежащий в основе материалистического понимания истории и теории общественных формаций, ясен. Он подразумевает, что существуют очень серьезные ограничения, накладываемые на конкретную историческую «форму» общества уровнем развития производительных сил. Этот посыл может иметь следующую формулировку: «Развитие экономики (понимаемой в самом широком смысле как производство и воспроизводство социального бытия), связанное с преобразующим характером предметной деятельности, ведет к развитию производительных сил, что на определенном этапе неизбежно вызывает необходимость изменения и производственных отношений. Но в силу того, что существующие производственные отношения закрепляются в регулятивных нормах надстройки, в какой-то момент надстройка перестает соответствовать уровню производства и становится тормозом развития общества. Нарождающийся новый базис в структурах еще существующей прежней общественной формы требует совершенно новых регулятивных механизмов (форм государства, права, морали), но этому препятствует старая надстройка, функции которой выполняют прежние господствующие классы. <…> Изменения, характеризующие прежде всего отношения производства, рано или поздно вступают в противоречие с устоявшимися социальными структурами, сформировавшимися на основе прежних форм производства; это создает условие для революции: новые формы производства и детерминированные ими отношения больше не могут уживаться со старыми формами государства и права»41. Такова в целом картина развития общества: одни способы производства приходят на смену другим, что влечет за собой закономерную ротацию надстроек. Погружаясь в конкретный контекст, мы можем опираться на эту идею, говоря об историчности тех или иных общественных структур, идеологий, представлений о человеке и т. д. Для этого и не нужен какой-то четкий универсальный критерий выделения общественных формаций. Маркс, говоря об общественных формациях, не создает никакой теории общественных формаций. Нужно помнить, что сам концепт «формация» в трудах Маркса и Энгельса являлся скорее метафорой. Для них главным было показать, что капитализм историчен, что он является всего-навсего определенным этапом развития человечества, на смену которому должно прийти что-то новое.
Поэтому необходимо иметь в виду, что теория (то есть нечто развернутое) общественных формаций42 является скорее результатом изысканий советских ученых-обществоведов, нежели масштабным явлением мировой науки43. В трудах классиков марксизма мы найдем лишь очень редкие разрозненные фрагменты (к примеру, в «Немецкой идеологии»44, в предисловии «К критике политической экономии»45, в третьем наброске ответа на письмо В. И. Засулич46 и др.), в которых тема исторического развития затрагивается максимально кратко, причем один фрагмент зачастую противоречит другому. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс рассматривают племенную, античную, феодальную, буржуазную формы собственности (заметим, форма собственности – это отнюдь не то же самое, что способ производства). В предисловии «К критике политической экономии» Маркс выделяет уже азиатский, античный, феодальный и буржуазный способы производства как «прогрессивные эпохи экономической общественной формации»47. В третьем наброске ответа на письмо В. И. Засулич Маркс говорит о трех больших общественных формациях – первичной, вторичной и третичной48. В «Капитале» и вовсе применяется неупорядоченный набор терминов, употребляющихся в разных значениях: «общественная формация», «общественно-экономическая формация», «формация общественного производства», «экономическая формация»49. Следует отметить, что для Маркса понятие «формация» во многом является попросту метафорой, взятой из геологии50. При этом во втором томе «Капитала» термин «формация» не упоминается вообще, а в третьем томе мы только в нескольких местах находим термины «общественная формация» и «экономическая формация общества» (например: «…с точки зрения более высокой экономической формации общества частная собственность отдельных индивидуумов на земной шар будет представляться не в меньшой степени нелепой, чем частная собственность одного человека на другого человека»51).
Сама по себе теория общественных формаций является, по сути, следствием творческой переработки того, что писали Маркс и Энгельс в своих сочинениях. Это было результатом систематического применения принципов материализма к изучению истории и анализу глобальных общественно-политических тенденций. И если Маркс и Энгельс обращались к термину «формация» довольно редко, то в Советском Союзе теория общественных формаций превращается в целую отрасль обществоведческих исследований. Думается, многочисленные дискуссии об общественных формациях свидетельствуют о довольно благородном побуждении – познать «логику» исторического развития52, не просто скользить по поверхности общественных явлений, но усматривать в человеческой истории закономерный глобальный процесс, которым можно в соответствии с познанной необходимостью пытаться управлять (или, по крайней мере, выстраивать долгосрочные прогнозы, осознавать необходимость тех или иных перемен). В то время как на Западе продолжали приветствовать в капиталистической экономике очищенную от традиции «правильную» на все времена систему с ее вечно молодым «человеком экономическим» (что тоже есть форма теоретического догматизма) или разрабатывали «социологические» концепции стадийного развития (например, теории постиндустриального/информационного общества), в Советском Союзе велись острые дебаты об универсальности механизмов смены общественных формаций, о непогрешимости «европоцентричной» пятичленной системы (например, имела ли место «азиатская» формация53), о количестве реально существовавших общественных формаций и т. п.
Конечно, партийный идеологический диктат негативно сказался на способности теории общественных формаций творчески развиваться. Часто дискуссии об общественных формациях превращались в догматические «подгонки» фактов под канонизированную «пятичленку»54. Некоторые проблемы теории были обусловлены незрелостью реальных предпосылок разложения капиталистической системы и развития пост-капиталистических общественных отношений. Часто научные выводы и прогнозы «редактировались» идеологическими лозунгами. Основной же проблемой, как мы полагаем, являлось так и не найденное рациональное решение вопроса о том, какой принцип должен лежать в основе выделения общественных формаций. В итоге за основу зачастую брались вторичные параметры, которые не могут достоверно указывать на то, что мы, как в случае с СССР, имеем дело с принципиально новым этапом общественного развития. Среди наиболее часто встречающихся критериев можно выделить следующие: преобладающие формы собственности, исторические типы техники, а также специфику производственных отношений.
***
Преобладающая форма собственности («правовая форма собственности»). Заранее отметим, что определение общественных формаций по преобладающей форме собственности не означает, что из рассмотрения исключаются все остальные моменты исторического процесса (эволюция средств производства, производственные отношения и т. п.). Скорее здесь имеет место стремление к классификационной наглядности: становлению той или иной формы собственности соответствуют определенные производственные отношения и порождающие их производительные силы («каковы формы собственности, таковы и производственные отношения»55).
Как было отмечено выше, Маркс и Энгельс делили историю развития человечества на этапы исходя из тех или иных преобладающих форм собственности (в «Немецкой идеологии»56, «Экономических рукописях 1857–1859 годов»). В итоге зачастую понятия «форма собственности» и «общественная формация» оказывались тождественными. К примеру, в книге «К теории общественных формаций» Ф. Тёкеи ведет речь об эволюции форм собственности. Он рассматривает эволюцию докапиталистических общественных формаций как постепенное разложение общины и становление частного землевладения. При этом азиатская, античная и германская (феодальная) формы собственности являются этапами данного длительного процесса. По мнению Тёкеи, при первой форме «естественно возникшая община есть субстанция, где индивиды представляют собой лишь ее атрибуты, при второй форме община есть такое общее, которое, даже отделенное от индивидов, может обладать самостоятельным существованием, и, наконец, в третьей форме община есть лишь придаток по отношению к индивидам. Рассматривая развитие в целом, нетрудно обнаружить, по существу, те же три фазы: в докапиталистических формах все индивиды – пусть это землевладелец или работающий частный собственник – являются непосредственными членами общины, неотделимы от нее, при капиталистической форме подлинная “общность” обособлена и отчуждена от индивида, противостоит ему как нечто овеществленное, и, наконец, при коммунизме индивиды сами являются творцами общности, которая им принадлежит и ни в коем случае не может им противостоять»57.
Однако проблема данного подхода заключается в том, что на второй план отодвигаются более существенные аспекты способа производства. Как отмечает В. Ж. Келле в послесловии к книге Тёкеи, возникает вопрос: чем же определяется внутренняя логика исторического процесса? «Ф. Тёкеи пытается дать ответ на этот вопрос с помощью своих формул-схем, изображающих основные формы собственности. Действительно, ему удается показать, что в смене форм собственности от племенной до коммунистической отражается внутренняя логика всемирно-исторического процесса. Но автор все-таки не акцентирует внимание на том главном обстоятельстве, что сама эта логика развития форм собственности “задается” развитием производительных сил, и прежде всего орудий труда»58.
Более того, как только в поле зрения разработчиков теории общественных формаций начали чаще попадать неевропейские страны, выяснилось, что рассмотренная выше эволюция форм собственности им совершенно не соответствует. Очевидно, в зависимости от каких-то обстоятельств, внешних для самого технического ядра способа производства (например, войны, позволявшие завозить в массовом порядке рабов), сосуществовавшие формы эксплуатации и собственности попросту сменяли друг друга в качестве преобладающих. Иными словами, появились причины отнести процессы смены форм собственности скорее к «надстроечным», нежели к «базисным». По крайней мере, подчеркивалось, что смена преобладающей формы собственности еще не означает одновременной трансформации способа производства. Как отмечает В. П. Илюшечкин, «метод выведения антагонистических классов из господствующих форм частнособственнической эксплуатации, восходящий к историко-социологической концепции А. Сен-Симона и его последователей, явно не срабатывает на современном уровне знаний о системе добуржуазной частнособственнической эксплуатации, поскольку оказывается, что ее господствующих форм было не две, как считалось некогда, а четыре (рабство, крепостничество, докапиталистическая аренда и колонат) и что сменяли они одна другую – там, где такая смена происходила, – в самой различной последовательности»59. В. П. Илюшечкин обнаружил, что не существовало никакого рабовладельческого и феодального способов производства. И так называемые рабовладельческие, и феодальные общества «базировались на природно-обусловленной, натуральной системе производительных сил, для которой были характерны: основанное на ручном труде и очень несложной инструментальной технике рутинное сельское хозяйство в качестве основного занятия подавляющего большинства массы населения, преобладание живого труда над овеществленным в средствах производства, недостаточное развитие товарно-денежных отношений, преобладание обмена между обществом и природой над обменом в обществе, естественного разделения труда по полу и возрасту в производственных ячейках над общественным разделением труда, абсолютное господство таких форм организации труда, которые исключали его кооперацию и комбинирование, преимущественно натуральное и полунатуральное производство, рассчитанное прежде всего на удовлетворение собственных потребностей производителей, и т. д.»60. Феодализм – это, как показывает Илюшечкин, явление политико-правовое, в то время как «широкое распространение рабства в отдельных странах Древнего мира являлось не правилом, а исключением и было обусловлено не какой-либо общеисторической закономерностью, но лишь стечением особо благоприятных для этого обстоятельств»61. Фактически в сословно-классовых обществах лишь менялись количественные соотношения в распространенности тех или иных форм эксплуатации (рабская, оброчная, крепостническая, арендаторская и наемный труд).
Примечательно, что из этого вытекает следующее: осуществленный большевиками государственный переворот, повлекший за собой смену преобладающей формы собственности, не означал переход общества в качественно новое состояние, то есть переход к новой общественной формации. Данное положение объясняет все известные антиномии СССР, и в частности тот факт, что под коммунистическим идеологическим соусом существовала громоздкая система эксплуатации труда совокупным эксплуататором в лице государства. Юридический статус эксплуататора несколько изменился, но суть производственных отношений поменялась мало62. М. И. Воейков справедливо отмечает, что многими чертами советское общество больше напоминало буржуазное, чем социалистическое: «…под буржуазностью в данном случае понимается стремление человека (или группы людей, слоя, класса) в своей повседневной, и прежде всего хозяйственной, деятельности следовать правилам рационального экономического поведения. Буржуазность – это скрупулезное соизмерение затрат и результатов труда, бережливость, экономичность, говоря по-старому, хозрасчет, экономическая рациональность, возведенная в высший принцип существования, в религию»63.
Исторические типы техники. Другой подход – выделять общественные формации в соответствии с историческими типами техники. Думается, этот подход уже ближе к истине, ведь именно техника определяет саму суть производственного процесса, служащего основанием для экономического уклада. Маркс пишет, что «экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых совершается труд»64. Соответственно, нередко преобладающие формы собственности исследователи связывают с тем или иным уровнем развития техники и технологий. К примеру, так поступает В. А. Вазюлин, характеризуя разницу между рабовладельческой и феодальной общественными формациями следующим образом: «…рабовладельческие отношения возникли и развились при преобладающем применении каменных и деревянных ручных орудий труда в земледелии и скотоводстве. Господство крупной частной собственности на землю уже неизбежно предполагает широкое применение железных орудий в земледелии. Только при преобладании в земледелии железных орудий труда, т. е. орудий, с необходимостью предполагающих предварительную обработку, становятся возможными преодоление господства в земледелии естественно возникшего отношения к земле и установление господства частной собственности на землю»65. Зрелому же капитализму соответствует, по мнению историка, техническая база крупного производства: «…механическое, непрерывное, правильное движение частей рабочей машины коренным образом отличается от функционирования двигательной силы человека и животных, а также от нерегулярной механической силы воды и ветра, если они непосредственно применяются для приведения в движение машин»66.
Однако можно заметить, что и такой подход имеет свои существенные недостатки. Прежде всего, очень трудно выделять количественный и качественный аспекты развития техники (и технологий). Качественных исторических типов техники можно указать бесконечное множество. Например, в капиталистическую эпоху технологических укладов сменилось уже довольно много, но суть производственных отношений (сами базовые основы капиталистической системы) от этого изменилась мало.
Еще одна связанная с технико-технологической исследовательской оптикой проблема – попытки ассоциировать наступление коммунистической общественной формации с некоторым уровнем научно-технического развития, который при минимальном приложении совокупного общественного труда позволял бы обеспечивать изобилие материальных благ. Эти попытки приводили к, условно говоря, «завышенным» оценкам научно-технических возможностей эпохи. Так, уже классики марксизма утверждали (при этом часто вступая в противоречие с другими своими тезисами), что в их время уже все готово для построения социализма. Энгельс пишет в «Анти-Дюринге»: «Возможность обеспечить всем членам общества путем общественного производства не только вполне достаточные и с каждым днем все улучшающиеся материальные условия существования, но также полное свободное развитие и применение их физических и духовных способностей, – эта возможность достигнута теперь впервые, но теперь она действительно достигнута»67. В СССР в официальной пропаганде отмечались грандиозные достижения науки и техники, приближающие настоящий коммунизм68. Разумеется, никакого реального приближения коммунизма при этом не было.
Специфика производственных отношений. Наконец, с точки зрения идеологии было выгодно делать упор на специфику производственных отношений. В конце концов, на официальном уровне можно было утверждать, что в стране отсутствует эксплуатация человека человеком, все средства производства принадлежат государству (трудящемуся народу) и т. п. Как отмечают авторы коллективной монографии «Марксистско-ленинская теория исторического процесса» (1983), «ограничивать исследование материальной основы исторического процесса производственной техникой – значит заведомо ставить преграду для выяснения различий докапиталистических способов производства. С таких позиций нельзя, например, провести принципиальную черту между социализмом и современным капитализмом. Не всегда учитывается также и то, что производительные силы необходимо рассматривать в диалектической взаимосвязи с производственными отношениями, ибо две стороны общественного способа производства всегда функционируют в неразрывном единстве и не могут характеризоваться одна без другой»69.
Данный тезис вполне закономерен, поскольку нужно было как-то оправдывать сосуществование «реального социализма» и капитализма примерно на одном научно-техническом уровне развития. При этом было принято рассматривать производительные силы в диалектике с производственными отношениями70, будто бы плановая экономика и государственная собственность на средства производства принципиально меняют саму общественную формацию (саму суть производственных отношений со всеми вытекающими следствиями). Однако фактически при подобном подходе предлагается рассматривать в качестве главенствующего политический фактор, словно преимущественно политическими актами можно преобразовать производственные отношения и тем самым изменить общественную формацию. В данном случае мы рискуем выдать желаемое за действительное. Так было в СССР: всецело провозглашалось, что созданные большевиками новые институты управления экономикой – это и есть производственные отношения коммунистической общественной формации (пусть даже ее первой «стадии»). Между тем реальная новизна свелась лишь к появлению одного огромного эксплуататора. Сущность производственных отношений в СССР мало чем отличалась от таковой в США или Европе: имели место эксплуатация труда, денежные отношения, экономическая конкуренция между отдельными производственными единицами и т. п.
Иными словами, ситуация оказывается весьма сложной: или никакие общественные формации как устойчивые, качественно определенные стадии развития общества выделить невозможно, или нужно искать другой критерий их выделения. Имеющиеся же критерии либо являются поверхностными (например, по преобладающей форме собственности), либо упираются в довольно сложную, преимущественно количественную, категорию уровня технологического развития. Ясно, что искать нужно в направлении, связанном с техникой и технологиями, но не ограничиваться ими. Никакие перевороты только в производственных отношениях не могут изменить тех жестких ограничений, которые налагают на человеческую свободу материальные условия «производства жизни». Но нам нужно найти более подходящий, качественный, критерий, который бы позволил представить целостную логику исторического процесса.
39
Семёнов Ю. И. Марксова теория общественно-экономических формаций и современность // Философия и общество. 1998. № 3. С. 195–196.
40
А. В. Бузгалин, А. И. Колганов: «…на базе технологий (и, прежде всего, содержания труда), характерных для прежней системы (ручной труд для докапиталистических систем, индустриальный – для капитализма), новая система (соответственно, капитализм или социализм) может возникнуть, а может и не возникнуть. Революционный порыв может привести к победе, а может – к поражению. В случае победы начнется развитие новой системы на еще не адекватном для нее технологическом базисе, возникнет феномен, который я бы назвал “опережающей мутацией”. Это ситуация, когда общественные отношения несколько “забегают вперед” по отношению к материальному базису, содержанию труда» (Бузгалин А. В., Колганов А. И. 2008. XXI век: в чем был прав и в чем ошибался Карл Маркс. Альтернативы. № 4. [Электронный ресурс]. URL: http://www.intelros.ru/intelros/reiting/reyting_09/material_sofiy/8546-xxi-vek-v-chem-byl-prav-i-v-chem-oshibalsya-karl-marks.html (дата обращения: 14.03.2021).
41
Кондрашов П. Н. Онтологические структуры историчности. Исследование философии истории Карла Маркса. М.: URSS, 2014. С. 150–151.
42
Пока воспользуемся следующим определением: общественная формация (Gesellschaftsformation) – исторически сложившийся на основе определенного способа производства и соответствующей ему надстройки тип общества, характеризующийся определенными технологиями и техническими средствами, социальной структурой, механизмами производства, распределения и потребления, господством той или иной формы собственности, теми или иными формами духовного освоения мира. Иными словами, под общественной формацией понимают определенную систему социальных явлений и отношений, внутренне связанных друг с другом и зависимых друг от друга, организм, материальной основой которого является способ производства.
43
Отмечая это, мы вовсе не желаем принизить вклад зарубежных исследователей-марксистов в исторический материализм как таковой (см., например: История марксизма. Т. 1. Марксизм во времена Маркса. М.: Издательство «Прогресс», 1984; Андерсон П. Переходы от античности к феодализму. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007; Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М.: Издательский дом «Территория будущего» и многое другое, 2010). Речь идет о том, что теория общественных формаций как нечто системно (можно даже сказать – институционально) развивающееся является достоянием советской (и внешне примыкающей к ней) общественной науки.
44
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 7–544.
45
Маркс К. К критике политической экономии / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. С. 1–167.
46
Маркс К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. С. 400–420.
47
Маркс К. К критике политической экономии / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. С. 7.
48
Маркс К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. С. 400–420.
49
Маркс К. Капитал. Т. 1 / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы; Маркс К. 1962. Капитал. Т. 3 / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25, ч. II. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960.
50
Маркс часто вместо слова формация употребляет термины ступень, форма. Например, в первом томе «Капитала» Маркс говорит о «более высокой общественной форме, основным принципом которой является полное и свободное развитие каждого индивидуума» (Маркс К. 1960. Капитал. Т. 1 / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы. C. 605).
51
Маркс К. Капитал. Т. 3 / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25, ч. II. М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. С. 337.
52
Вазюлин В. А. Логика истории: Вопросы теории и методологии. М.: Ленанд, 2019.
53
См.: Качановский В. Ю. Рабовладение, феодализм или азиатский способ производства? Спор об общественном строе древнего и средневекового Востока, доколониальной Африки и доколумбовой Америки. М.: Издательство «Наука», 1971.
54
Это также видно по тому, как многие авторы, в советские времена придерживавшиеся «канона», в 90-е и нулевые годы радикально или существенно меняли свои взгляды (например, Т. И. Ойзерман и многие другие). Ср.: «“Великая Октябрьская социалистическая революция, – говорится в Программе КПСС, – открыла новую эру в истории человечества – эру крушения капитализма и утверждения коммунизма. Социализм восторжествовал в Стране Советов, одержал решающие победы в странах народной демократии, стал практическим делом сотен миллионов людей, знаменем революционного движения рабочего класса всего мира”. В наше время, когда социализм победил на значительной части земли и доказал свое превосходство над капитализмом, враги марксизма уже не могут третировать научный социализм как беспочвенную, несбыточную утопию» (Ойзерман Т. И. Формирование философии марксизма. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1961. С. 17); «Нельзя, конечно, согласиться с этим определением ревизионизма, который представляет собой не политиканство, приспосабливающееся “к поворотам политических мелочей”, а вполне определенную, последовательную политику и также вполне оправданную критическую позицию относительно основ марксизма» (Ойзерман Т. И. Марксизм и утопизм. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 439).
55
Кабаев Г. Что такое способ производства. М.: Московский рабочий, 1961. С. 33.
56
Хотя еще раньше в «Экономическо-философских рукописях» мы находим следующее: «Именно то обстоятельство, что разделение труда и обмен суть формы частной собственности, как раз и служит доказательством как того, что человеческая жизнь нуждалась для своего осуществления в частной собственности, так, с другой стороны, и того, что теперь она нуждается в упразднении частной собственности» (Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. / Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Государственное издательство политической литературы, 1956. С. 615).
57
Тёкеи Ф. К теории общественных формаций. М.: Издательство «Прогресс», 1975. С. 166.
58
Там же. С. 265.
59
Илюшечкин В. П. Теория стадийного развития общества (история и проблемы). М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. С. 256.
60
Там же. С. 196.
61
Там же. С. 221.
62
См., например: Кржевов В. С. Теория общественно-экономических формаций и программа социалистической революции в России // Вопросы философии. 2018. № 12. С. 47–57.
63
Воейков М. И. Вперед к капитализму? К вопросу о предстоящей стадии социально-экономического развития России // Свободная мысль. 2015. № 4. С. 134.
64
Маркс К. Капитал. Т. 1 / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. С. 191.
65
Вазюлин В. А. Логика истории: Вопросы теории и методологии. М.: Ленанд, 2019. С. 280.
66
Там же. С. 311.
67
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом / Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. С. 294.
68
Пример: «…особенно больших успехов добился Советский Союз. Когда-то царская Россия в экономическом отношении далеко отставала от других капиталистических стран. А теперь наша страна занимает второе место в мире по уровню промышленного производства после Соединенных Штатов Америки. В ближайшие годы трудящиеся СССР будут иметь самый короткий в мире рабочий день и рабочую неделю. С октября 1960 года началась постепенная отмена налогов с рабочих и служащих. К концу семилетки взимание налогов прекратится окончательно. Советская наука в ряде отраслей заняла ведущее место в мире. Достаточно напомнить о запуске искусственных спутников Земли и космических кораблей, которые подготовляют полет человека в космос. Это ли не поразительные достижения социализма, не доказательства его превосходства над капитализмом!» (Кабаев Г. Что такое способ производства. М.: Московский рабочий, 1961. С. 4).
69
Марксистско-ленинская теория исторического процесса. Исторический процесс: целостность, единство и многообразие, формационные ступени. М.: Издательство «Наука», 1983. С. 360.
70
Такую аргументацию можно встретить и сегодня. Так, Б. Ф. Славин пишет: «…для подлинного марксистского понимания реальной ситуации здесь нужна не формальная, а диалектическая логика, не технологический детерминизм… и вытекающий из него автоматизм смены общественных отношений, а признание детерминизма общественных отношений и человека по отношению к технике» (Славин Б. Ф. Возвращение Маркса: О социальном идеале Маркса и исторических судьбах социализма. М: ЛЕНАНД, 2019. С. 240). И далее: «…что же, с моей точки зрения, обусловливало “рабочий”, а в перспективе социалистический характер советского государства? Прежде всего, государственная собственность на основные средства производства, с одной стороны, и сознательный или планомерный характер развития экономики и социальной сферы – с другой. Наряду с известными идеологическими и политическими причинами именно эти объективные факторы заложили социалистический вектор развития советского общества, обеспечивающий в первую очередь удовлетворение интересов рабочего класса и трудового крестьянства» (Там же: С. 243).