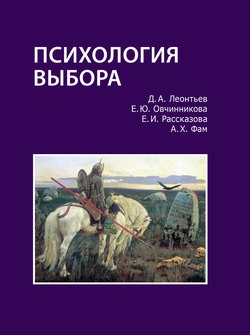Читать книгу Психология выбора - Д. А. Леонтьев - Страница 5
Глава 1
Подходы к пониманию и исследованию выбора в психологии и науках о человеке
1.1. Философско-этические представления о выборе
1.1.1. Понимание выбора в философии
ОглавлениеПостановку проблемы выбора можно найти уже у Аристотеля (384–322 гг. до н. э.). По его мнению, выбор «самым тесным образом связан с добродетелью и еще в большей мере, чем поступки, позволяет судить о нравах» (Аристотель, 1984, с. 99). При этом он относит свои суждения только к сознательному выбору (pro heneron haireton), подчеркивая, что это понятие уже, чем понятие произвольного, относит выбор к тому, что «зависит от нас», и критикует взгляды тех, кто связывает выбор с влечением, желанием или индивидуальным мнением. «Влечение противоположно сознательному выбору <…> Влечение связано с удовольствием и страданием, а сознательный выбор ни к тому, ни к другому отношения не имеет» (там же, с. 100).
Интересно разведение у Аристотеля выбора и мнения: «Каковы мы, зависит от того, благо или зло мы выбираем, а не от того, какие у нас мнения» (там же). Тем самым выбор отчетливо связывается у него в «Никомаховой этике» с практическим поведенческим воплощением, однако предстает как сложно опосредованный, а не импульсивный процесс. «Делают наилучший выбор и составляют наилучшее мнение, по-видимому, не одни и те же люди, но некоторые довольно хорошо составляют мнение, однако из-за порочности избирают не то, что должно» (там же, с. 101).
Аристотель подробно останавливается на связи между выбором и принятием решения. Предположив эту связь, он развивает мысль далее, замечая, что решения мы принимаем только по поводу того, что зависит от нас. «Решения бывают о том, что происходит, как правило, определенным образом, но чей исход не ясен и в чем заключена неопределенность» (там же, с. 102). Показывая, что решения относятся не к целям, а к средствам, Аристотель в завершение анализа определяет сознательный выбор как «способное принимать решения стремление к зависящему от нас» (там же, с. 103). Понятие решения у Аристотеля практически синонимично понятию выбора и противопоставляется понятию мнения; характерно, что в современной когнитивной парадигме принятие решения оказывается ближе к понятию мнения; в его определение уже не входит связь с личной причинностью и с деятельной реализацией, подчеркивавшаяся Аристотелем. Неразрывную связь, выражаясь современным языком, когнитивной и экзистенциальной сторон выбора Аристотель формулирует так: «Как без рассудительности, так и без добродетели сознательный выбор не будет правильным, ибо вторая создает цель, а первая позволяет совершать поступки, ведущие к цели» (там же, с. 190).
В «Евдемовой этике» Аристотель высказывает похожие мысли несколько иными словами. Важно, в частности, его утверждение о том, что «выбор не бывает истинным и ложным, так же как и мнение о вещах, которые мы должны осуществить, когда мы раздумываем, должно ли делать или не делать что-либо» (Аристотель, 2005, с. 65).
Таким образом, Аристотель недвусмысленно связывает выбор с сознательностью и рассудительностью, но подчиняет когнитивную составляющую этико-мотивационной; именно с этой последней, а не с формированием мнения, он соотносит «качество» выбора. Принятие решения у Аристотеля практически совпадает с выбором, в отличие от мнения. Наконец, Аристотель последовательно связывает выбор с активной деятельной способностью к совершению поступка и с контролем над действием, то есть с тем, что сегодня называется «субъектность» (см.: Леонтьев Д.А., 2010). Сознательный выбор – это «мнение совместно со стремлением, когда после обсуждения они объединяются в поступке» (Аристотель, 2005, с. 69).
Он придавал большое значение условиям и цели поступка, отмечая: «Если цель – это предмет желания, а средства к цели – предмет принимаемого решения и сознательного выбора, то поступки, связанные со средствами, будут сознательно избранными и произвольными» (Аристотель, 1984, с. 104). По мнению Аристотеля, источник поступков находится в самом человеке (за исключением тех случаев, когда они совершаются подневольно либо по неведению); следовательно, от него же зависит, совершать их или нет. Отличие сознательного выбора от влечения (яростного порыва) заключается в его «воздержанности», отсутствии связи с удовольствием и страданием. В отличие от желания, сознательному выбору подлежит лишь то, что человек считает от себя зависящим (а не вечное, не изменчивое и не случайное). Сознательный выбор всегда касается того, о чем человек имеет представление как о благе, но он может быть как порочным, так и добродетельным, и в последнем случае его хвалят за верность (в отличие от мнения, которое хвалят за истинность).
На протяжении последующих двух тысячелетий проблема выбора ушла из сферы философского анализа, и даже к обсуждению общих вопросов свободы воли философы вернулись лишь в XVIXVII столетиях. Проблему собственно выбора затрагивал И. Кант (Кант, 1965), который пытался найти точки соприкосновения детерминированности человеческого поведения, с одной стороны, и возможности свободного выбора им своих поступков, с другой. Позднее последователь И. Канта философ В. Виндельбандт (Виндельбандт, 1905) рассматривал несколько оснований выбора: случайные или постоянные мотивы, когниции и реальные чувства или воображения и «представляемые чувства». По его мнению, выбор можно рассматривать как свободный акт, только если он опирается на постоянные мотивы, отражающие сущностные характеристики конкретного человека, а не на ситуативные, случайные мотивы.
Первый детальный анализ проблемы выбора в науках о человеке в Новое время был сделан более полутора столетий тому назад Сереном Кьеркегором в одной из его главных книг «Или – или», которая на русском языке издавалась под названием «Наслаждение и долг» (Киркегор, 1994). За прошедшее с тех пор время о выборе было написано очень мало того, что можно поставить рядом с этим глубоким и блестящим анализом. Характерно, что в нем на передний план выступает внерациональный характер выбора, его несводимость к процессам оценки и взвешивания альтернатив. Кьеркегор задает экзистенциальный ракурс подхода к проблеме выбора не как к отдельному психическому акту или рациональному решению, а как к ситуации, в которую оказывается неминуемо вовлечена личность в целом. Выбор или уход от него имеют последствия для всей жизни человека и для его Я, существенно выходящие за рамки того порой частного вопроса, который является предметом решения. «Выбор сам по себе имеет решающее значение для внутреннего содержания личности: делая выбор, она вся наполняется выбранным, если же она не выбирает, то чахнет и гибнет» (там же, с. 234). Смысл выбора, таким образом, оказывается заметно шире самой ситуации выбора; он не только в сути ответа на вопрос, в принимаемом по конкретному поводу решении, но и в том, как именно личность включается в нахождение ответа, каким путем этот ответ получен.
«Выбираемое находится в самой тесной связи с выбирающим, – говорит далее Кьеркегор, – и в то самое время, когда перед человеком стоит жизненная дилемма: или – или, самая жизнь продолжает ведь увлекать его по своему течению, так что чем более он будет медлить с решением вопроса о выборе, тем труднее и сложнее становится этот последний, несмотря на неустанную деятельность мышления, посредством которого человек надеется яснее и определеннее разграничить понятия, разделенные “или – или” <…> Внутреннее движение личности не оставляет времени на эксперименты мысли» (там же, с. 235). Здесь Кьеркегор подчеркивает, что мы решаем проблему выбора не как интеллектуальную задачу, мы вовлечены в поток, который несет нас по своим законам, и именно выбор является залогом возможности сойти с этой траектории. И если человек «забудет принять в расчет обычный ход жизни, то наступит наконец минута, когда более и речи быть не может о выборе, не потому, что последний сделан, а потому, что пропущен момент для него, иначе говоря – за человека выбрала сама жизнь, и он потерял себя самого, свое “я”» (там же).
Кьеркегор подчеркивает динамичность выбора. Минута выбора очень важна, говорит он, потому что «в следующую минуту я буду уже не так свободен выбирать, поскольку успею уже пережить кое-что, и это-то пережитое затормозит мне обратный путь к точке выбора. Если кто думает, что можно хоть на мгновение отрешиться от своей личности или возможно действительно приостановить жизнедеятельность личности, тот жестоко ошибается. Личность склоняется в ту или другую сторону еще раньше, чем выбор совершился фактически, и если человек откладывает его, выбор этот делается сам собою, помимо воли и сознания человека, под влиянием темных сил человеческой природы» (там же, с. 236). В другой своей работе «Страх и трепет» (Кьеркегор, 1993) С. Кьеркегор отмечал, что каждое решение, принимаемое человеком, может вести его в будущее или удерживать в прошлом; таким образом, человек свободен в выборе направления своего выбора.
Кьеркегор различает два вида выбора, которые он связывает с двумя описанными им типами личности: эстетическим и этическим. В первом случае это непосредственный выбор на основе вкусов и предпочтений в духе пословицы «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше». Сам выбор обусловлен особенностями сравниваемых альтернатив, и потому сравнительно предсказуем, и вместе с тем ситуативен, и легко может смениться другим. «Так, если молодая девушка следует выбору сердца, то, как бы ни был прекрасен этот выбор, его нельзя назвать истинным выбором: он совершается непосредственно» (там же, с. 239). В этическом выборе сам акт выбора, его качество имеет решающее значение: важно не столько то, что выбирается, сколько то, как. В нем «личность проявляет всю свою силу и укрепляет свою индивидуальность, и, в случае неправильного выбора, эта же самая энергия поможет ей прийти к осознанию своей ошибки» (там же). Человеку свойственно ошибаться, мы ошибаемся и исправляем наши ошибки. Но исправить наши ошибки мы можем только в том случае, если мы признаем ответственность за наш выбор.
Само состояние подлинного (этического) выбора является благотворным для человека вне зависимости от того, что именно выбрано. «Эту минуту можно сравнить с торжественной минутой посвящения оруженосца в рыцари – душа человека как бы получает удар свыше, облагораживается и делается достойной вечности. И удар этот не изменяет человека, не превращает его в другое существо, но лишь пробуждает и конденсирует его сознание, и этим заставляет человека стать самим собой» (Киркегор, 1994, с. 252). Человек становится сам собой, осознавая себя как выбирающего. Через пробуждение сознания в акте выбора он пробуждается, «собирает себя» (Мамардашвили, 1997). Таким образом, для Кьеркегора выбор – это не техническая операция, служащая решению ситуативной задачи, а то, что обладает высочайшей ценностью само по себе. «Решись только на выбор, и ты сам увидишь, – говорит Кьеркегор, – что это единственное средство сделать жизнь действительно прекрасной, единственное средство спасти себя и свою душу, обрести весь мир и пользоваться его благами без злоупотребления» (Киркегор, 1994, с. 253). Речь, конечно, идет именно об этическом выборе, основание которого в свободном решении личности, но не о непосредственном, эстетическом выборе. «Непосредственность, как цепь, привязывала человека ко всему земному, теперь же дух стремится уяснить себя самого и извлечь человеческую личность из этой зависимости, чтобы она могла сознать себя в своем вечном значении» (там же, с. 266).
Разрыв этой зависимости Кьеркегор прямо связывает с принятием ответственности за себя и выбором себя самого, который перерождает человека. «Выбор сделан, и человек обрел себя самого, овладел самим собою, то есть стал свободной сознательной личностью, которой и открывается абсолютное различие – или познание – добра и зла. Пока человек не выбрал себя самого, различие это скрыто от него» (там же, с. 305–306). Эстетик, по Кьеркегору, сам себя не выбирает: «Пока человек живет исключительно эстетической жизнью, вся его личность – плод случайности» (там же, с. 339), а его жизненной задачей становится «культивирование своей случайной индивидуальности во всей ее парадоксальности и неправильности» (там же, с. 340). Жизненной же задачей этика «становится он сам: он стремится к облагороживанию, урегулированию, образованию, всестороннему развитию своего “я”, иначе говоря – к равновесию и гармонии души, являющейся плодом личного самоусовершенствования. Жизненной целью такого человека становится также он сам, его собственное “я”, но не произвольное или случайное, а определенное, обусловливаемое его собственным выбором, сделавшим его жизненной задачей – его самого во всей его конкретности» (там же, с. 341).
Интересную трактовку этой мысли предлагает Ш. Иенгар, констатируя, что мы находим себя в эволюции процесса выбора, а не просто его результатов (Iyengar, 2010, p. 110). «Можно сказать, что мы стремимся прийти в состояние гомеостаза с помощью петли обратной связи между идентичностью и выбором: Если я таков, то я должен выбрать это; если я выбираю это, то я, по-видимому, таков» (Ibid., p. 109). Т.В. Корнилова с соавторами также в согласии с этим констатируют, что в актах выбора человек ориентируется не только на предвосхищения исходов в развитии ситуации, но и на то, кем он станет в результате своего выбора (Корнилова, Чумакова, Корнилов, Новикова, 2010, с. 12), однако подробнее эту мысль не развивают.
В художественной литературе и кино предложено немало убедительных иллюстраций того, как сделанный в критической ситуации выбор трансформирует личность в целом. В их числе «Фауст» И. Гете, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, фильм В. Аллена «Мечты Кассандры».
Французский философ-интуитивист А. Бергсон рассматривал выбор как проявление свободы воли человека, личностный, волевой поступок, совершаемый в плоскости сознания, но детерминируемый тем, что лежит вне этой плоскости: «Подлинная ситуация выбора, в которой сошлись несколько жизненно существенных альтернатив, принципиально неподвластна рассудочному вычислению и вообще принципиально неразрешима в той самой горизонтальной плоскости жизни, где она возникла и проявилась. Для осуществления выбора необходим переход сознания в другое измерение, в другую – вертикальную – плоскость» (Бергсон, 1992, с. 303). Согласно Бергсону, осознание своего намерения и последствий поступка меняет саму личность, в результате чего альтернативы, из которых приходится выбирать субъекту, являются по определению неравноправными из-за движения сознания вперед по временной оси. По А. Бергсону, выбор, воплощающий в себе акт принятия решения, личностный поступок и свободу воли, обусловлен всем предшествующим жизненным путем личности и личностным развитием. Совершение личностного, свободного выбора становится возможным лишь благодаря тому, что его предопределяет весь предшествующий выбору жизненный путь человека, накопленный им в процессе развития опыт.
Ключевое место понятие выбора занимает в работах экзистенциальных философов XIX–XX вв., рассматривающих этот феномен в аспекте свободы – детерминированности человеческих поступков, риска, неопределенности и ответственности личности за собственную жизнь. Несмотря на неоднородность этого направления и зачастую противоречивость позиций разных авторов, можно выделить общий вектор рассмотрения проблемы выбора: отсутствие предзаданности природы человека («существование предшествует сущности»); формирование человеком самого себя и трагичность, необратимость этого процесса.
В трудах К.Т. Ясперса проблема выбора выступает одновременно как философская проблема, вопрос веры и одна из ключевых проблем психотерапии. Согласно его учению, для осуществления подлинного выбора (выбора в себе «образа божьего») необходимо обратиться к религиозной или философской вере. Полемизируя со сторонниками психоанализа, автор подчеркивал роль свободного, экзистенциального выбора пришедшего на психотерапию человека: «При всех советах пациенту, стремлении помочь ему взглянуть на его реальную ситуацию, на его личностный мир и на самого себя, важнейшим остается решительное Да или Нет пациента» (цит. по: Руткевич, 1997, с. 29); задача психотерапевта – лишь подвести пациента в процессе общения к мысли о необходимости такого выбора.
М. Хайдеггер определял выбор как универсальную структуру фактичного экзистирования, осуществляемого в условиях неопределенности, в открытой и многомерной перспективе понимания собственной фактичности и проектирования собственного будущего. Фундаментальным выбором вот-бытия, к которому, в конечном итоге, сводится всякий бытийный акт, является выбор человека между возможностями быть подлинно и неподлинно, между «самостью» и «безликостью» (Хайдеггер, 1993). Согласно Хайдеггеру, со-существование с Другим является неотчуждаемым моментом индивидуации вот-бытия, поскольку внутреннее напряжение фундаментального выбора вот-бытия осуществляется в форме «внешнего» конфликта его самобытия и его неподлинной «подчиненности», конфликта собственных и чужеродных бытийных возможностей (Борисов, 1997).
По Ж.-П. Сартру (1989, 2004), человек – это «существо, которое устремлено к будущему и сознает, что оно проецирует себя в будущее» (Сартр, 1989, с. 323), а личностный выбор – это творение себя, воплощение в жизнь проекта самого себя, который переживается субъективно как преодоление внешних препятствий через обретение «смысла в выборе» (Сартр, 2004, с. 498). С каждым выбором человек выбирает не только себя, но и человека вообще, признавая за тем или иным выбором ценность. При этом накопление выборов образует так называемый фундаментальный проект (Сартр, 2004), задающий общую направленность целей в жизни. Фундаментальный экзистенциальный выбор человека – это выбор своего жизненного проекта, выбор себя, сопряженный с проявлением экзистенциальной ответственности (ответственности за человечество в целом), принятием неопределенности и переживанием тревоги: «Если я услышу голос, то только мне решать, является ли он гласом ангела» (Сартр, 1989, с. 325).
Поскольку предзаданность существования человека отсутствует, человек «осужден быть свободным», осужден всякий раз «изобретать человека»: нет ограничений, но нет и оправданий. Будучи свободным, человек осуществляя проект самого себя, совершает множество выборов и представляет собой «совокупность своих поступков» (там же, с. 333), не имея оправданий и внешних опор. Единственное, что человек не властен делать, так это избежать выбора: «Выбор возможен в одном направлении, но невозможно не выбирать <…> даже в том случае, если ничего не выбираю, тем самым я все-таки выбираю» (там же, с. 338). Согласно Сартру, каждая человеческая жизнь представляет собой цепочку различных «маленьких жизней», отрезков бытия, связанных определенными экзистенциальными решениями – «узлами». Мир не имеет смысла и Я не имеет цели, но через акт сознания и выбора Я, занятие позиции человек может придать миру значение и ценность: «Выбрать себя так или иначе означает одновременно утверждать ценность того, что мы выбираем» (там же).
Н.А. Бердяев рассматривал проблему выбора в контексте свободы и веры. Согласно автору, свобода – это «не выбор между поставленным передо мной добром и злом, а мое созидание добра и зла. Само состояние выбора может давать человеку чувство угнетенности, нерешительности, даже несвободы. Освобождение наступает, когда выбор сделан и когда я иду творческим путем» (Бердяев, 1990, с. 53). Веру Бердяев определял как акт свободы, свободного избрания; отличие знания от веры он видел в том, что знание принудительно и гарантировано, безопасно, оно не оставляет свободы выбора и не нуждается в ней (Бердяев, эл. ресурс, гл. 6).
В трудах Н. Аббаньяно выбор предстает как решение человека быть или не быть в соответствии со своей изначальной проблематичностью. Человек может выбрать позицию по отношению к жизни и миру: быть или не быть свободным; выявлять инструментальную полезность вещей и направлять свою чувственность на внешние цели или возвратиться к природе; выбрать между расслабленностью, нечувствительностью к призыву и, напротив, вовлеченностью, принятием собственного предназначения и верностью ему. Выбор для Аббаньяно – это всегда экзистенциальный акт, включающий в себя неопределенность и риск; соединение будущей ситуации и прошлого в решении настоящего. Временный аспект выбора заключается в том, что каждое конкретное решение никогда не может быть решением, принятым раз и навсегда: оно должно обновляться; человеку нужно решиться на судьбу в силу конечности своего существования, прикрепиться к Бытию, которое находится за пределами этой временности. Ценностный смысл выбора содержится в том, что мы решаем для себя то, что нам важно решать; выбор же, не поддерживаемый верой в ценность выбираемого, невозможен, поскольку является отказом от выбора. Философ выделяет две составляющие в субстанции бытия человека: «субстанцию в себе» (чистую изначальную проблематичность, в которой выбор отсутствует, но которая влечет и подталкивает человека к решению задачи в мире) и субстанцию человека, которая обнаруживается через выбор решения, позиции. Структура экзистенции – это призыв к решению, движение, но не само решение. Решение решать не имеет оттенка предопределенности и находится в руках человека – «человека выбирающего» (Аббаньяно, 1996).
Понятие выбора также находит свое отражение в трудах М. де Унамуно, рассматривающего его как способ достижения духовного бессмертия в ситуации конечности человека и бесконечности мира (см.: Зыкова, 1997), М. Бубера, говорящего о существовании экзистенциальной дилеммы, возможности выбора человеком одного из модусов бытия – «Я-Ты» или «Я-Оно» (см.: Гуревич, 1992; Лифинцева, 1997; Бубер, 1999), и А. Камю, указывающего на стоящий перед человеком выбор между универсумом священного и универсумом бунта (Камю, 1999).
Взгляды крупнейших экзистенциальных философов на проблему выбора легли в основу современных экзистенциальнопсихологических концепций и внесли значительный вклад в понимание механизмов выбора, его индивидуально-личностных предпосылок и феноменологических аспектов.