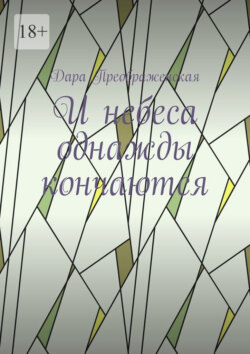Читать книгу И небеса однажды кончаются - Дара Преображенская - Страница 4
ГЛАВА 1 «НАЧАЛО»
Оглавление«Почему все они смотрят на меня
равнодушными холодными глазами?
Почему они не проявляют
Сочувствия к страждущему?»
(Неизвестный).
…
– Берта, Берта! Посмотри, как я танцую! Смотри! Смотри!
Я делаю лёгкое па, верчусь вокруг оси, как юла, становлюсь на носки и подскакиваю на месте несколько раз.
– Берта! Не отвлекайся. Я знаю, ты снова думаешь о другом, но ведь я же здесь.
Берта вздыхает, пытается улыбнуться, сегодня, как и всегда она великодушна. В церкви Сен Бенуа раздаётся колокол, а вслед за ним торжественный бой часов в гостиной. Когда раздаётся звон, в доме наступает особый момент – всё разом стихает, каждый из домочадцев в тайне ожидает этого момента. Августина зовёт к столу матушку и сестёр, а из гостиной уже доносятся аппетитные ароматы бекона, рагу с соусом из шампиньонов, пирожных с воздушным кремом и кофе. За окном стоит лето с голубизной неба, со склоняющейся от зноя рожью, со слепящим Солнцем, падающим на крыши домов, с яркими пёстрыми клумбами.
На моём столе возле окна красуется ваза с незабудками. Я останавливаюсь в танце возле кровати Берты, стараюсь насладиться свежестью летнего дня. Приглядываюсь. Вдалеке различаю одинокую фигуру Мари, она идёт к пастору Антуану на очередную проповедь. Мари любит проповеди.
Через несколько минут появляется Августина с подносом, подходит к кровати Берты, чтобы покормить её, но я не даю ей сделать это.
– Августина, позволь мне покормить Берту.
– Лили, Вас ждут в гостиной, – возражает Августина, но я не слушаю её.
– Пожалуйста, позволь сегодня мне позаботиться о Берте.
– Ваша матушка будет спрашивать о Вас, и что мне ответить?
– Скажи, что я танцевала.
Августина уходит, прикрыв дверь. Я сажусь рядом с Бертой, открываю крышки с блюд. Маленькие шляпки шампиньонов плавают в молочном соусе среди кусков телятины. Зачерпываю ложку в рагу. Берта открывает рот, с трудом проглатывает первую порцию обеда. Никогда ещё я не кормила Берту, хотя часто со стороны наблюдала за тем, как это делает Августина.
Мари добрела, наконец, до костёла, постучалась и долго стояла на пороге в ожидании, когда отец Антуан откроет двери и впустит её. Я отвлекаюсь, снова всматриваюсь, Мари исчезла.
– Лилиан, спускайся вниз! Мы потеряли тебя. Сесилия и Роза в нетерпении.
– Сейчас, ма. Берте очень понравилось рагу.
….
«Венчики цветов колышутся на ветру.
Они хрупкие, они нежные, как Природа.
Грибной дождь тонкими струями коснётся их лепестков.
Может быть, это осень приближается,
И скоро листья полетят с деревьев?
Осень… осень…
Я люблю осень. Я люблю лето.
Мне хочется посадить тысячи цветов
И украсить ими твой сад….
.
Венчики цветов колышутся на ветру
Они хрупкие и нежные, как Природа».
– Лилиан, принеси кувшин с водой и бинты, у Вашей матушки начинаются схватки.
У меня перехватывает дыхание, слово «схватки» рождает в моей голове массу ассоциаций. Из спальни доносятся стоны. Сначала они приглушённые, затем нарастают, хочется даже заткнуть уши. В спальне мама, и она кричит, значит, ей плохо.
В каждом из нас живёт страх. Когда мы видим опасность, которой подвергается другой человек, то первым порывом бывает сжаться в комок и не высовываться, а не кинуться на помощь. Это потом, спустя какое-то время, мы начинаем по-иному оценивать ситуацию, убеждаем себя, что так нехорошо, что нельзя сидеть в своей собственной норе, наблюдая за тем, как другой человек попал в беду.
Я опираюсь на перила, сажусь на ступеньку лестницы, ведущей наверх, где находится спальня родителей. Мне не по себе, я вся дрожу.
– Лилиан! Скорее!
Мне кажется, что рядом со мной никого нет, но я совсем не замечаю, как ко мне подходит Бертран с кувшином и полотенцем. Бертрану шестнадцать лет. Это – мечтательный кудрявый юноша с удивительно живыми зелёными глазами, увлекающийся Монтенем и любящий приходить к нам в дом, а ещё больше любящий мою сестру Сесилию. Наверное, Сесилия тоже от него без ума, или просто делает вид, что он ей безразличен.
– Лилиан!
Бертран протягивает мне свою ношу.
– Не бойся. Возьми это и отнеси в спальню. Я бы сделал всё за тебя, но мне туда нельзя.
Совсем не замечаю, как прижимаюсь к Бертрану от переполнивших меня чувств, но он воспринимает это вполне нормально.
– Там будет много крови.
– А ты закрой глаза или сильно зажмурься.
– Нет-нет! Моя мамочка умирает! Как же я могу зажмуриться и думать, что ничего не происходит?
Бертран ласково треплет меня по плечу. Он чувствует себя взрослым, способным успокоить беззащитного человека. Он улыбается, показывая свои белые зубы, в его прекрасных зелёных глазах загорелся огонёк.
– Твоя мама не умирает. Она ждёт появления твоего братика или сестрёнки. Ты никогда ничего не слышала об этом?
Я мотаю головой.
– Никогда.
– И даже в школе при монастыре Святого Франциска?
– Даже в школе.
– Когда-нибудь ты узнаешь намного больше, чем тебе известно, а теперь иди.
Я беру кувшин, полотенце, поднимаюсь по ступенькам, дрожащей рукой дёргаю ручку двери, чтобы войти внутрь.
В спальне темно, хотя горит единственная керосиновая лампа и несколько свечей, наши служанки Августина и Нина суетятся возле маминой кровати. Я делаю попытку зажмуриться, как советовал Бертран, но у меня ничего не выходит, потому что мне друг становится любопытно. Искажённое болью лицо мамы мелькает среди вороха подушек, Нина протирает ей лоб, даёт ей напиться и проговаривает:
– Тужьтесь, тужьтесь, госпожа. Молли побежала за доктором Луи, скоро они придут.
Не успеваю я дослушать до конца, как ко мне подходит Августина, берёт из моих рук кувшин и полотенце.
– Лилиан, уходите, – говорит она.
Я знаю, она тоже испытывает страх, но старается скрыть своё состояние. Так поступают всегда, когда взрослые осознают лежащий на их плечах груз ответственности, и Августина не является исключением.
Мне вдруг становится так жутко, так одиноко, что я иду в гостиную и бросаюсь на диван, комок рыданий подкатывает к моему горлу и застревает в нём.
Кто-то осторожно подходит ко мне сзади и касается моих волос. Это вновь Бертран с томиком Монтеня за пазухой.
– Что с тобой, Лили?
– Моя мамочка умирает. Ей плохо, очень плохо, я сама видела.
– Не волнуйся, сейчас придёт доктор и поможет ей.
Я настолько поглощена своим горем, что не слышу, как раздаётся звонок. Он громкий, пронзительный вроде множества колокольчиков в закрытом пространстве. Бертран идёт к двери, открывает, слышатся голоса, шаги, затем всё стихает.
– Кто это был?
Бертран смотрит на меня.
– Кто это был, Бертран?
– Доктор Луи и Молли. Они уже поднялись наверх.
Через какие-то десять минут громкий оглушительный детский крик разносится по всему нашему дому. Да, точно также кричат младенцы, появившиеся в одночасье на свет божий.
Откуда-то появляются Роза и Сесилия, они бегут в спальню, снова воцаряется суета и беспокойство, а я наблюдаю за всем этим как бы со стороны. Из дверей спальни показывается доктор Луи, он немного взъерошен, пот каплями блестит на его лбу. Вслед за ним выходит Нина в забрызганном кровью переднике. Она ведёт его в столовую, чтобы угостить жидким шоколадом и ликёром.
Я слышу, как моя старшая сестра Роза на ходу спрашивает доктора:
– Простите, господин Луи, кто родился?
– Девочка. Мадемуазель Роза, у Вас теперь есть ещё одна младшая сестрёнка.
Бертран как ни в чём не бывало подмигивает мне:
– Вот видишь, я же говорил, что всё будет в порядке.
– Только па поскорее бы возвратился из Германии, – говорю я, мне становится как-то легко, свободно, будто со спины сброшен тяжёлый груз. Я тоже беззаботно улыбаюсь в ответ на улыбку Бертрана.
– Знаешь, говорят, что будет война, а твой отец дипломат.
– Война?
– С Германией.
– Ты врёшь, никакой войны не будет. Если па задержится хоть на неделю, то цветочники не получат новых партий роз, хризантем и гладиолусов, и потом нужно за оранжереями присматривать. А через месяц Морис отвезёт меня в школу.
– Я, пожалуй, пойду. Вряд ли Сесилия сегодня выйдет ко мне, она занята совсем другим.
Бертран кладёт на диван книгу.
– Передай ей это. Она просила.
Книга в глянцевой обложке, от неё пахнет какими-то приятными духами. Я открываю её на первой странице, внимательно изучаю рисунок: на нём изображена молодая девушка в сиреневом платье и соломенной шляпке с цветами, протягивающая руки к небу.
– Неужели Сесилия тоже любит Монтеня?
Бертран пожимает плечами:
– Не знаю. Я надеюсь, что ей понравился предыдущий роман.
Он уходит, практически никем не замеченный, а я спешу в спальню, чтобы увидеть новорождённую.
Августина бережно передаёт мне завёрнутую с пелёнки сестру. У неё маленькие руки, на голове появился тёмный пушок волос. Я изучаю её лицо, бархатистую кожу, смотрю в бездонные голубые глаза, которые напоминают ясное небо, только что виденное мной в книге Бертрана. Что-то не так. Совсем не так.
– Августина, она слепая, – говорю я очень тихо, но никто не слышит мой голос.
…Её назвали Бертой в честь святой Берты, когда-то пострадавшей за веру. Она лежала в колыбели в детской и не издавала ни единого звука, не плакала, не заливалась рёвом, как это делают все младенцы, когда хотят, чтобы их покормили. Она просто лежала и молчала, а Роза, Сесилия, я и Августина иногда заглядывали к ней, укачивали или несли к матери для очередного кормления. Тогда она упиралась в её грудь своей маленькой ручонкой и начинала с аппетитом поглощать молоко.
Ко всеобщему удивлению мама довольно быстро оправилась от родов несмотря на бросавшуюся в глаза бледность и худобу. Слепота Берты несколько угнетала её, но она привыкла по натуре своей со всем смиряться, потому что считала себя истинной католичкой и несла свой крест мужественно, не хныкая, не поддаваясь отчаянию. Она навсегда запечатлелась в памяти моей мужественной и сильной; не раз, испытывая дикий страх, я думала об этом образе, об этом характере, и мне становилось легче переносить удары судьбы.
Последние семь дней мы жили ожиданием приезда отца. Прошло уже достаточно времени, и по нашим расчётам он должен был вот-вот вернуться. Тогда наш просторный дом наполнится оживлением, и будет много подарков, зажгутся рождественские свечи, и Сесилия споёт песни, а я буду верить в то, что ночью ко мне придёт Санта и взмахом волшебной палочки исполнит мои самые заветные желания. И будет море сладостей: конфет, пирожных и засахаренных фруктов. И всё будет, как раньше.
…Августина разливает крепкий бульон с плавающими в нём огромными кусками мяса. Они жирные, наваристые, приправленные специями и базиликом. Моя тарелка наполнилась оранжевой лужицей. Я наблюдаю за своей сестрой Сесилией, которая сегодня особенно очаровательна, возможно, потому что приходил снова Бертран с очередной книгой. У неё карие глаза, длинные волосы пшеничного цвета, заколотые на затылке и стройная фигура, облачённая в розовое платье. Я слышу, как мама обращается к ней:
– Сеси, иди попроведай Берту, я подойду позже.
Она послушно встаёт, идёт в детскую, по-прежнему прижимая книгу Бертрана. Я зачерпываю ложку в суп.
– Лили, ты скоро уезжаешь в школу в Сен Маре?
– Через три недели.
– Сегодня пасмурно, цветам нужно Солнце.
Она говорит это, чтобы только успокоить себя, ведь она всё ещё переживает и слепоту Берты, и долгое отсутствие отца, и то, что оранжереи остались практически без присмотра, а Париж делает заявки на цветы.
Внизу раздаётся звонок, но мне кажется на этот раз, что он какой-то глухой, будто доносится совсем из другого мира. Я удивляюсь собственной фантазии, затем отбрасываю подальше от себя эти мысли.
– Лили, открой двери, быть может, твой отец приехал, правда, я не слышала шум автомобиля, однако в последнее время я стала слишком рассеянной. Доктор Луи утверждает, что это скоро пройдёт, и я верю ему. Просто следует больше бывать на природе.
В прихожей стоит высокий почтальон в форме и с сумкой через плечо, оттуда высовываются края конвертов, свежих писем с неизвестными отправителями и получателями. Кто-то признаётся кому-то в любви, сообщает новости; он привык оставаться немым свидетелем писем, переносить их из дома в дом, получать благодарности и кивать головой, если кто-то спрашивает: «А мне сегодня есть что-нибудь?» Наверное, все почтальоны такие странные, это их профессия.
Он протягивает мне конверт.
– Распишитесь, мадемуазель, или позовите кого-нибудь из взрослых.
– О, нет, мсье, я уже сама умею писать.
– Тогда напишите Ваше имя вот здесь.
Он указывает мне на пустую графу, и я аккуратно вычерчиваю «Лилиан де Бовье». Он оставляет в моих руках конверт, сочувственно смотрит на меня.
– Мне жаль, мадемуазель, Вы уже достигли того возраста, когда горе воспринимают с высоко поднятой головой.
Я пытаюсь понять, о чём это он, но его уже нет. Где-то вдалеке послышались раскаты грома, полыхнула молния, и шуршание дождя завершило печальные звуки приближавшейся грозы. Повинуясь мимолётному порыву, я выбежала в сад и во весь голос крикнула, пытаясь остановить почтальона:
– Постойте! Почему Вы упомянули про горе и сказали, что Вам очень жаль?
Он обернулся, раскрыл свой зонтик, так и не решаясь встать под его защиту, холодные мокрые капли падали с неба прямо на асфальтовую дорожку.
– Что Вы сказали, мадемуазель?
– Ничего… Вы не слышали ничего о моём отце, мсье Ричарде де Бовье?
– Всего хорошего.
Странный почтальон, уже промокший до нитки, быстро зашагал к садовой калитке, а я так и осталась недоумённо провожать его высокую, как штырь, фигуру в форме почтового департамента Франции.
Если бы не Сесилия, я вряд ли сдвинулась бы с места. Она взяла меня за руку и повела в дом.
– Ты же заболеешь, Лили. Что у тебя в левой руке? Дай мне.
Я протянула ей сырой конверт.
Войдя в прихожую, Сесилия быстро распечатала его, пробежалась по строчкам на белом листе бумаги.
Её милое лицо… Я никогда не забуду выражение её лица в тот момент. Представь, как внезапно свет меркнет, превращаясь в темноту, как ты сталкиваешься с чем-то неожиданным. Её карие глаза наполнились слезами, в них было столько печали откуда-то из глубинных недр души, что мне захотелось обнять Сесилию, прижать крепко к своему сердцу, как делает мама. Из горла её вырвался хрипящий стон, будто загнанный зверь попал в капкан:
– Папа!
Письмо выпало из её рук. Я подняла его с полу и прочла. Кажется, оно было от г-на де Голя. Сам маршал де Голь, генерал де Голь удостоил нас своим вниманием. Кажется, там было написано, что г-н Ричард де Бовье попал в автомобильную катастрофу, кажется, у него случился сердечный приступ. Правительство Франции и генерал де Голь выражают г-же Вивьен де Бовье искренние соболезнования…
…Ричард де Бовье… мой отец…
Дождь становился ещё сильнее, с улицы повеяло холодом. Этот противный, противный дождь, серое затянутое пеленой небо.
«Нет! Только не папа! Только не сейчас!» – хотелось крикнуть мне, но я взглянула на Сесилию, на её беспомощную фигуру, её хрупкие пальцы и шею, сквозь тонкую кожу проступила голубая жилка вены.
В следующее мгновенье мы попали на небеса, мы обнялись и стояли так, оторвавшись от земли. Мы парили меж облаков, нас окутала волна горя, захлестнула с ног до головы и унесла за много миль отсюда. Мы рыдали искренне и самозабвенно, и маленький уголок Франции недалеко от Сен Маре с роскошным садом и оранжереями исчез, растворился, перестал существовать. Сесилия и я никогда не понимали друг друга, но только не теперь. Сейчас всё было иначе, из озорной кокетки, завлекающей Бертрана, она превратилась в серьёзную девушку, слишком серьёзную.
– Что мы будем делать? Что скажем маме?
– Ничего, Лили. Мы ничего ей не скажем. Она достаточно слаба и может не вынести. Послушай, Лили, настало время объединиться, лишь вместе мы сможем пережить это горе.
Сердце моё сжалось, когда мама посмотрела на меня и спросила:
– Лилиан, кто звонил? Где ты так промокла? – она пожурила меня, покачала головой, – обед уже давно остыл, Нине снова придётся подогревать. Так кто же звонил?
Мы с Сесилией переглянулись, что, конечно же, не осталось незамеченным для Розы и её жениха Генри с густой шевелюрой рыжих волос и веснушками на носу.
– Что случилось, Лилиан? Ты словно встретилась с кошмаром.
– Ничего… ничего. Приходил цветочник Томас из Сен Маре, но я сказала, что пока оранжереи остались без присмотра, и ему следует подойти в четверг.
– А что тебя так удивило, Сеси?
Сесилия сглотнула, с трудом произнесла:
– Малышка Берта плохо двигает ручками и ножками.
Она выбежала из столовой, за дверью раздались её быстрые шаги. Я знала, ей было тяжело лгать, точно так же, как и мне. Она делала это во имя добра. Мама смахнула со лба прядь волос:
– Мне действительно следует больше бывать на природе и чаще наведываться в оранжереи. Слава богу, что пошёл дождь.
…«Дева Мария,
Я обещаю тебе, что буду вести себя примерно, и матушка Антуанетта будет довольна мной. Я буду много молиться и помогать бедным. Каждый день я буду печь свежие пирожные из миндального теста и носить их одинокой Мари, которая стоит возле храма. Она несчастна.
Дева Мария,
Я больше никогда не стану капризничать и буду хорошей девочкой.
Помоги мне пережить моё горе. Моя душа раздавлена жизнью, я угнетена»…
Фарфоровая статуэтка Девы Марии смотрела на меня с сочувствием. В её прекрасных глазах застыла слеза. Как плохо, что начался злой холодный дождь! Как плохо, что скрылось Солнце!
Дверь скрипнула, я обернулась. Одинокая фигура Августины со свечой и книгой сказок Андерсена замерла на пороге моей комнаты. На мгновенье мне показалось, что Августина была похожа на фарфоровую статуэтку Девы Марии с младенцем Иисусом за исключением белого чепца и накрахмаленного передника.
– Что вы делаете в темноте, Лилиан?
– Молюсь.
– Я пришла, чтобы прочесть Вам сказку про Золушку. Ведь Вы же любите про Золушку?
– Сегодня не нужно сказок.
– Тогда ложитесь. Я прочитаю Вам стихотворения Бертрана.
– Бертран пишет стихи?
– Он – очень талантливый юноша.
Я вспоминаю мудрые зелёные глаза Бертрана. Почему он не признался мне в этом, когда мы сидели вдвоём в гостиной?
Августина открывает вложенный в книгу блокнот в красном переплёте и начинает читать:
…На море парус уплывает
Среди глубоких сизых волн,
Твоя душа мою не знает,
Мир мой давно тобою полн.
.
Я словно парус одинокий,
Всё так же уплываю вдаль.
И сон свой вижу синеокий,
В котором только лишь печаль.
.
А в сердце тает невидимкой
Давно забытая любовь.
То ускользнёт прозрачной дымкой
Или появится вдруг вновь.
.
Я скован накрепко цепями,
Прибит к тебе, к твоим глазам,
Я задарил тебя цветами,
Я путь открыл твоим слезам.
.
Однажды сброшу я оковы,
Ведь мне свобода дорога,
Мне жизнь не кажется суровой,
Вдали синеют берега….
Я уплыву к ним….
В порыве я обнимаю Августину и шепчу ей:
– Бертран написал очень грустные стихи. Если б я могла, я бы умерла, чтобы никогда никогда не страдать.
– Надо продолжать жить, Лилиан, – говорит служанка, – во имя любви, как это делали когда-то твои предки. Благодаря им ты живёшь сейчас. Если однажды тебе покажется невыносимым оставаться здесь на земле, вспомни мои слова, и никогда не думай о смерти, её и так слишком много вокруг.
… – Братья и сёстры, дарите друг другу истинные моменты радости, любви и понимания. Однажды вы вдруг поймёте, что, несмотря на потери, сердца ваши тянутся к любви. Она таится всюду: в распускающемся на заре цветке, в улыбке матери, в плаче младенца, в дуновении ветра. Вся земля дышит любовью. Однако, несмотря на это, смерть преследует нас повсюду. Она уводит в небытие наших близких, она притаилась в потаённых уголках наших страхов, она пытается раздавить нас.
Отец Антуан сегодня в белой торжественной сутане, украшенной жемчугом. Он молод, он красив. Заиграл орган. Это – Вольфганг, старый немец, он хорошо играет. На глазах Мари проступили слёзы. Они падают на букет незабудок, которые она сжимает в своих руках.
Я не могу смотреть на человека, лежащего в гробу, это не мой отец, ибо он бледен и нем, смерть до неузнаваемости изменила его внешность.
Он всегда был весёлым, возил нас на пикники на лоне природы, рассказывал много историй про цветы. В гробу же лежал совсем другой человек в строгом чёрном костюме и гладкими зачёсанными назад волосами. Как была права Августина, говоря, что нельзя никогда думать о смерти, что она и так рядом с нами, она среди нас. Да, да, она рядом, в глазах мамы, Бертрнана, Розы, Сесилии, Генри и даже Мари. Смерти нет никакого дела до плачущей маленькой слепой Берты, оставшейся среди игрушек в колыбели. Смерть засыпает дубовые гробы землёй, а затем на их месте вырастают пустынные холмики и мраморные надгробия с надписью «Здесь жил такой-то». И возле этих надгробий сидят одинокие жёны и матери усопших и долго разговаривают с ними, веря, что будут услышаны.
Заплаканная Сесилия убегает вдаль, я вижу, как на ветру мелькает её белый шарф.
– Сеси! Сеси! Куда ты? Подожди!
Садовник Ганс и недоумённые гости глядят мне вслед, но я не обращаю на них внимания, я бегу за белым шарфом на шее Сесилии.
Она закрылась в своей комнате и вышла только тогда, когда я попросила её об этом. Мне бросилась в глаза её поразительная бледность, отсутствующий взгляд карих глаз. Мы обнялись, как два дня назад, когда узнали о смерти отца, и это было нашей маленькой тайной. Я словно прощалась с нею. Прощалась?
– Лили, я ухожу в монастырь, – сказала Сесилия, когда наши объятья разъединились.
– В монастырь? А как же Бертран? Ведь он же… ведь он же любит тебя.
– Послушай, Лили, вокруг столько страдания, столько боли, с каждым днём сердце моё не выдерживает.
– Но ведь это не выход. Нужно продолжать жить и надеяться, как говорит Августина.
– Жить и надеяться… Но я не могу. Когда я смотрю на эту зелень, на небо, на цветы в саду, начинаю радоваться, но, Лили, всё это растворяется перед лицом потерь. Здесь нет ничего вечного, здесь всё бренно: и я, и Бертран, и мама, и трава с небом. Всё умрёт, всё превратится в гниющий прах.
– Не говори так! Может, ты ещё передумаешь и останешься.
Сесилия покачала головой:
– Нет. Я приняла окончательное решение.
Бывшая кокетка Сесилия была тверда и непреклонна, как никогда. Я поняла это, глядя в её серьёзные глаза под густыми чёрными ресницами.
– Со дня на день приедет бабушка. Она расскажет нам много интересного об Америке. Ты хочешь узнать про Америку?
– Нет. Он больше никогда не вернётся.
Я утешала её, как маленького ребёнка, а она всхлипывала, уткнувшись в моё плечо.
…Белые цветы на твоей могиле,
Они не вяли долго и были так свежи,
Ты потеряла мир, ты потеряла силы
И видишь в небесах немые миражи.
А дождь идёт годами, и над твоей могилой
Он мрачно улыбается, тихонечко поёт.
А сколько же потеряно тобою свежей силы,
Которая тебя на небо позовёт!
Те белые цветы колышутся и плачут,
Прощаются с тобою на вечность, на века,
Подумай же над тем, как жизнь прожить иначе,
Не проводив последние на небе облака.
Не видя ничего, ты прикоснёшься к малости,
Со смертью вновь сольёшься и улетишь во мрак,
И сколько на плечах твоих печали и усталости,
Тобой всё перечёркнуто, всё кажется не так….
…Прощай, Берта, прощай, Сесилия, я уезжаю в школу в Сен Маре, где монахини Св. Франциска будут обучать меня давно забытым истинам, и я буду внимать им, будто всё для меня вновь, хоть это не так. Прощайте, но я обязательно вернусь, чтобы обогреть вас своей любовью во имя того, чтобы вы никогда не разочаровывались и не страдали. Я буду с вами….