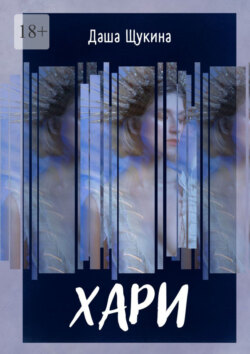Читать книгу Хари - Даша Щукина - Страница 6
4. Про то, как Рита решила писать письма
ОглавлениеПрошел месяц после субботника у Романа. (Название этому «мероприятию» придумали еще лет десять назад Ритины ГИТИСовские товарки.) Дина много работала, от нервов перестала опаздывать и стала садиться за роман каждый вечер, а не как придется вдохновению. Рита опять уехала на гастроли, и дома о ней ничего не напоминало.
Ярко-синий чехол от костюма, не сочетающийся со всеми пальто и куртками, не приковывал взгляд на вешалке в прихожей, на батарее в ванной не висело балеток, трико и купальника, даже шпильки для волос куда-то попрятались. А ведь обычно Дина находила их буквально везде: на бортиках ванной, на кухонном столе, на подоконнике.
Четырнадцатого октября Рита была в Костроме, шестнадцатого – в Ярославле, двадцатого она прислала Дине сообщение о том, что в Новгороде очень красивый театр, а еще через два дня она звонила и рассказывала, какой скучной оказалась экскурсия по питерскому военно-морскому музею.
Оставшаяся наедине с дождливой Москвой Дина все писала свои экономические статьи и совсем не соблюдала придуманный Ритой режим: не завтракала горячим, не спала в обед на офисном диванчике (вместо того целый час проводила в курилке вместе со сменяющимися собеседниками), не выходила вечером на прогулку. Эти ритуалы, ей казалось, имело смысл соблюдать только чтобы демонстрировать подруге.
Вечером двадцать второго октября Дина дорабатывала расшифровку интервью дома. Как и всегда перед самой скучной работой, поснимала многочисленные кольца, налила кофе и открыла окно, чтобы не уснуть от тепла. Опять какие-то энергетики, кризис в отрасли и отсутствие хорошей аналитики электротоваров в СМИ. Ах, да, еще, конечно, нескончаемая борьба с контрафактчиками. Потому что ни о чем другом светлые умы российской промышленности говорить как будто и не умели.
Пока она доставляла последние запятые и мысленно ругалась на Шульгинова и банки, Рита смывала грим в снятой на неделю однушке на Невском. Выполнив вечерний ритуал и в сотый раз пожалев свою бедную кожу, она улеглась на кровать вместе с ноутбуком. В Питере было, как обычно в октябре, холодно, а квартирка с икеевским ремонтом держала тепло так же хорошо, как картонная коробка, поэтому старый ноутбук, что постоянно грелся, совсем не раздражал.
Она взяла его нарочно, чтобы начать писать письма для Дины. Ее же якобы так часто не бывает рядом, и вдруг из-за этого подруга не найдет в себе сил дописать роман! Наверное, Рита была слишком высокого мнения о себе и своей влиятельности, но сама она искренне верила в то, что движима одной только добротой. Она решила, что на этих гастролях напишет несколько посланий, распечатает и отдаст Дине в папке, чтобы та их читала постепенно, когда будет чувствовать нужду в общении. И на следующих гастролях напишет.
«Дорогая Дина! Меня сейчас нет рядом, и сколько еще времени не будет! Месячные гастроли сейчас, потом такие же в марте, потом еще много-много таких изнуряющих поездок».
Девушка посомневалась, стоит ли так оптимистично загадывать в свои одиннадцать травм, вздохнула, мысленно прокляла всех молодых танцовщиц труппы и назло им не стала стирать.
«Я постоянно буду не рядом, а как бы хотелось! Хотя, возможно, если бы я ежевременно могла о тебе заботиться, мы бы друг друга узнали слишком сильно и возненавидели. А так мы друг друга все-таки оберегаем – поверхностно и легко. Пусть. И никогда в жизни у меня не было такой подруги, с которой бы я виделась ежедневно, завтракала в кофейне и которой бы оставляла Марусю на выходные. Значит, оно и не надо. Нашу ненавязчивую дружбу я ценю, как один из самых важных даров».
Имя дочери, от которого уже невозможно было оторвать взгляд, больно кольнуло.
«Маруся. Маруся хорошо, и Вадим хорошо. Они оба по мне не скучают. Живут у бабушки, она за ними приглядывает. Готовит им пироги. А я не готовлю. Ужасно боюсь, что Маша вырастет и меня не простит. Ей будет казаться, наверное, что я отправила ее к бабушке в квартиру, чтобы они там вместе доживали свои разные годы. Чтобы она там не жила, а как старики – медленно умирала. А это не так»
Рита отступила несколько строк, чтобы дописать концовку, а «тело» придумать потом.
«Буду их распечатывать, и постепенно тебе как-нибудь отдавать. И не обману себя, обязательно все до последнего отдам. Первую партию после этих гастролей, вторую – после следующих», – последнее предложение повторила несколько раз вслух, чтобы самой в него поверить, и вернулась в начало.
«Ты ей обязательно покажи эти мои письма, когда меня не станет. Или если я сойду с ума и обоснуюсь в какой-нибудь больнице для душевно раненых. Покажи Маше мои письма, чтобы она не думала, что ее мать была холодной и черствой. У меня просто есть сцена и все эти глупые амбиции. Невозможно жить только ребенком. И Маша не должна будет. Я хочу, чтобы она что-то в своей жизни обожала. Чтобы это было великое дело, и чтобы она жила для чего-нибудь высокого. Наверное, это глупо, но я хочу, чтобы она была, как ты, как я и как все наши вечно увлекающиеся друзья».
Рита отступила несколько строк, чтобы дописать кое-какую похвалу потом.
«Я очень горжусь, что знаю тебя, что ты позволяешь мне за тобой по чуть-чуть ухаживать, что я могу тебя обнимать и тебя касаться. Когда ты пишешь по ночам, я чувствую такое возбуждение! Мне и больно за тебя, и радостно. Гений пишет! Это я, конечно, не о твоих скучных статейках. Надеюсь, по ночам ты можешь заниматься исключительно романом. Не читала ни буковки, и втихаря ни за что не покушусь, но вижу по тебе – по твоему дыханию, по глазам, по нервным рукам – там что-то гениальное. И даже гораздо более невероятное, чем первая книга.
А я ее читала, когда Маруся была еще грудная, и ты казалась далекой, недосягаемой и даже почти не существующей.
Вадим обустроил нам отдельную спальню, чтобы ребенок ему не мешал ночами, и я даже свет не выключала: все читала и читала. А когда Маруся просыпалась, не расстраивалась и не раздражалась – все равно же не сплю. Получается, я целый год не спала. Как? Не помню. Закон природы – не помню жизни с огромным и тяжелым животом, не помню роды, не помню бессонные ночи и смену подгузников. Это все специально, чтобы люди не расхотели размножаться. Поэтому и не помнится ничего. Да?»
Письмо не строилось, были только разрозненные важные фрагменты. Она их решила склеить потом, а сейчас просто писать и писать, как приходит.
«И за тебя мне так же тревожно и больно, как за Машу. Как будто и ты моя дочь. Ты такая молодая, и еще не умеешь чувствовать слабости – только силу и амбиции. А мне за тебя страшно.
Страшно понимать, что когда-то увижу твой первый разлом, когда ты стукнешься о жизнь и на теле проступит трещина. А ты ее увидишь и поймешь: «А я, оказывается, не всесильна и не непробиваема». Хоть бы это наступило не сейчас, а только после того, как ты отдашь книгу в печать! Уже потом можно переживать эти удары. Они только сначала болезненные.
Не бойся, Дина. Они только сначала болезненные, а как подкопишь и покроешься равномерными шрамами, перестанешь знать, что это удары. Так – жизнь. И будешь вся искалеченная и уже не чувствующая боли, и не вспомнишь, что когда-то было иначе. И это тоже закон природы».
Рита встала, отнесла ноутбук на столик, чтобы расстаться с ним на ночь, но, уже склоняясь над ним и перетаптываясь голыми пятками по ледяному кафелю, решила приписать несколько последних слов.
«Хоть бы твои раны нашли тебя попозже, и хоть бы ты не вспомнила потом о жизни без них!
Сегодня двадцатое октября. Я тебе писала в Петербурге, после хорошего спектакля, в котором я была нищенкой в первом акте и счастливой любовницей Царя Ирода во втором, а между ними и после – кем-то. Надеюсь, кем-то хорошим».
Когда Рита лежала под одеялом, и вся она была в темноте – вся, кроме правой скулы и краешка шеи, на которые через грязное окно бросал свет уличный фонарь – костюмерши отглаживали костюмы на завтрашний спектакль.
Вот кожаный лиф и штаны для пролога, вот лохмотья нищенки для первой части, вот бело-золотая туника для второй. Чумазая нищенка не становится вдруг нимфой в драгоценных камнях – танцовщицы только меняют один костюм на другой, а внутри – все те же несчастные, голодные и всеми обижаемые. И служат им только тогда, когда в гримерках сдергивают одну тряпку и кутают в другую, и, стоя на коленях, застегивают им сандалии. Аплодисменты, цветы, занавес – и снова бедность, нелюбовь, и снова никто их не пожалеет. «Исцели, Боже, исцели»!