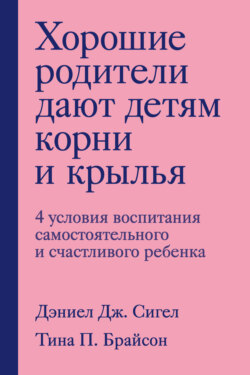Читать книгу Хорошие родители дают детям корни и крылья. 4 условия воспитания самостоятельного и счастливого ребенка - Дэниэл Дж. Сигел - Страница 14
Глава 2
Почему одни родители близки с детьми, а другие нет?
Введение в теорию привязанности
Избегающая и пренебрегающая привязанность[4]
ОглавлениеЯсно, что не каждый рождается в семье, где родители могут обеспечить ребенку надежную привязанность. Для представителей одной из трех групп ненадежной привязанности характерна жесткость, нестабильность или то и другое сразу.
Дети с первым типом ненадежной привязанности (избегающая привязанность) обычно становятся взрослыми людьми, которым трудно наладить связь не только с окружающими, но и с собственным внутренним миром. Они часто не умеют или не хотят разбираться со своими эмоциями, им очень трудно понимать мысли и чувства людей, с которыми они состоят в отношениях. Они избегают упоминаний о прошлом, открытого проявления чувств и близости. Все это объяснимо, с учетом их опыта, пережитого в детстве, когда их потребности в основном игнорировались. Способность пренебрегать своими чувствами была для них всего лишь стратегией выживания, основой для установившейся привязанности.
Представьте себе другой сценарий для вышеупомянутой четырехмесячной девочки. На этот раз, когда она плачет, отец какое-то время просто не обращает внимания на ее призывы и продолжает читать книгу. Потом, когда ему наконец приходится реагировать, он недоволен тем, что его оторвали от чтения. Он раздраженно меняет ребенку подгузник и укладывает ее в манеж, но она продолжает плакать. Еще более раздосадованный, он перекладывает ее в колыбель, полагая, что она устала. Но она продолжает кричать и ворочаться, и в конце концов через час он все-таки кормит ее из бутылочки.
Чему учится младенец после неоднократных подобных взаимодействий, когда отцовская реакция на плач оказывается такой замедленной и настолько далекой от подлинных чувств и потребностей ребенка в настоящий момент? Тому, что отец плохо считывает ее сигналы. Если это происходит регулярно и почти постоянно, девочка понимает, что отец не в состоянии удовлетворять ее потребности или устанавливать эмоциональную связь с ней. Со временем она может прийти к убеждению, что никто на самом деле не может понять ее на глубинном уровне, что родители не замечают ее настроения и что она не может рассчитывать на то, что другие люди буду заинтересованы в ее чувствах и потребностях. В конце концов, ради адаптации к окружающей среде и получения более позитивной реакции от опекунов, она учится избегать эмоций, пренебрегать ими и важностью взаимоотношений. Иными словами, если в прошлом близкие отношения были бесполезными, то почему она должна полагаться на них, чтобы обеспечить надежное существование в будущем?
Имейте терпение, пока мы будем излагать некоторые основы нейронаук, объясняющие, как детский мозг может адаптироваться подобным образом и научиться избегать эмоций. Вы можете представить мозг как дом с верхним и нижним этажом, каждый из которых связан с определенными способностями и обязанностями. Нижний «этаж» состоит из ствола мозга и других нижних частей, включая лимбическую систему, управляющую основными побуждениями и эмоциями. Этот нижний мозг является источником самых примитивных и инстинктивных процессов, таких как телесные функции, внутренние побуждения и сильные чувства. Верхний «этаж» состоит из префронтальной коры головного мозга и других высших отделов. Это наиболее развитая часть мозга, отвечающая за комплексное мышление и непосредственно связанная с воображением, принятием решений, сопереживанием, личной интуицией и нравственностью.
Внутренняя потребность ребенка в контакте с опекунами, возникающая в более примитивном «нижнем» мозге, остается неудовлетворенной. При формировании избегающей привязанности мозг учится блокировать внутренние сигналы, мешая им проникать в «верхний» мозг. Как выяснилось, большинство телесных сигналов и даже многие импульсы, поступающие от лимбической системы и ствола мозга, сначала попадают в правое полушарие коры головного мозга. Возможно, вы уже слышали, что правое и левое полушарие мозга во многом отличаются друг от друга. Это относится и к периоду развития (правое полушарие развивается раньше), структуре (правое полушарие имеет больше внутренних связей), и к функциям (правое полушарие имеет широкий фокус внимания, а левое – узкий; правое полушарие получает информацию, поступающую из нижних областей, включая тело, в то время как левое специализируется на лингвистических символах – нашей письменной и устной речи).
Вооружившись этим знанием, представьте себе такую картину. Если вы можете заблокировать восприятие сигналов, поступающих из «нижнего» мозга и тела в кору головного мозга, в которой происходит большая часть сознательных процессов, то вы будете не так расстроены пренебрежением родителей к вашим попыткам установить контакт с ними. Это достигается развитием активности коры левого полушария мозга при ее «отключении» от правого. Таким образом, в процессе взросления вы не будете осознавать внутренних телесных состояний, а также испытывать чувства тоски и разочарования, того, что принято называть «душевной болью» или «печалью сердца». Вы в буквальном смысле отгородитесь от собственного внутреннего мира.
Одна важная исследовательская находка (она относится и к детям с избегающей привязанностью, и к родителям с так называемой пренебрегающей привязанностью, о которой мы вскоре поговорим) состоит в том, что, когда такие люди сталкиваются с вопросами, имеющими отношение к привязанности, их физиологические показатели указывают на явное расстройство, хотя при этом они могут сохранять невозмутимый вид. В эксперименте «Незнакомая ситуация» это выглядит так, словно ребенок не обращает внимания на появление матери, хотя его психометрические данные (такие, как частота сердцебиения) указывают на стресс. Его «нижний» мозг и тело знают о важности отношений с матерью, и время наступления стрессовой реакции свидетельствует о том, что потребность в контакте с ней остается даже при том, что выученная стратегия привязанности сводится к минимизации внешних проявлений потребностей и эмоций.
Влияние типа привязанности на поведение определяется тремя системами мозга. Одна из них – система вознаграждения. Привязанность приносит удовлетворение (то есть вознаграждение). Вторая система ощущает телесные процессы и регулирует их. Она играет фундаментальную роль для нашего выживания. Третья система иногда называется «системой ментализации». Она определяет восприятие собственного разума и разума наших опекунов. Для простоты мы можем назвать ее умозрением (майндсайтом). Система вознаграждения, регулировка телесных процессов и умозрение – три отдельные мозговые системы, переплетенные с привязанностью, как в детстве, так и в зрелом возрасте.
Давайте посмотрим, как действуют эти системы в случае избегающей привязанности.
Когда люди с избегающей привязанностью оказываются в ситуации, которая активирует систему этой самой привязанности, то для регулировки физиологических функций они отключают систему вознаграждения мозга с ее потребностью к физическому и душевному контакту. Но при этом также отключается система умозрения, которая может воспринимать умственное состояние опекуна и даже самого человека. Оказывается, что майндсайт и регулировка физиологических функций сосредоточены в правом полушарии мозга. Мы можем понять это, исходя из предположения, что у людей с историей избегающей привязанности доминирует левое полушарие, определяющее их образ жизни. Результат такой адаптивной нейронной стратегии выживания заключается в том, что чувствительность к невербальным сигналам (визуальному контакту, выражениям лица (включая слезы), тону голоса (в том числе гневному или расстроенному), позам, жестам, интервалам и интенсивности реакций) значительно снижена у взрослых людей с пренебрегающим типом привязанности, имевших в детстве избегающую привязанность к родителям. Кроме того, во время консультаций или обычных разговоров для таких людей характерно настойчивое повторение того, что они не помнят свои детские переживания. И это правда не только для раннего детства (до трех лет), но и для воспоминаний об отношениях в начальной и средней школе.
Как эти выводы согласуются с предположением о доминировании левого полушария мозга? Дело в том, что невербальные сигналы и автобиографическая память занимают ключевое положение в правом полушарии! Отказ от использования правого полушария в этой модели привязанности позволяет человеку избежать расстройства от неудовлетворенной потребности в заботе и душевной близости в прошлом. Проблема в том, что эта адаптивная стратегия заставляет человека продолжать создавать эмоциональное отчуждение в настоящем времени. Даже письменные описания того, как эти люди воспринимают жизнь, «пренебрегают» пониманием важности близких отношений. Именно поэтому их тип привязанности получил название «пренебрегающей».
Мы постоянно видим эту сосредоточенность на внешнем, физическом мире (а не на внутреннем мире) во время практических занятий с подростками и взрослыми людьми. Они рассматривают мир так, как будто существует лишь его физический аспект – то, что можно потрогать, измерить или взвесить. Они считают, что реальность существует исключительно во внешнем плане бытия. Разумеется, физический мир реален. Но не менее реален умственный и эмоциональный мир – субъективное внутреннее море, которое наполняет нас мыслями и чувствами, надеждами и мечтами, питает наши желания и побуждения. Хотя все эти чувства называются субъективными, это не делает их нереальными; просто они происходят внутри нас. Возможно, их нельзя измерить, но они являются одним из главных, если не самым главным аспектом нашего внутреннего и внешнего благополучия.
Когда дети имеют избегающую привязанность к конкретному опекуну, эта «фигура привязанности» проявляет необыкновенную слепоту к их внутреннему миру. Дети просто не могут достучаться до них. Со стороны это выглядит так, как будто личное «я» ребенка остается практически незамеченным, непризнанным и невостребованным. В итоге у таких детей возникает внутренняя блокировка, удерживающая их от знакомства с собственным внутренним миром. Майндсайт находится на жесткой диете. Способность видеть внутреннее море остается, но не развивается… до поры до времени. Опять-таки, это справедливо как для детей, так и для родителей: никогда не поздно развить в себе эту внутреннюю способность.
Именно поэтому такие дети становятся взрослыми людьми с «особенным отношением к привязанности». Взрослый человек переносит свою стратегию адаптации к детской привязанности на свои текущие взаимоотношения. Он не видит «внутреннего моря» ни в самом себе, ни в других людях. Исследования показывают, что дети с избегающей привязанностью более склонны к развитию пренебрегающей привязанности в зрелом возрасте. Они ведут эмоционально отстраненную жизнь, пренебрежительно относятся к важности отношений, часто избегают близости и отвергают попытки установить контакт на более глубоком или осмысленном уровне. Они могут стать невероятно успешными людьми в отдельных областях своей жизни – возможно, даже окажутся превосходными собеседниками и ораторами. Но из-за своего страха перед близостью они пренебрегают важностью серьезных отношений и таким образом живут без глубоких внутренних связей. Внешне они могут вести себя так, словно их стремление к близости отсутствует, а способности никак не задействованы, но это лишь стратегия для поддержания физиологических функций. Понятие «мы» не прижилось в детстве, поэтому одинокая жизнь может быть полезным приспособлением к отсутствию близости на самом раннем жизненном этапе. В результате их партнеры тоже часто испытывают одиночество и эмоциональную отчужденность, а дети с высокой вероятностью обречены на такое же отношение к окружающему миру. Таким образом, пренебрегающий родительский подход к воспитанию сильно отличается от подхода с надежной и свободной привязанностью.
Вспомним классическую шутку «тук-тук, хнык-хнык». Заключительная реплика отлично передает модель пренебрегающей привязанности у отца ребенка.
Отец: Тук-тук.
Ребенок: Кто там?
Отец: Хнык-хнык.
Ребенок: Хнык-хнык?
Отец: Перестань хныкать.
Этот пренебрежительный ответ происходит от личного жизненного опыта отца, чьи эмоциональные потребности никогда не воспринимались и не оценивались должным образом. По контрасту, когда родители реагируют чутко и заботливо, ответ выглядит совсем иначе.
Отец: Тук-тук.
Ребенок: Кто там?
Отец: Хнык-хнык.
Ребенок: Хнык-хнык?
Отец: Ох, ты плачешь? Расскажи, что случилось.
Во втором диалоге игра слов выглядит не так убедительно, но демонстрация любви и внимания убедительнее любых слов.