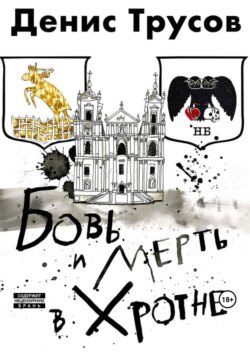Читать книгу Бовь и мерть в Хротне - Денис Игоревич Трусов - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Графинчик
ОглавлениеВ холле гостиницы было темно. С порога я попытался хоть что-то разглядеть в этом чорном и тихом пространстве, но массивная входная дверь с грохотом ударила меня в спину и втолкнула вперёд, в неутреннее гулкое нутро здания.
И будто не было солнца только что, будто не было голубых глаз на площади, будто сырный бог таки разозлился на меня там, в поезде, и сослал в ад.
В аду напротив входа была старая конторка, её я разглядел первой, когда глаза привыкли к мраку. Слева и справа за конторкой вверх уходили частые крутые ступеньки со старыми, похожими на слоновьи хоботы перилами. Со стен в холле смотрели еле различимые портреты, серые и внимательные, смотрели так, что я с испугу с грохотом уронил чемодан и захотелось уже повернуть назад, к двери, но тут на шум из-за конторки показалась сонная голова. Голова была седая, недовольная, с хватким, тяжёлым взглядом. Возле головы что-то чиркнуло, зажглась керосиновая лампа и голова сказала:
– Товарищ командировочный, вы не пугайтесь, здесь всегда темно, подойдите ко мне поближе, не споткнитесь только.
Я подошёл к конторке, голова посмотрела на меня и улыбнулась. Я тоже улыбнулся и несмело сказал:
– Доброе утро, мне сказали, что тут для меня забронирован номер.
– Разумеется, забронирован. Сейчас я вам выдам ключ и всё покажу.
Голова вместе с лампой вышли из-за конторки, оказалось, что это крепкая старушка, одетая в ночную рубашку с накинутым поверху пиджаком, на лацканах пиджака красовались странные, неизвестные мне медали и ордена. Один из орденов мне удалось разглядеть: на фоне красного щита символическая золотая игла с ниткой и надпись золотыми же буквами “За безупречный стежок”. Странный орден. Ну что ж. Я поблагодарил голову и сказал:
– Вы назвали меня командировочным, но я даже не успел представиться. Почему? Неужели все ваши постояльцы – командировочные?
– Сегодня – все. Поднимайтесь-ка по лестнице за мной. И не пугайтесь так темноты, видите ли, это очень старая гостиница. Люди иногда глохнут да слепнут от старости, а вот моя гостиница от старости померкла. Не бойтесь, в номере есть свечи и керосинка. Электричество внутри, увы, не держится, тоже меркнет. Только вывеска снаружи и светится. Да, можете звать меня пани Гловска, я рада, что вы здесь поселитесь.
Я почувствовал себя очень странно, но лишь на секунду, не успев понять причины. Я замешкался, однако пани Гловска показала на лестницу справа, и мы стали медленно подниматься. Ступеньки ужасно скрипели, а блики от керосинки танцевали на стенах в такт нашим шагам и от этой игры света и звука казалось, что всё здание гостиницы медленно и хрипло дышит, будто старая уснувшая от изнеможения туберкулезница. Мы очутились в узком гостиничном коридоре, и зашагали по визжащему паркету. Казалось, старая чахоточная вот-вот отдаст концы. Мы остановились перед основательной старомодной дверью, пани Гловска открыла замок и протянула мне ключ, приглашая внутрь.
– Вот и пришли, одиннадцатый, хороший номер, бельё уже приготовлено, заселяйтесь, располагайтесь, отдыхайте, я не буду вас беспокоить. Лампа и запас свечей – на столе.
– Спасибо. За мной придут около пяти часов вечера.
– Я могу постучать в дверь около половины пятого, чтоб вы не проспали, на всякий случай. И вот ещё – не открывайте окно, оно неисправно.
– Хорошо, отлично.
Пани Гловска вошла со мной в комнату, помогла справиться с норовистой керосинкой и удалилась под истошный визг паркета. Я сел на кровать и осмотрелся. Даже при таком слабом освещении номер казался большим. Прямо посредине, изголовьем к окну, стояла внушительных размеров кровать, разделяющая комнату на две части. Слева от входа громоздился старинный несуразный гардероб, больше напоминавший хаотично разросшийся во все стороны гроб. За гардеробом стояло вручную расписанное цветочным орнаментом аляповатое трюмо с небольшим столиком, а далее – узкая дверь в уборную. Справа от входа был не то сундук, не то ящик, а сверху на нем, на подносе стоял графин с двумя пустыми стаканами. Дальше у стены – зеленое потертое кресло, а возле него, в углу – совершенно космической обтекаемой формы журнальный столик. У окна, напротив входа был солидный письменный стол с чернильницами, канцелярской всячиной и принадлежностями для письма пером. Подойдя к окну, я едва смог разглядеть – словно сквозь тёмно-коричневую пелену, через бутылочное стекло – неказистый внутренний дворик гостиницы. Впрочем, там был лишь проржавевший до дыр гараж и кучи строительного мусора.
Странно, ведь кроме Синего Свитера и пани Гловской я не встретил сегодня больше никого в этом городе. Пусто-пусто-пусто, целый город, а в нём пусто – пропел я себе под нос, и хотел было начать распаковывать чемодан, как вдруг за спиной у меня кто-то тихо заметил:
– Не так уж и пусто на самом деле. Просто сейчас утро.
Обернувшись, я увидел мужчину лет пятидесяти, со всклокоченной волнистой шевелюрой, одетого в просторный шлафрок. Мужчина смущённо улыбнулся.
– Надеюсь, я вас не испугал. Я ваш сосед из тринадцатого номера. Выпьете со мной?
Не дожидаясь ответа, он потянулся к сундуку и в одну секунду ловко разлил прозрачную жидкость из графина в оба стакана.
– Это неплохой местный бимбер, вам понравится.
– Как вы сюда попали? Дверь же закрыта.
– Это не важно, но простите за вторжение, это и вправду должно быть неприятно. Но раз уж я тут, давайте присядем и жахнем. Ещё раз прошу прощения.
Теперь я смог разглядеть его получше. Он был полноват. Румян. Лицо добродушное с хитринкой. И только выразительные, необычайно печальные глаза были совсем неуместны на лице залётного гостиничного балагура. Стоило встретиться с ним взглядом, как добродушная усмешка текла вниз, превращалась в гримасу глубоко страдающего человека. Впрочем, я мог и ошибаться из-за скудного освещения.
– Я измучен долгой дорогой и собирался поспать пару часов. Что ж, думаю, немного вашего напитка мне не повредит.
Я хотел добавить ещё кое-что, спросить его о чём-то необычайно важном, о чём я вспомнил только сейчас, но тут же с удивлением понял, что уже забыл, что это было. Ну что ж…
– Вот и славно. Это ведь целебный бимбер, чистый, на воде из местной родниковой речушки, Комарыхи, не какая-то там сивуха. Ну, за знакомство!
Мы выпили. Я, опешив от своей странной забывчивости, опрокинул сразу полстакана. Мой гость – полный. Переводя дыхание, мы помолчали немного.
– Вы командировочный, правильно? А я… меня звать Графинчик. И уж поверьте, Графинчик не будет ждать, пока в графинчике остаётся благая влага.
Он коротко хихикнул своей шутке и налил ещё.
– Вы давно здесь живете? В Хротне?
– Всегда только в Хротне. Это отличное место. Вам здесь наверняка понравится.
И тут я снова провалился в это странное, длившееся всего секунду состояние: я вспомнил и мгновенно забыл, о чём мне срочно надо было спросить Графинчика. Но в течение этой короткой секунды я испытал запредельное, поразительное отчаяние, такое сильное, что меня передёрнуло. Почему, из-за чего?
Мы молча выпили. Я почувствовал, как внутри меня течёт чистая огненная река Комарыха.
– Давай на «ты», командировочный.
– Давай.
Он вдруг внимательно посмотрел мне в лицо, взял за рукав и, придвинувшись сказал:
– А хочешь, расскажу что самое главное во всех этих закулисах?
Ох, только не это, подумал я, только не теории заговора, ну почему пьяным людям кажется, что им вдруг становятся понятными какие-то таинственные интриги мироздания, скрытые механизмы общественной и духовной жизни, почему? Даже если такие механизмы и интриги существуют, их наверняка создают и эксплуатируют абсолютные трезвенники и прячут концы в воду так, что никакие Графинчики, Пивасики и остальная лихая алкобратия вряд ли в состоянии их так спьяну разоблачить. И я хотел было об этом заявить Графинчику прямо в лицо, но спохватился, вспомнив, что у каждой пьянки есть своя нехитрая драматургия, нарушать которую – великий грех. И следуя этой драматургии, вслух я сказал лишь:
– В каком смысле в закулисах? Ну… расскажи…
– Суть довольно проста, командировочный. Равновесие. Мы не умеем его соблюдать и поддерживать до тех пор, пока не понимаем, что сам наш язык даёт подсказку. Флексии, префиксы, всё это неспроста! И когда знаешь, как соотнести слова, то знаешь, и как соотнести поступки, соотнести так, чтобы равновесие сохранялось. Вот два основных правила, которые ты должен помнить, которыми ты должен руководствоваться:
Первое: С -филиями борись -фобиями, с -фобиями борись -филиями;
Второе: С -софиями борись -измами, с -измами борись -софиями.
Тут Графинчик замолк и хитро прищурился, выжидая, пытаясь понять мою реакцию. Мне же всё что он сказал казалось полнейшей чушью. Но помня о драматургии, я деликатно протянул:
– Очень интересно, Графинчик.
– Да ладно, ты же ни черта не понял. Ну признайся, командировочный!
– Нет, я понял, понял, ну, например, м-м-м, это как если гемофилию побеждать гомофобией, или философию – онанизмом, нет?
Графинчик с досадой махнул рукой и налил ещё по стакану. Я попытался увидеть в этом бредовом словесном потоке печального выпивохи хоть какую-то систему и задумался, но тщетно. Демагогия и всё тут. Зачем только мне это рассказывать?
– Знаешь, Графинчик, я тебе честно скажу, мне твои слова непонятны. Но мне кажется, что ты всё усложняешь. Всё проще…
– Это как, проще?
Огненная речка Комарыха в голове отвлекала, звенела, струилась, мешала думать, но вдруг меня осенило. Ух, ты! Я собрался с мыслями и сказал:
– Софии, филии… Боже, ну и чертовщина… Итак, всё гораздо проще, Графинчик. Есть -бовь и – мерть. И всё. И только о них надо знать и только они друг друга побеждают. А мы – всего-то мимолетные флексии, сменяемые приставки к этим двум словам. -Бовь! -Мерть! Слышишь себя в этих словах?
Он рассмеялся:
– Ну, ты даешь! Теперь уже я тебя не понимаю. Это же лин-гви-сти-чес-ки невозможно! И что у нас только за разговоры. Выпьем-ка по последней.
– Я предлагаю тост.
– Ну-с?
– За -бовь и -мерть!
– В Хротне! – воскликнул Графинчик.
– Да, за -бовь и -мерть в Хротне!
И мы чокнулись.