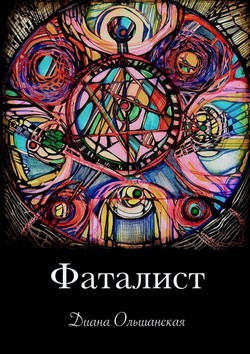Читать книгу Фаталист. Желающего судьба ведет, нежелающего – тащит - Диана Ольшанская - Страница 5
Глава 3
ОглавлениеЛегкий поворот калейдоскопа, и самоцветы меняют узор…
Поначалу я еще был очень истощен и боязлив, как дикий зверь, с которого, наконец, сняли ошейник, но, принимая заботу Профессора, я послушно пил приготовленные им целебные настойки, чувствуя, как с каждым днем иду на поправку. Мне все реже снились сны, в которых я кричал, задыхаясь от дыма, и потихоньку я начал верить в то, что и невозможное иногда случается.
Сидя возле моей кровати, Профессор подолгу рассказывал увлекательные истории своих странствий, которые вдыхали в меня жизнь не меньше его эликсиров. Он был самым необыкновенным человеком из всех, кого я когда-либо встречал: умным и бесконечно добрым…
В день, когда мы встретились, Профессор шел с Черного Рынка, находящегося по соседству с Кварталом Услуг, где приобрел зернышко редкого растения – древоцвета, которое за всю жизнь вырастало размером с ладонь, не больше. Раз в год на нем появлялась одна ветка, и только раз в семь лет зацветал один единственный цветок «необыкновенной красоты», как говорил Профессор. Цветок не опадал, а покрываясь корой, превращался в деревянный кокон, где вызревало новое зернышко и, посадив его, можно было взрастить еще одно деревце, которое давало много кислорода. Профессор считал, что если каждый вырастит хотя бы одно такое, то мир навеки будет обеспечен чистым воздухом. Но люди, думающие иначе, давно вырубили эти уникальные растения, и теперь на Черном Рынке зернышки продавались дороже драгоценных камней.
И вот на моем подоконнике появился маленький горшок, в который мы посадили семечко в ожидании, что через год увидим результаты. Профессор говорил, что оно обязательно прорастет, особенно, если «почувствует мою любовь». «Как и со всеми существами, с ним надо общаться», – сказал мне Профессор. Но я все еще молчал и носил свою повязку. И даже ночью натягивал одеяло до середины лица, потому что это по-прежнему давало мне чувство защищенности… Все, что я мог делать для зернышка, чтобы оно чувствовало мою заботу, – это регулярно греть ладошками горшок и, украдкой снимая повязку, дышать на влажную землю. Впервые совершив этот ритуал, я вдруг осознал, что мне снова захотелось жить… Я хотел, чтобы семечко не пропало, чтобы оно проросло, знаменуя собой начало новой, нашей жизни. Я хотел, чтобы Профессор смотрел на меня с одобрением и всегда сидел рядом, рассказывая мне про Дом и про филина, который как я понял жил в одной из комнат и был «важной птицей», всегда оказываясь в нужное время в нужном месте, тут и там, словно мгновенно переносясь в пространстве. Как всегда, я вел свой диалог с Профессором в уме, отмечая про себя, что всегда легче перемещаться, когда у тебя есть крылья. Я хотел поскорей выздороветь, чтобы увидеть эту птицу своими глазами и наконец, самому окунуться в мир, откуда Профессор приходил ко мне каждый день. Для меня стало важным все, что его окружало.
Как и в день нашего знакомства, на Профессоре всегда был кожаный жилет с множеством карманов, из которых торчали маленькие отвертки с разными наконечниками, пассатижи, пинцеты, зажимы, многолезвийный складной нож. Там же, где-то в недрах этого удивительного жилета, лежали коробочки с разнообразными винтиками, металлическими пластинами, катушки с проволокой и другие предметы, названия которых я пока не знал. Однажды он принес мне наручные часы, которые починил, и рассказал, как менял зубчатое колесико таких размеров, какое не увидеть невооруженным глазом, как смазал механизм мельчайшей капелькой масла и «что ни на сотую грамма ошибиться нельзя, потому что в часах самое важное – это точность, как ни крути». Пока Профессор рассказывал – я слушал, как тикали часы, и старался запоминать ход его мыслей и каждый предмет в его кабинете, о которых он упоминал, и знакомство с которыми мне еще предстояло.
Профессор называл «удивительной, необыкновенной или уникальной» почти каждую вещь, делая таковой по-своему исключительной. Для него всё имело свое особое значение. «Даже самый большой механизм рождается из крохотного винтика», – любил повторять он, проявляя особое участие ко всему, что попадалось ему на пути.
Однажды когда он зашел в комнату и положил руку на мой лоб, проверить температуру, я взял его большую теплую ладонь и прижал к своей щеке. Я не знал, как отблагодарить Профессора за свое спасение, а он смотрел на меня своим необыкновенным взглядом, куда-то глубже, чем в глаза…
«Мы не всегда можем избежать боли, мальчик мой, – говорил он, – но нам по силам выбрать, как к ней относиться. Можно проклинать и ненавидеть, а можно попытаться найти в этом какой-то смысл. Мы неизменно близоруки, и до конца не узнаем замысел Судьбы. И то, что нам сегодня кажется убийственно невозможным, назавтра вдруг окажется вполне вероятным и даже, быть может, более удачным исходом. Так устроен мир. Не надо жить вчерашним или завтрашним, исправнее всего наш механизм работает здесь и сейчас».
Многое из сказанного Профессором умом я не понимал, но почему-то слышал сердцем, думая о том, как бы мне хотелось, чтобы всё, о чем он рассказывает, слышала моя матушка, отец и даже сестренка. Я был уверен, что все его поймут. Да и как могло быть иначе, ведь этот человек излучал такое тепло и сострадание, что я раскрывался ему навстречу всей душой и отчего-то плакал…
Я все больше узнавал об удивительном Доме, в котором мы жили, переезжая с места на место. Позже изучая его, я шел по дорожкам воспоминаний, которыми он был устлан вдоль и поперек благодаря рассказам Профессора. Похоже, Дом жил своей жизнью и был больше, чем крыша над головой или средство передвижения, он был пристанищем, родиной, приютом снов и душ, хранилищем истории, свидетелем течения жизней.
В юности у Профессора была мечта. Он хотел путешествовать, обучаясь у лучших мастеров мира различным наукам, искусствам и ремеслам. Хотел рисовать, заниматься ботаникой, изучать языки и конструировать механизмы. Для этого ему всегда и везде было необходимо иметь все книги и инструменты, мастерскую и лабораторию, а вдобавок хорошо бы – спальню и кухню, словом, целый дом. Именно о таком доме мечтал талантливый студент университета «юный гений механики» – как он нем говорили, и к концу своего обучения, будучи уже магистром, он представил невероятный проект – созданный им Механический Дом. Во время показа произошло нечто удивительное. Поначалу Дом замкнулся изнутри и напрочь отказался кого-либо в себя впускать, не подавая никаких признаков жизни. Тогда Профессор произнес имя – Ларго и, к удивлению почтенной комиссии ученых, Дом чудесным образом отворил свои двери. Он был исключительным механическим чудом, и все же он был «живым». Потрясенные таким изобретением, старейшины университета единогласно проголосовали «за» и магистр заслуженно получил профессорское звание. Он был единственный, кто с помощью механики соединил несколько пространств, сконструировав помещения таким образом, что в каждой из комнат имелась еще одна комната, а в той – еще одна, но большего размера, – «Спиральная модель Вселенной» – как он мне объяснял, размером с двухэтажный дом с плоской крышей, состоящий из рубки и комнат, расположенных на разной высоте и в разном порядке, но в которые можно было попасть без особого труда, интуитивно, по винтовым пролетам понятных коридоров. Наполненный уникальным собранием знаний, Ларго родился благодаря гению Профессора, который вдохнул в него жизнь. Мастерская, лаборатория, библиотека и гостиная, кабинет и остальные комнаты – все эти помещения были пропитаны духом не только исключительного ума Профессора, но и бесконечной теплотой его радушного сердца.
Мечта Профессора сбылась, и он стал ездить по свету, посещая самых известных мастеров и ученых, останавливаясь где на месяц, где на год, в зависимости от того, что изучал, и, перенимая опыт, а также делясь знаниями, продолжал свой путь. Перемещаясь из одного пункта в другой, Профессор помогал всем, кто в нем нуждался. «В нас есть душа, мы чувствуем, а значит – можем сострадать. Сострадание зиждется на любви, а Любовь – это Приятие. Себя, окружающих, обстоятельств, всего, что происходит. Сострадание – гениальный механизм души, у которого безграничные возможности».
В городах и небольших селениях – повсюду, где приходилось бывать, он старался помочь людям и в устройстве каких-либо механических приспособлений, и в лечении различных недугов – Профессор с радостью делился всем, что у него было, всем, что он знал. А знал он, конечно, многое. Я бы мог часами говорить с ним на любые темы, о любом предмете, будь то музыка, механика, математика или языки, но пока я не мог разговаривать – я просто запоминал все, что он мне рассказывал.
Ларго был в служении уже более тридцати лет. Большой и надежный, раскрыв дружеские объятья, он впустил меня, с первой минуты нашего знакомства став и моим домом. Так же как и Профессор, он помогал мне жить, дав надежду, очищая мои легкие от копоти прошлого, и, благодарный этому исполину, всем своим существом я впитывал дух и щедрость его удивительного пространства…
Вечерами Профессор читал мне труды древних философов о том, что такое счастье, любовь и предназначение. «Ты должен мечтать, – говорил он. Многие думают, что мечта – это журавль в небе и его невозможно поймать. Но есть и другой путь. Ты все можешь сделать собственными руками…». Он скрещивал ладони и, сцепив большие пальцы, расправлял пятерни, превращая их в крылья и мягкими движениями, неспешно сгибая и разгибая пальцы, кружил над моим лицом, отбрасывая тень воплощенной мечты – журавля, парящего на белоснежной стене моей комнаты…
Немного окрепнув, я сделал первую вылазку. Мне хотелось поскорее пройтись по тропе рассказов Профессора о Ларго и, конечно же, ужасно не терпелось увидеть птицу. Я знал, что знакомство с любым животным нужно начинать с угощения, и, припрятав кусочки хлеба и дольку яблока, начал свой путь в поисках филина.
Снаружи Ларго казался не таким большим, как изнутри, где было много комнат и коридоры местами были освещены, а местами такими темными, что даже с фонарем по ним было сложно ходить. Пробираясь между высокими стопками покрытых пылью книг, которые упирались в потолок и стеллажами, забитыми до отказа всякой всячиной, я плутал по коридорам, заглядывал в комнаты и кладовки, и уже начал волноваться за бедную птицу, которая, возможно, где-то застряла и даже могла задохнуться.
Я открыл следующую дверь и замер на пороге. Из описаний Профессора я почему-то не помнил такой комнаты. Может, просто упустил рассказ о ней? Судя по вещам, тут кто-то жил, но внутри царил аскетичный порядок. Идеально убранная кровать, разглаженные складки, единственный стул, небольшой стол, на котором лежали письменные принадлежности и другие предметы один к одному так ровно, что мне даже стало как-то не по себе. Всё на своих местах: от маленького к большому, в строгой последовательности, и, судя по всему, ничего лишнего. Стены этой комнаты были увешаны чертежами разных механизмов: колес, каких-то труб и клапанов, причем всё в определенном порядке, прикреплено одно за другим, не выше и не ниже, не выбиваясь за пределы отведенного пространства.
Я зашел внутрь и стал внимательно все разглядывать, думая о том, что, скорее всего, это комната отдыха Профессора. Взгляд мой упал на комод, где стояла небольшая пирамида из дерева, с встроенным внутри нее металлическим стержнем. Неловкое движение моих рук, – и вдруг стержень, выскочив наружу, стал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник, издавая звук, похожий на тиканье часов, только громкий. Я смотрел как завороженный на его равномерное качание вправо и влево, слушая это странное цоканье. «Для чего нужны часы, которые не показывают время? У них ведь даже нет стрелок!?» – раздумывал я. Взгляд мой упал на небольшой металлический предмет, лежащий тут же на комоде. Меня привлекла его форма, напоминающая то ли цветок, то ли ключ, то ли вытянутую подковку со стальной полоской в середине, загнутой концом вверх. Я взял его в руки, дернул за оттопыренный конец и подковка глухо задребезжала. Я стал дергать полоску снова и снова, и так увлекся этим, что не сразу заметил, что творилось за моей спиной.
Обернувшись, я вдруг увидел в проеме двери хмурого коренастого мужчину с огромными черными глазами, который стоял, скрестив руки на груди, и сверлил меня тяжелым взглядом. Не произнеся ни звука, он напугал меня до смерти. К своему ужасу от неожиданности я выронил из рук вещицу, от чего та обиженно лязгнула и умолкла. Всмотревшись в его глаза и крючковатый нос, я робко попятился, где-то в подсознании мелькнуло, что это, наверно, и есть Филин, а я просто запутался в собственных фантазиях и домыслах…
Но что сделано, то сделано. Я стоял незваным гостем в его комнате, за моей спиной предательски цокал маятник, подковка валялась на полу, и я бы хотел извиниться, но все еще не мог произнести ни единого слова. Руки задрожали мелкой дрожью, глаза стали наливаться слезами, но Филин, не обращая никакого внимания на мою «молчаливую трагедию», скривив рот в гримасе неудовольствия, произнес: «Понятно…» – прошел мимо меня, подобрал предмет и остановил маятник.
Я уже бежал по коридорам Дома в свою комнату. Теперь многое из рассказа Профессора о Филине виделось мне иначе. То, что я себе надумал, рассеялось, все встало на свои места, и у меня больше не было никаких иллюзий про огромные крылья птицы, как и мечтаний о крепкой дружбе, на которую я мог рассчитывать, если бы не этот казус. Оставалось надеяться, что Филин когда-нибудь простит мое вторжение и примет меня.
Спустя какое-то время, я уже знал, что по утрам он проводил обход Дома, заглядывая во все комнаты, в каждый темный уголок, потом поднимался на крышу, проверял различные крепления и механические паруса, о которых мне рассказывал Профессор, также не забывал о генераторах, словом, как врач совершал ежедневный плановый осмотр своего пациента.
Уход за Ларго был основным занятием Филина, который относился к нему как к своему питомцу. Как заботливый хозяин Филин «выгуливал, купал и кормил» преданного механического пса, то есть – смазывал скрипящие рессоры, устранял поломки, латал появившиеся трещины, подтягивал разболтавшиеся гайки, зачищал контакты, замечал все изменения до мелочей и тут же все записывал, чтобы потом все исправить.
Я пока не знал, что произошло в его жизни, как он оказался в этом Доме и стал им управлять, я только видел его невообразимую преданность Профессору и готовность служить ему и Дому всегда. Ларго в ответ был благодарен Филину всей своей механической душой и в часы стоянок, когда мы с Профессором делали вылазки в город за провиантом и водой, Филин проверял тормоза, гоняя Дом взад-вперед, и тот, казалось, даже потявкивал от удовольствия, хотя скорее позвякивал металлическими деталями. Ларго и Филин были похожи на резвящихся детей. Я видел, что Дом – единственное, что могло вызвать скупую улыбку мрачного Филина, но все же не сдавался и верил, что однажды смогу достучаться до его сурового сердца.
Я уже знал шаги Филина и, заслышав их издалека, открывал дверь своей комнаты, садился на кровать, выпрямлял спину и согласно разработанному мной «плану нашей дружбы», был готов в любую минуту кивнуть ему головой в знак приветствия, если бы он посмотрел в мою сторону. Но Филин каждый раз проходил мимо, продолжая не замечать меня. Несмотря на свою мрачность и замкнутость, он мне нравился. Я хотел быть к нему ближе, меня тянуло к нему, как к старшему брату, у которого я мог бы многому научиться. В моих мыслях он был самым доблестным и почему-то бесстрашным воином, на которого мне хотелось походить… Я даже пытался хмуриться, как Филин, свербя взглядом зеркало, но тщетно. Мои брови никак не хотели сводиться, а лишь поднимались «домиком», вопреки всем стараниям, но я все же продолжал думать, что мы обязательно поладим, а пока был просто наготове, приветственно махал ему рукой при встрече, надеясь, что однажды он хотя бы кивнет мне в ответ.
…Железная оплавленная Пуговица – единственное, что у меня осталось от моего детства, в котором я пережил пожар, – предмет из моего прошлого, найденный в руинах нашего сгоревшего дома. Она всегда лежала у меня в кармане и, перед тем как выйти из комнаты или лечь спать, я непременно проверял, на месте ли она. Всякий раз, сжимая ее в кулаке, я причинял себе боль, которая напоминала о том, что со мной произошло: о моей семье, о том, что всех нас постигло. Я чувствовал вину за свое счастье, в котором пребывал у приютившего меня Профессора, и как только мне было особенно радостно, чтобы не забывать о своем горе, я сжимал кулак, отчего железные края Пуговицы впивались мне ладонь, не давая зажить старым ранам. Однажды Профессор увидел мои свежие шрамы. Он посмотрел на меня долгим взглядом, а я достал из кармана пуговицу и виновато ему ее протянул. Внимательно рассмотрев ее со всех сторон, он неожиданно сказал:
– Это удивительная пуговица, хочешь, я научу тебя в нее играть?
С того дня Пуговица стала для нас предметом игры, которая учила «включать интуицию», как это назвал Профессор. Пряча за спиной руки, он спрашивал меня, в какой из них она находится, и просил, чтобы я ответил быстро, показав в правой или в левой, не успевая об этом подумать. Мы играли в эту игру сотни раз, и я все чаще угадывал загаданную им руку, когда ориентировался на внутренний голос. Я думал о том, что так я мог бы расти со своим отцом. Эта несбыточная мечта воплощалась с каждым днем его присутствия в моей жизни.
Я полюбил Профессора так, что стоило мне просто задуматься о том, что рано или поздно он, как и все, уйдет из моей жизни – меня одолевало щемящее чувство невосполнимой потери, которую я должен буду снова однажды пережить. Вне зависимости от места, где мы находились, даже когда сидели за столом или шли куда-то, стоило только мелькнуть этой мысли, – и я не мог сдержать предательски рвущихся наружу слез. Утирая их, я понимал, что это бессмысленно – горевать по еще живому Профессору и вспоминал его слова о том, что каждую минуту со дня нашего рождения мы, так или иначе, приближаемся к смерти, и что именно ограниченное время делает жизнь особенно ценной.
…Иногда мне просто хотелось броситься ему на шею и кричать о своей бесконечной любви, умоляя, чтобы он никогда, никогда не уходил… Но боль и пустота от представленного сковывали меня, душа вдруг замирала и переставала проситься на свободу, чтобы успеть проявиться, пока он жив. Украдкой вытирая слезы, я старался отогнать от себя мысли о смерти, которая была мне ненавистна и подлость которой была хорошо известна. Она ничем не гнушалась. В ней не было сочувствия или чего-то еще. Она была рабой Судьбы, как и все мы… Желала она того или нет, она убивала по Ее приказу. Детей, отцов и матерей – косила всех без разбору, лишь видела помеченную специальной меткой дверь. И я хотел бы стереть эту метку с двери нашего сгоревшего дома, но понимал, что никому на свете сделать этого не дано. Никто не может повернуть время вспять, и, глядя на Профессора, я мысленно его заклинал: только живите, Профессор, только живите…
Я все больше убеждался, что доброта может спасти мир. Однажды меня спас Профессор, а я так и не мог найти слов благодарности, да и не мог говорить, но все же решил сделать ему свой подарок, вручив самое ценное, что у меня было. Найдя в ворохе ниток красивую тесьму, я обмотал ею свою Пуговицу и протянул Профессору. Он удивился, задумался, поправив дужку очков, которая постоянно развинчивалась, а потом спросил, точно ли я хочу ее отдать, на что я закивал головой, потому, что мысль о том, что я могу что-то ему подарить, делала меня по-настоящему счастливым. Не знаю как, но Профессор видел все мои раны и шрамы, и мне казалось, что от одного его взгляда они потихоньку затягивались.