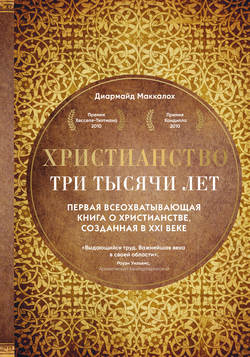Читать книгу Христианство. Три тысячи лет - Диармайд Маккалох - Страница 60
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II
Единая церковь, единая вера, единый Господь? (4 год до н. э. – 451 год н. э.)
3. Распятый Мессия (4 год до н. э. – 100 год н. э.)
Евангелие от Иоанна и Откровение
ОглавлениеВ своем творческом развитии идей Иисуса Павел был не одинок. Некоторые очень похожие темы можно обнаружить в Четвертом Евангелии, от Иоанна, написанном, как полагают, намного позже трех синоптических евангелий, – на рубеже I и II веков. Возможно, в нем следует видеть плодотворные размышления над традицией, созданной синоптиками.[169] У Иоанна содержится много новой информации об Иисусе, которую мы не находим у Марка, Матфея и Луки. По-видимому, он искренне старается дополнить начертанную ими картину жизни Иисуса; однако это не главная цель Иоанна, и сообщаемые им сведения служат иным задачам, чем у синоптиков. С самого начала он изображает Иисуса, который, согласно величественному вступительному гимну, уже полностью тождествен предвечному Слову, обитающему с Богом; и все повествование Евангелия от Иоанна не что иное, как прославление этой фигуры, как до креста, так и после. Иисус у Иоанна в своих величественных речах (их семь – по числу дней творения) начиная со слов «Я есмь» описывает себя самыми грандиозными метафорами. Он – Хлеб, Свет, Дверь, Пастырь, Воскресение и Жизнь, Путь, Истина и Жизнь, Вино.[170] Снова и снова он именует себя Сыном Божьим: у синоптиков Иисус так называет себя лишь раз, да и то намеком, хотя они часто вкладывают такое именование в уста других.[171] Иоанновский Христос мало говорит о прощении врагов – важная тема у синоптиков. Его заявления о себе для тех, кто их не принимал, могли показаться нестерпимо высокомерными; можно было подумать, что это голос одержимого. Дух, о котором говорит Павел, также постоянно присутствует в этом евангелии, начиная с того, как Иоанн Креститель видит, что он сходит на Иисуса при крещении в Иордане.[172]
Традиция Иоанна
Традиция Иоаннова евангелия отражается и в нескольких небольших посланиях, также носящих имя Иоанна: по всей видимости, это еще одно направление мысли неиудейских христианских общин, не следовавших иудейской матрице, но избежавших и влияния Павла. Нам осталась последняя книга Нового Завета: странное поэтическое сочинение, называемое Откровением, – своего рода открытое письмо к нескольким перечисленным в начале послания христианским общинам, находившимся на юге современной Турции. По всей видимости, оно написано в эпоху императора Домициана (81–96 годы) и отражает гнев христиан, связанный с проведенной им насильственной кампанией по укреплению культа императора. Как и большая часть межзаветной литературы (см. с. 90–91), это «апокалипсис» (т. е. по-гречески «откровение»): видение космических битв в конце времен и триумфального Божьего суда. Автора его также зовут Иоанном, и он, по-видимому, современник евангелиста Иоанна (от которого его отличает прозвище «Богослов»): однако пишет он на гораздо более простом греческом, и волнуют его совершенно другие проблемы.
Скорбя о жестоком обращении римской власти с христианами, Иоанн Богослов в стиле дохристианских иудейских писателей-апокалиптиков утешается мечтами о падении Римской империи. Рим он обозначает обычным у иудеев символом тиранической власти – «Вавилон». Интересно, что Иоанн Богослов, единственный из новозаветных авторов, смело, без каких-либо уточнений применяет к Иисусу провокационный термин «царь». В Новом Завете много говорится о Царстве Божьем, а Иисус не раз называется Царем иудейским или израильским – но это совсем не одно и то же. Ранние христиане боялись, что римские власти враждебно отнесутся к тому, что они начнут называть Христа царем; в конце концов самого Иисуса за то и распяли, что он будто бы провозглашал себя «царем иудейским». Вот почему в остальных новозаветных книгах эта тема почти не затрагивается: современные западные христиане, любящие говорить о Христе как царе (см. с. 1025–1035), обычно этого не замечают. Два английских баптиста XVIII века Джон Сенник и Чарльз Уэсли, когда слагали свой прославленный гимн: «Вот Он идет по облакам» – бо́льшую часть своих ярких «царских» образов и метафор заимствовали именно из книги Откровение:
Yea, Amen! let all adore Thee,
High on Thine eternal throne;
Saviour, take the power and glory,
Claim the kingdom for Thine own;
O come quickly! O come quickly! O come quickly!
Everlasting God, come down!
(Да, аминь! Пусть всё творение воздаст Тебе хвалу
Пред Твоим вечным престолом в вышних.
Спаситель, установи Твое Царство во власти и силе!
Ей, гряди! Ей, гряди! Ей, гряди!
Вечный Бог, прийди скорей!)
Итак, Откровение – это великое исключение: единственная книга Нового Завета, в которой открыто утверждается «подрывной» характер христианской веры. Неудивительно, что снова и снова в истории христианства эта книга вдохновляла угнетенных на борьбу с их угнетателями. Подобные акценты пугали христиан и долго не позволяли полностью принять книгу Откровения в библейскую семью: однако в конечном счете в ее пользу сыграл представленный в ней образ Иисуса Христа, перекликающийся и с Павловыми посланиями, и с Евангелием от Иоанна. Здесь Иисус – также фигура космического значения, Агнец, который после конца света воссядет на престол. Первым читателям Иоанна Агнец напоминал о жертвоприношении на иудейскую Пасху и погружал их в размышления о Тайной вечере, ставшей для них первой Евхаристией. Интересно, что Агнец, вместе с Богом Всемогущим, вполне заменяет собой храм в городе будущего под названием Новый Иерусалим.[173] Дело в том, что в то время, когда писал Иоанн Богослов, отношение последователей Христа к старому Иерусалиму радикально переменилось: они уже не связывали с этим городом свое будущее.
Иоанн, Павел, Иаков и их церкви
Апостол Павел оставил немало сведений об общинах последователей Христа, в основном иудейского происхождения, которые после смерти Иисуса и окончания его земной жизни ориентировались на лидеров Иерусалимской церкви. Как мы уже отмечали (с. 120), поначалу самым видным из этих лидеров был Иаков, брат Иисуса. Когда в 62 году н. э. иудейские власти казнили Иакова по обвинению в нарушении иудейского Закона, его место занял другой «родич» Господень, Симеон. Если иерусалимская община последователей Христа надеялась занять ведущее место в иудаизме, то это ей не удалось: христиане остались маргинальным меньшинством и в Иерусалиме, и в Палестине. Однако среди новых последователей Христа Иерусалимская церковь пользовалась высоким авторитетом из-за тесной связи ее лидеров с Иисусом. В Послании к Коринфянам Павел нехотя признает, что этим людям Иисус явился по воскресении раньше, чем ему самому, и тщательно воспроизводит порядок этих явлений: сначала – Петру, затем – Иакову.[174] Снова и снова Павел приказывает средиземноморским церквам, к которым обращается, отсылать средства в Иерусалим – так же, как иудеи в Рассеянии отсылали пожертвования на Храм. Это значит, что в глазах последователей Христа Иерусалимская церковь начала занимать место Храма: неудивительно, что Павлу приходилось относиться к ней с уважением. Однако он представлял интересы растущего числа общин, верящих в Христа как Господа, вдали от Иерусалима, в средиземноморском мире: обстоятельства возникновения и роста этих общин, быть может, навеки останутся от нас сокрыты, несмотря на яркие лучи света (или кажущегося света), который проливают на них послания Павла и Деяния апостолов.
За личным вдохновением Павла и его независимостью (которую, как мы видели, сам он подчеркивал) стоят напряженные отношения с лидерами Иерусалимской церкви, и даже в гладком повествовании Деяний чувствуются отголоски грохочущих за ними битв. Истинную серьезность спора открывает нам один гневный пассаж из Павлова Послания к Галатам, где апостол упрекает Петра – ученика Иисусова, одного из Двенадцати – в малодушии, непоследовательности и лицемерии.[175] На кону стоял вопрос, не дававший покоя христианам еще полтора века: насколько далеко можно отступать от иудейской традиции, если они, как Павел, проповедуют Благую весть царства Христова неиудеям? Вставали вопросы глубокого символического значения: следует ли новообращенным перенимать такие черты иудейской жизни, как обрезание, строгое следование Закону Моисееву, воздержание от пищи, оскверненной связью с языческими жертвоприношениями (а таковой являлось абсолютно все мясо, продававшееся на рынках неиудейского мира)? Павел ввел лишь одно ограничение: не следует есть мясо, о котором известно, что оно было публично принесено в жертву идолам. Что же до всего прочего – нет нужды поднимать шум из-за налогов на продажи или посуды на столе у неверующего.[176]
Можно было бы ожидать, что в результате всего этого христианство разделится на две ветви, с различным отношением к своему родителюиудаизму: иудейская церковь будет следовать традиции Иакова, языческая церковь – бережно хранить писания Павла и Иоанна. Однако вышло иначе. В Новом Завете сохранилось одно послание, подписанное Иаковом, и оно представляет совсем иной взгляд на жизнь христианина и на роль Закона, чем у Павла: однако все ныне живущие христиане – наследники церкви, созданной Павлом. Христианство другого типа, когда-то проповедуемое братом Господним, прекратило существование. Как это произошло? Причиной тому стал серьезный политический кризис.
169
Некоторые современные ученые настойчиво утверждают, что вплоть до конца II века многие мейнстримовые христиане смотрели на Евангелие от Иоанна с подозрением. Свидетельств этого мало, как тщательно показал C.E. Hill, The Johannine Corpus in the Early Church (Oxford, 2004), особенно 463–470. Консервативные исследователи, в свою очередь, по сей день настаивают на ранней датировке Евангелия от Иоанна: в эту веру неожиданно обратился J.A.T.Robinson, The Priority of John (London, 1985). См. также недавнее исследование Бокэма, предлагающего ранние датировки всех Евангелий: R. Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids, 2006). [Русское издание: Ричард Бокэм, Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства – живые голоса свидетелей. – М.: 2011. – Прим. ред.]
170
Соответственно Ин 6:35, 48, 51; 8:12; 9:5; 10:7; 10:11, 14; 11:25; 14:6; 15:1.
171
Мк 13:32: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы, ни Сын, но только Отец». Явное стремление смягчить апокалиптический пафос предыдущего материала указывает на то, что этот стих может быть поздним дополнением, включенным в текст на финальной стадии редакторской работы над Евангелием.
172
Ин 1:32.
173
См. Откр 21 и 22, с огромным количеством аллюзий.
174
1 Кор 15:5–8.
175
Гал 2:11–14.
176
1 Кор 10:23–32.