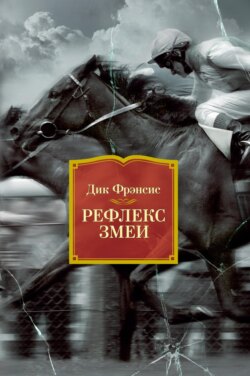Читать книгу Рефлекс змеи - Дик Фрэнсис - Страница 4
Глава 3
ОглавлениеМать Стива, вся в крови, дрожа и кашляя, лежала на софе в гостиной. Какая-то сволочь напала на нее. Нос и губы были разбиты, глаз подбит, на щеке и челюсти свежие кровоподтеки. Одежда ее была разорвана, туфли непонятно где, всклокоченные волосы торчали во все стороны.
Я иногда видел мать Стива на скачках. Это была приятная, хорошо одетая дама лет пятидесяти, уверенная в себе и счастливая, откровенно гордящаяся сыном и мужем. В этой избитой женщине ее просто невозможно было узнать.
Рядом с ней сидел на табурете полицейский и стояла женщина из полиции с окровавленной тряпочкой. На заднем плане маячили двое санитаров, у стены лежали раскрытые носилки. Тут же со скорбным и встревоженным видом нервно переминалась с ноги на ногу какая-то женщина, вроде бы соседка. В комнате все было перевернуто вверх дном, на полу валялись какие-то бумажки, обломки мебели. На стене были следы джема и пирожных, как и рассказывал Стив.
Когда я вошел, полицейский повернул голову:
– Вы врач?
– Нет… – Я объяснил, кто я такой.
– Стив! – воскликнула его мать. Рот ее дергался, руки дрожали. – Стив ранен. – Она говорила с трудом, и все же страх за сына новой мукой прошел по ее и так исстрадавшемуся лицу.
– Все не так страшно, уверяю вас, – торопливо заверил ее я. – Он тут, снаружи. Просто ключицу сломал. Я сейчас приведу его.
Я вышел, рассказал ему все и помог выбраться из машины. Он ссутулился и весь сжался, хотя казалось, что сам он этого не ощущал.
– Почему? – беспомощно спрашивал он, поднимаясь по дорожке. – Почему? За что?
Полицейский в доме задавал те же вопросы, как, впрочем, и все остальные.
– Когда нас прервали, вы рассказывали, что их было двое, с чулками на головах. Верно?
Она едва заметно кивнула.
– Молодые, – сказала она. Это слово у нее вышло коряво – разбитые губы распухли. Она увидела Стива и потянулась к нему, крепко стиснула его руку. Он же, увидев ее, побледнел и осунулся еще больше.
– Белые или цветные? – спросил полицейский.
– Белые.
– Как они были одеты?
– В джинсах.
– Они были в перчатках?
Она прикрыла глаза. Подбитый распух и покраснел.
– Да, – прошептала она.
– Миссис Миллес, пожалуйста, попытайтесь вспомнить, – сказал полицейский, – чего они хотели?
– Они искали сейф, – пробормотала она.
– Что?
– Сейф. Но у нас нет сейфа. Я говорила им. – Две слезинки поползли по ее щекам. – Где сейф, повторяли они. Они избили меня.
– У нас нет сейфа, – прорычал Стив. – Я убью их.
– Хорошо, сэр, – сказал полицейский. – Только спокойно, сэр, будьте любезны.
– Один… начал ломать вещи, – сказала миссис Миллес. – Другой бил меня.
– Скоты, – проговорил Стив.
– Они не говорили, что им нужно? – спросил полицейский.
– Сейф.
– Да, но это было все? Может, они искали деньги? Драгоценности? Серебро? Золотые монеты? Что они в точности говорили, миссис Миллес?
Она слегка сдвинула брови, словно задумавшись. Затем, с трудом выговаривая слова, сказала:
– Они спрашивали только: «Где сейф?»
– Полагаю, вы знаете, – сказал я полицейскому, – что этот дом и вчера грабили?
– Да, сэр. Я сам тут вчера был. – Он несколько мгновений оценивающе смотрел на меня, затем снова повернулся к матери Стива. – Эти двое юнцов в масках говорили что-нибудь о том, что были тут вчера? Попытайтесь припомнить, миссис Миллес.
– Я… не думаю.
– Не торопитесь, – сказал он. – Попытайтесь вспомнить.
Она довольно долго молчала, по щекам ее скатились еще две слезинки. «Бедная женщина, – подумал я. – Столько страданий, столько горя, столько оскорблений… И сколько мужества».
Наконец она сказала:
– Они были… как быки. Они орали. Они были грубы. Они… толкали меня. Толкали. Я открыла переднюю дверь. Они ворвались. Впихнули… меня. Начали… все ломать… Устроили этот разгром… Кричали… «Где сейф? Говори, где сейф»… Били меня. – Она помолчала. – Не думаю… чтобы они что-то говорили… про вчера…
– Убью, – прохрипел Стив.
– Третий раз, – прошептала его мать.
– Что, миссис Миллес? – спросил полицейский.
– Третий раз ограбили. Уже было… два года назад.
– Вы не можете заставлять ее вот так лежать, – прорычал Стив. – Задавать все эти вопросы… Вы вызвали врача?
– Все в порядке, Стив, дорогой, – сказала соседка, подавшись вперед, словно хотела утешить его. – Я позвонила доктору Уильямсу. Он сказал, что сейчас же приедет. – Вид у нее был заботливый и обеспокоенный, но тем не менее она получала удовольствие от всего этого зрелища, и я представлял себе, как она будет рассказывать об этом всем соседям. – Я тут была раньше, помогала твоей матери, Стив, – затараторила она, – но, конечно, я ходила домой – соседняя дверь, ты же знаешь, дорогой, – чтобы приготовить чай для моей семьи, и тут я услышала крики. Мне показалось, что тут что-то не так, милый, и я побежала назад посмотреть, стала звать твою маму, чтобы спросить, все ли в порядке, и тут эти два ужасных юнца выскочили из дому, просто вылетели, и я, конечно, вошла… и тут… твоя бедная мама… потому я позвонила в полицию, и в «скорую», и доктору Уильямсу, и всем остальным. – Она выглядела так, словно ожидала, что ее, по крайней мере, по головке погладят за такое присутствие духа, но Стив сейчас не был способен на это.
Полицейский тоже не оценил ее стараний.
– Вы не помните, на какой машине они уехали? – спросил он.
– Светлая, среднего размера, – твердо ответила она.
– Это все?
– Я не особо обращаю внимание на машины.
Никто не сказал, что на эту ей следовало бы обратить внимание. Но все об этом подумали.
Я прочистил горло и несмело обратился к полицейскому:
– Я не знаю, пригодится ли это, и, конечно, вы можете и своего человека для этого позвать и все такое, но у меня тут в машине камера, если вам, конечно, нужны фотографии всего этого.
Он поднял голову и сказал «да». Потому я принес обе камеры и сделал две серии снимков – цветные и черно-белые, с крупным планом избитого лица и широкоугольные снимки комнаты. Мать Стива безропотно терпела вспышки, и съемка не заняла много времени.
– Вы профессиональный фотограф, сэр? – спросил полицейский.
Я покачал головой:
– Просто у меня большая практика.
Он сказал, куда отослать готовые фотографии. Тут приехал доктор.
– Не уходи пока, – сказал мне Стив. Я увидел в его напряженном лице отчаяние и остался с ним, пока не закончилась вся последовавшая суматоха. Я сидел на лестнице, за дверями гостиной.
– Не знаю, что делать, – сказал он, садясь рядом со мной. – Я в таком виде не могу водить машину, а мне нужно поехать и посмотреть, чтобы с ней все было в порядке. Они заберут ее в больницу на ночь. Может, я поймаю такси?…
Вообще-то, он не просил, но этот вопрос сам по себе был просьбой. Я сдержал вздох и предложил помочь. Он благодарил меня так, словно я бросил ему спасательный круг.
В конце концов я остался с ним на ночь, поскольку, когда мы вернулись из больницы, у него был такой измученный вид, что я не мог просто так уехать и бросить его одного. Я приготовил пару омлетов, потому что к тому времени – а было уже десять – мы умирали с голоду, ведь оба не ели с самого завтрака. Потом я немного прибрался.
Он сидел на краю софы, бледный, измученный, не обращая внимания на свой болезненный перелом. Возможно, он почти и не чувствовал боли, хотя его лицо было полно страдания. Говорил он только о матери.
– Я убью этих ублюдков, – сказал он.
«Смело, но глупо, – подумал я. – Как обычно. Судя по положению вещей, если Стивен со своим весом в девять стонов семь кило встретится с этими двумя ублюдками, то скорее это они его убьют».
Я начал с дальнего угла комнаты, собрал кучу журналов, газет и старых писем, а также поднял дно и крышку от коробки в десять на восемь дюймов, в которой когда-то лежала фотобумага. Старая подружка.
– Что мне со всем этим делать? – спросил я Стива.
– Да просто сложи где-нибудь, – неопределенно сказал он. – Тут кое-что полетело с полки над телевизором.
Деревянная журнальная полка валялась на боку на ковре, пустая.
– А это папина мусорная коробка, вон та, оранжевая, потрепанная. Он держал ее на полке вместе с бумагами. Никогда ничего из нее не выкидывал, просто складывал сюда неудачные снимки, год за годом. Просто смешно. – Он зевнул. – Ты не особо старайся. Мамина соседка приберется.
Я поднял кучку какого-то хлама: прозрачный кусочек пленки шириной дюйма в три и длиной около восьми, несколько лент 35-миллиметровых цветных негативов, проявленных, но пустых, и довольно хорошую фотографию миссис Миллес с пятнами реактива на волосах и шее.
– Это, наверное, было в папиной мусорной коробке, – сказал, зевая, Стив. – Можешь выбросить.
Я сложил все в мусорную корзину и добавил туда же почти черную черно-белую фотографию, разорванную пополам, и несколько цветных негативов в кляксах фиксажа.
– Он хранил их, чтобы не забывать о своих ошибках, – сказал Стив. – Просто невозможно представить, что он больше не вернется…
В бумажной папке была еще одна очень темная фотография, на которой был изображен какой-то человек за столом. Фигура была в тени.
– Тебе она нужна? – спросил я.
Он покачал головой:
– Это все папин хлам.
Я снова положил на журнальную полку женские журналы и поставил несколько деревянных безделушек, сложил письма в кучу на столе. На полу в одной куче валялись обрывки китайских орнаментов для вышивки, обломки старательно разломанной коробки с рукоделием на тонких ножках-подставках, маленькое бюро, перевернутое набок, из ящиков которого при падении водопадом хлынула писчая бумага. Казалось, что весь этот погром был учинен только для вящего шума и устрашения – как и те крики, то избиение, о котором рассказала миссис Миллес. Они устроили этот дикий погром, чтобы запугать ее, но, когда не вышло, они стали ее избивать.
Я снова поставил бюро и засунул в него большую часть бумаги, собрал в кучу разбросанные узоры для гобелена, несколько десятков мотков пряжи. Стало наконец видно ковер.
– Ублюдки, – сказал Стив. – Ненавижу. Всех убью.
– Почему они решили, что у твоей матери есть сейф?
– Кто их знает. Может, они просто грабят только что овдовевших женщин, а про сейф кричат на всякий случай? Я имею в виду, что, если бы у нее был сейф, она сказала бы им, где он, разве не так? Сначала отец погиб, потом вчера, пока мы были на похоронах, был взлом. Такое потрясение. Она сказала бы им. Я знаю, что она сказала бы.
Я кивнул.
– Больше ей не вынести, – сказал он. В голосе его слышались слезы, а глаза потемнели – он старался не заплакать. Я подумал, что скорее это он больше не выдержит. Его-то мать поддерживают сочувствие и лекарства.
– Пора спать, – резко сказал я. – Идем. Я помогу тебе раздеться. Утро вечера мудренее.
Я рано проснулся после этой беспокойной ночи и лежал, глядя на пробивающийся в окно блеклый ноябрьский рассвет. В этой жизни была куча такого, с чем мне не хотелось бы иметь дела, и потому вставать мне было неохота – ситуация, привычная для рода человеческого. «Разве не чудесно, – вяло подумал я, – быть довольным собой, смело смотреть вперед, не думать о полоумных умирающих бабках и собственной гнетущей подлости? Я, по сути, человек искренне беззаботный, принимаю все как есть и потому не люблю, когда меня загоняют в угол, из которого приходится выбираться, то есть что-то делать».
Всю мою жизнь все приходило ко мне само. Я никогда ничего не искал. Я впитывал то, что мне попадалось на пути, где бы то ни было. Как искусство фотографии, поскольку мне встретились Данкен и Чарли. И как конный спорт, поскольку мама подкинула меня хозяину той конюшни для скаковых лошадей. Если бы она оставила меня у фермера, я, вне всякого сомнения, заготавливал бы сено.
Чтобы выжить в течение стольких лет, мне приходилось принимать то, что мне давали, стараться быть полезным, тихим, покладистым, не причинять беспокойства, научиться владеть собой, и потому теперь, когда я возмужал, мне совершенно претили суматоха и борьба.
Я так долго учился не хотеть того, что мне не предлагали, что теперь вообще мало чего хотел. Я не принимал основополагающих решений. Гарольд Осборн предложил мне жилье и работу жокея на его конюшне. Я все это принял. Банк предложил ссуду. Я принял. Местный гараж предложил машину. Я купил ее.
Я понимал, почему я таков, каков есть. Я знал, почему я просто плыву по воле волн. Я сознавал, почему я пассивен, но не имел никакого желания менять жизнь, топать ногами и заявлять, что я, дескать, хозяин своей судьбы.
Я не хотел искать свою сестру и не желал терять работу у Гарольда. И все же по какой-то непонятной причине это бессознательное плавание стало казаться мне все более и более неправильным.
Я в досаде оделся и пошел вниз по лестнице, высматривая по дороге Стива. Он спал без задних ног.
После того ограбления в день похорон пол кое-как вымыли, собрав в кучу битую посуду и рассыпанные крупы. Кофе и сахар те громилы прошлым вечером вывалили на пол, зато молоко и яйца в холодильнике оставили. Я немного попил. Затем, чтобы убить время, я побродил по нижним комнатам, просто глядя по сторонам.
Комната, в которой прежде располагалась проявочная Джорджа Миллеса, наверное, была куда интереснее всех остальных, если бы тут хоть что-нибудь осталось. Но во время первого ограбления здесь тщательнее всего порылись. Бесчисленные неряшливые полосы и потеки на стенах под рядом пустых полок показывали, где стояло оборудование, а пятна на полу – где он хранил свои реактивы.
Он, насколько я знал, составил множество собственных рецептов цветных проявителей и разработал свои способы печати, чего большинство профессиональных фотографов не делают. Проявка цветных слайдов и негативов – дело трудное и требующее точности, и для получения надежного результата спокойнее отдавать их на обработку в коммерческие поточные лаборатории. Данкен и Чарли сдавали все свои пленки на проявку и делали сами только печать с негативов, поскольку это гораздо проще.
Джордж Миллес был мастером высшего разряда. Жаль, что у него характер был такой поганый.
Судя по следам, он работал с двумя увеличителями. Кроме них, наверняка имел в загашнике множество штучек для регулирования выдержки, кучу оборудования для проявки и глянцеватели. Наверное, у него имелись десятки листов фотобумаги различного типа и светонепроницаемые конверты для ее хранения. И конечно, кучи папок, в которых хранились в должном порядке его старые работы, а также красные лампы, мерные стаканы, скоросшиватели и фильтры.
Все, все до клочка исчезло.
Как и большинство серьезных фотографов, он хранил непроявленные пленки в холодильнике. Стив сказал, что они тоже исчезли, и, наверное, они как раз и были причиной погрома на кухне.
Я пошел в гостиную – просто так – и зажег свет, думая, как бы мне побыстрее и не слишком грубо растолкать Стива и сказать ему, что я уезжаю. Полуприбранная комната казалась холодной и мрачной. Жалкое же зрелище предстанет взору бедной миссис Миллес, когда она вернется домой. По привычке и от нечего делать я неторопливо начал с того, на чем кончил вчера. Собрал осколки ваз и безделушек, вымел из-под кресел катушки ниток и обрывки вышивки.
Из-под софы торчал край большого светонепроницаемого конверта – обычная вещь в доме фотографа. Я заглянул в него, но там был только кусок чистого толстого пластика в восемь квадратных дюймов, ровно обрезанный с трех сторон и волнистый с четвертой. Еще мусор. Я сунул пластик назад в конверт и бросил все в корзину.
Пустая картонная коробка лежала открытая на столе. Без особой причины и явно по присущему фотографам любопытству я взял мусорную корзину и снова вывалил ее на ковер. Затем сложил все «ошибки» Джорджа в коробку, в которой он их держал, а потом собрал осколки стекла и фарфора и опять ссыпал их в корзину.
Глядя на фотографии и обрывки пленки, я задавался вопросом: почему Джордж вообще берег их? Фотографы, как и доктора, обычно быстро хоронят свои ошибки и не хранят их тут и там на журнальных полках вечным напоминанием о неудачах. Я всегда любил загадки. Я подумал, что было бы любопытно разобраться, почему Джордж счел интересными именно эти снимки.
Стив спустился по лестнице. В своей пижаме он казался таким хрупким. Он баюкал свою поврежденную руку, вяло взирая на наступивший день.
– Господи, – сказал он, – ты же целую кучу убрал!
– Сколько смог.
– Ну спасибо. – Он увидел мусорную коробку на столе. Все содержимое снова было на месте. – Он обычно держал ее в холодильнике, – сказал он. – Мама рассказывала мне, что как-то раз была ужасная суматоха, когда холодильник сломался и все разморозилось – горох там и все такое. Папе было наплевать на то, что еда, которую она приготовила, погибла. Он только и говорил о том, что какое-то мороженое протекло прямо на его мусорку. – Стив устало улыбнулся при этом воспоминании. – Наверное, это было еще то зрелище. Ей это показалось чрезвычайно забавным, и, пока она смеялась, он становился все злее и злее… – Стив осекся, улыбка погасла. – Не могу поверить, что он не вернется.
– Твой отец часто держал свои пленки в холодильнике?
– Конечно. Естественно. Кучу пленок. Ты же знаешь, что такое фотографы. Всегда психуют, что цветные красители не вечны. Он все переживал, что его работы через двадцать лет погибнут. Говорил, единственный путь сохранить их для потомства – глубокая заморозка, да и то бабушка надвое сказала.
– Ладно… – сказал я. – А взломщики и холодильник опустошили?
– Господи! – У него был испуганный вид. – Не знаю. Я даже и не думал об этом. Но зачем им его пленки?
– Они же украли те, что были в проявочной.
– Но полицейские сказали, что это просто по злобе. На самом деле им нужно было оборудование, они же могут его продать.
– Мм, – ответил я. – Твой отец делал много таких снимков, которые не нравились людям.
– Да, но только шутки ради. – Он, как всегда, защищал Джорджа.
– Давай посмотрим в холодильнике.
– Да. Хорошо. Он там, сзади, в сарайчике.
Стив вынул ключ из кармана фартука, висевшего в кухне, и вышел через заднюю дверь в маленький крытый дворик, с мусорным контейнером и поленницей дров. В кадке на дворе росла петрушка.
– Здесь, – сказал Стив, протягивая мне ключ и кивком показывая на зеленую крашеную дверь в окружающей двор стене. Я вошел и обнаружил огромный холодильник, стоявший между бензиновой газонокосилкой и примерно шестью парами галош.
Я поднял крышку. Внутри, заполняя одну его сторону, угнездившись между бараньими ножками и коробками с булочками и рубленым бифштексом, стояли три серых металлических ящика, каждый из которых был плотно завернут в полиэтилен. На крышке каждого была приклеена скотчем короткая надпись: «НЕ ХРАНИТЬ МОРОЖЕНОГО РЯДОМ С ЭТИМИ ЯЩИКАМИ».
Я рассмеялся.
Стив посмотрел на ящики и надпись и сказал:
– Сам видишь. Мама сказала, что он просто взбеленился, когда все там потекло, но в конце концов ничего не пострадало. Еда вся пропала, но его лучшие диапозитивы уцелели. После этого он и начал хранить их в ящиках.
Я закрыл крышку, мы заперли дверь и пошли обратно в дом.
– Ты правда думаешь, – с сомнением в голосе начал Стив, – что грабители охотились за папиными фотографиями? То есть они ведь всякое украли. Мамины кольца, его запонки, ее шубу и все такое.
– Да… так.
– Ты думаешь, что мне стоит сказать полиции обо всех этих пленках в холодильнике? Я уверен, что мама просто забыла о них. Мы никогда о них и не думали.
– Можешь поговорить с ней об этом, – сказал я. – Посмотрим, что она скажет.
– Да, так будет лучше. – Он чуть повеселел. – Одно хорошо – пусть она и потеряла все номера и даты и названия мест, где эти снимки были сделаны, но у нее, по крайней мере, остались некоторые из лучших его работ. Не все пропало. Не все.
Я помог Стиву одеться и вскоре уехал, поскольку он сказал, что ему уже лучше. Да это и видно было. И я уехал с коробкой неудач Джорджа Миллеса, которую Стив велел выбросить на помойку.
– Ты не против, если я возьму ее себе? – спросил я.
– Да нет, конечно. Я знаю, что ты любишь всю эту возню с пленками, прямо как он… Он любил этот старый хлам. Не знаю почему. В любом случае возьми, если хочешь.
Он вышел на подъездную дорожку и посмотрел, как я укладываю коробку в багажник рядом с двумя моими камерами.
– Ты ведь никуда не ходишь без камеры, да? – сказал он. – Прямо как папа.
– Думаю, нет.
– Папа говорил, что без нее чувствует себя голым.
– Это становится частью тебя. – Я захлопнул багажник и по давней привычке запер его. – Это твой щит. Ты как бы на шаг отходишь от мира. Становишься наблюдателем. Это как бы дает тебе право встать над эмоциями.
Он был весьма удивлен тем, что мне такое приходит в голову, да и я сам был удивлен – не тем, что подумал об этом, а тем, что сказал об этом ему. Я улыбнулся, чтобы превратить все это в шутку. И Стив, сын фотографа, явно облегченно вздохнул.
Где-то час я добирался от Аскота до Ламборна. Было воскресное утро, и я ехал быстро. Перед своим коттеджем я обнаружил большую темную машину.
Мой коттедж был одним из семи стандартных домиков в ряду, построенных при Эдуарде[3] для людей среднего достатка. Кроме меня, там сейчас жили школьный учитель, водитель фургона для перевозки лошадей, викарий, ассистент ветеринара, несколько вдов и детей, а также там была пара общаг, набитых конюхами. Один жил только я. В такой тесноте почти неприличным казалось занимать столько места одному.
Мой дом был в центре: два выше, два ниже по улице. Сзади к нему была пристроена современная кухня. Белый кирпичный фасад безо всяких украшений выходил прямо на дорогу, не оставляя места для сада. Новые алюминиевые оконные рамы заменили прежние деревянные, которые уже давно сгнили. Старое потрепанное здание. Не особо впечатляет, но все же дом.
Я медленно проехал мимо машины, повернул на грязную подъездную дорожку в конце квартала, объехал домики сзади и припарковался под рифленой пластиковой крышей навеса позади кухни. По дороге я заметил, как из машины торопливо вышел какой-то человек. Я понял, что он увидел меня. Со своей стороны, я подумал только о том, что в воскресенье он мог бы и оставить меня в покое.
Я прошел через дом с черного хода и открыл переднюю дверь. На пороге стоял Джереми Фолк – худой, высокий, неуклюжий, пользующийся своей неподдельной неуверенностью как рычагом – все как прежде.
– Что, адвокаты по воскресеньям не отдыхают? – спросил я.
– Ну, в общем, я прошу прощения…
– Ладно, – сказал я. – Заходите. Сколько вы тут торчите?
– Да ничего… не волнуйтесь.
Он вошел в дверь и тут же разочарованно заморгал. Я перестроил внутреннюю часть коттеджа так, что бывшая передняя теперь была разделена на прихожую и проявочную, а собственно в той части, которая осталась под прихожую, была теперь картотека да окно, выходящее на улицу. Белые стены, белый кафельный пол – все белое и безликое.
– Сюда, – внутренне забавляясь его растерянностью, сказал я и повел его мимо проявочной и того, что служило раньше кухней, а теперь было скорее ванной и отчасти продолжением прихожей. За ними была новая кухня, а слева – узкая лестница.
– Кофе или поговорим? – спросил я.
– Мм… поговорим.
– Тогда наверх.
Я пошел вверх по лестнице, он следом за мной. Одну из двух спален я использовал как гостиную, поскольку она была самой большой комнатой в доме и с лучшим видом на Даунс. В самой маленькой комнате рядом с этой я спал.
В гостиной были белые стены, белый пол, коричневый ковер, голубые шторы, опускающийся светильник, книжные полки, софа, низкий столик и напольные подушки. Мой гость оценивающе стрелял глазами, оглядывая комнату.
– Ну? – нейтрально начал я.
– Ну… в смысле… хорошая картина.
Он подошел посмотреть поближе на единственную висевшую на стене вещь – бледно-желтый солнечный свет падает на снег сквозь нагие ветви серебристых берез.
– Это… гм… картина?
– Это фотография, – сказал я.
– О! Правда? Похожа на картину. – Он отвернулся и сказал: – Где бы вы стали жить, будь у вас сто тысяч фунтов?
– Я уже сказал ей, что мне не нужны эти деньги. – Я посмотрел на него, неуклюжего, беспомощно стоявшего передо мной. На сей раз он был одет не в свой рабочий черный костюм, а в твидовый пиджак с декоративными кожаными заплатками на локтях. Но под этим тупым видом сообразительности все равно было до конца не скрыть, и я рассеянно подумал, не выбрал ли он эту маску из-за того, что собственная проницательность его смущает.
– Садитесь, – я показал на софу, и он сел, подобрав свои длинные ноги, словно я ему одолжение сделал. Я уселся на подушку, набитую маленькими мягкими шариками, и сказал: – Почему вы ничего не сказали мне о деньгах, когда встречались со мной в Сандауне?
Его чуть не скорчило.
– Я… просто… в смысле, подумал, что лучше сначала взять вас на кровные узы, знаете ли…
– А если бы не удалось, вы попробовали бы на жадность?
– Вроде того.
– И тогда вы просекли бы, с кем имеете дело?
Он заморгал.
– Понимаете ли, – вздохнул я, – я ведь все с полуслова понимаю, так, может, вам просто… бросить дурака валять?
Он расслабился и впервые стал вроде бы естественным и слегка улыбнулся мне – в основном глазами.
– Это становится привычкой, – сказал он.
– Так я и понял.
Он еще раз окинул взглядом комнату. Я сказал:
– Ладно, скажите, что вы видите.
Он так и сделал, не дергаясь и не извиняясь:
– Вы любите одиночество. Эмоционально холодны. Вам не нужна поддержка. И, хотя вы и делаете снимки, тщеславие вам чуждо.
– Принимаю.
– Ой-ой.
– Ладно, – сказал я. – Итак, зачем вы пришли?
– Ну, очевидно, чтобы заставить вас сделать то, чего вы делать не хотите.
– Найти сестру, о которой я не знал?
Он кивнул.
– Зачем?
После короткой паузы, в которую, как я мог представить, он провернул кучу «за» и «против», он сказал:
– Миссис Нор настаивает на том, чтобы ее наследство досталось тому, кого нельзя найти. Это… это желание невозможно удовлетворить.
– Почему она настаивает?
– Не знаю. Она дала такие указания моему деду. Его советов она не слушает. Она стара, надоела ему дальше некуда, моему дяде тоже, потому они спихнули все это на меня.
– Аманду не смогли отыскать три детектива.
– Они не знали, где искать.
– Я тоже, – ответил я.
Он внимательно посмотрел на меня:
– Вы должны бы знать.
– Нет.
– Вы знаете, кто ваш отец? – спросил он.
3
Имеется в виду царствование короля Эдуарда VII (1901–1910).