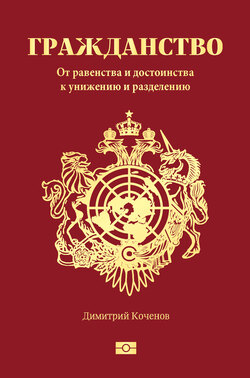Читать книгу Гражданство. От равенства и достоинства к унижению и разделению - Димитрий Коченов - Страница 6
1. Ключевые элементы гражданства
Права
ОглавлениеВ результате лотереи происхождения люди, которым по рождению присвоен статус гражданства, получают права. И именно права, приобретенные благодаря тому или иному статусу, позволяют отличить «хорошие» гражданства от «плохих». Некоторые статусы (например, швейцарское гражданство) настолько благоприятны, что практически гарантируют здоровую жизнь, хорошее образование, свободу международных поездок, а также позволяют при желании с легкостью распрощаться с родиной навсегда. Любой швейцарский гражданин имеет право на переезд без лишних вопросов в 40 с лишним высокоразвитых стран и территорий по всему миру для работы и проживания, если, на его взгляд, Швейцария чересчур богата или чересчур скучна. В этом случае у него также будет надежная защита от дискриминации на основании того, что он «иностранец». По сравнению с элитарными супергражданствами высочайшего качества, включая швейцарское, новозеландское, ирландское и люксембургское, прочие статусы – на деле чуть больше половины гражданств мира – это скорее обременение для их обладателей: такие статусы бесправны. Большинство гражданств мира ограничивают жизненные перспективы и мешают реализовать мечты, устанавливают «стеклянные потолки». Мы часто предполагаем, что права, с которыми ассоциируется гражданство, сопоставимы от страны к стране. На деле это вовсе не так: более качественные статусы дают больше прав и более обширные права; менее качественные статусы, напротив, создают обременения, порой опасные для жизни. В десятках стран мира статус гражданина делает достойную жизнь трудной, а то и невозможной. В нашем мире гражданство играет важнейшую роль в пространственной атрибуции людей, привязывая их к территории конкретной страны, и, как блестяще продемонстрировал Бранко Миланович, основные аспекты глобального неравенства по своей природе именно пространственны. Поэтому гражданство можно считать ключевым фактором сохранения статус-кво, при котором нищие (например, конголезцы, о каком бы Конго ни шла речь) остаются нищими, а богатые (например, швейцарцы) – богатыми13. Этот вопрос мы подробнее рассмотрим далее. Крайне важно понять, что именно гражданство, а не талант, напряженный труд или интеллект, играет решающую роль в нашем экономическом благополучии и, таким образом, выступает ключевым инструментом поддержания глобального неравенства.
Экономический анализ глобального неравенства показывает, что «в сегодняшнем мире место рождения или проживания по-прежнему играет колоссальную роль; оно, возможно, на целых две трети определяет наш суммарный доход на протяжении жизни»14. Лишь крошечной доле мирового населения – тем, кто поменял страну проживания в течение жизни – удается избежать исходно назначенной им судьбы, будь то благополучие или бедность. Более того, гражданство, будучи ключевым инструментом сохранения глобального неравенства, обладает огромной биологической властью. Оно запирает бедных там, где у них практически нет экономических рычагов, а продолжительность жизни крайне мала. Вот самый грубый пример: шансы достичь пятилетнего возраста у финских детей в 25-50 раз выше, чем у конголезских (опять же хоть из одного, хоть из другого Конго)15. Но у финнов к тому же есть свобода проживать в десятках других крайне богатых стран с очень высоким уровнем человеческого развития16, в то время как конголезцы на практике не могут улучшить свою жизнь посредством легальной миграции: их гражданство, по сути, запирает их внутри страны. Когда кто-то говорит «у нее есть своя страна, пусть убирается туда» о гражданке любой из стран мира, которые вместо прав предлагают лишь болезненные обременения, это не просто жестоко, это еще и глубоко лицемерно. Это знак бездумного согласия с мантрой суверенного равенства государств, которая предлагает нам видеть справедливость в случайности и равенство – в отчуждении. Как мы увидим на протяжении книги, преподнесение гражданства в позитивном свете практически всегда напрямую связано с ложным предположением, что все гражданства более-менее одинаковы по качеству и что все страны наделяют своих граждан более-менее полезными правами. Одна из главных целей книги – показать, что это совершенно не так и что так не было никогда.
Подобные удобные, но ложные выводы возможны благодаря политическим нарративам о самоопределении, которые игнорируют глобальное распределение экономического, политического и культурного влияния. Многие популярные теории настаивают, что политические права – единственно возможная отправная точка для обсуждения основного содержания гражданства, что подразумевает приоритет политических прав над статусом. Приятно быть идеалистом, особенно если обладаешь одним из самых элитарных статусов – а именно так обстоит дело у большинства теоретиков гражданства, в том числе всех американцев и западных европейцев, строчащих сегодня учебники. Яркое исключение – Аристотель, проживавший в Афинах в статусе метека[2]; его терпели, но всегда видели в нем чужеземца из Македонии17. Необходимо признать случайный характер своих привилегий, чтобы избежать предвзятого отношения к тем, кому посчастливилось меньше и для кого все разговоры о политических правах представляются чем-то раздражающе несущественным либо совершенным притворством – особенно когда такие разговоры оправдывают ограничение доступа к более качественному
гражданству. К этой проблеме мы обратимся в главе о политических аспектах гражданства. Как мы увидим, в современном мире, как, впрочем, и пятьдесят или сто пятьдесят лет назад, признание политических прав священными – это одна из несущих конструкций в здании лицемерия, благодаря которым произвольно назначенный статус гражданина столь привлекателен и столь эффективен. Отнюдь не все страны мира, предоставляющие гражданство, – демократии. Индекс демократии, составленный The Economist Intelligence Unit, утверждает, что только 4,5% населения мира живет в условиях «полноценной демократии». В 91 стране политический режим – «гибридный» или «авторитарный»18. Мир в целом становится менее демократическим19. Более того, с современной точки зрения, ни одна страна мира не была настоящей демократией в золотой век националистического гражданства, когда главным нарративом гражданства, впрочем как и сегодня, была идея политической эмансипации. Разумеется, при такой деконтек-стуализации демократии нужно быть очень осторожным. Даниэле Аркибуджи прекрасно об этом говорит: «[В Швейцарии] право голоса было предоставлено женщинам (т. е. большинству населения) только в 1971 году, гораздо позже, чем, например, в Индии. Однако было бы неверным сделать вывод о том, что Швейцария не была демократической системой до 1971-го или что Индия в 1952 году была более демократичной, чем Швейцария»20.
Но это не меняет главного тезиса: гражданство как в теории, так и на практике – это, конечно же, нечто большее, чем воспроизводство идеи демократического самоуправления. Возникает вопрос: действительно ли гражданство опирается на демократическое устройство? И если демократия отступает, последует ли за ней гражданство? Как покажет эта книга, разумно заключить, что классическая привязка гражданства к демократии мало влияет на его реальное функционирование в современном мире за пределами крохотной элитарной группы западных стран. Чрезмерная сосредоточенность на участии в политической жизни при анализе гражданства делает невидимыми практически все основные аспекты гражданства как правового статуса, фиксирующего связь человека с государством или государственным образованием, а также важнейшие права, вытекающие из этого статуса, в особенности права на проживание и работу, которые мы обсудим в третьей главе.
Аристотель прекрасно понимал эту проблему: в его время гражданство существовало и в недемократических обществах, как и теперь – от Катара до Венесуэлы и Центральноафриканской Республики21. Легалистическая концепция гражданства, происходящая из римского права, рассматривает правовой статус вне связи с системой правления в государстве, присваивающем статус гражданства. Такой анализ представлен в работах Майкла Оукшотта и Кристиана Йоппке, и он помогает разрешить эту загадку, признавая при этом гражданство большинства государств мира, где демократии нет22. Действительно, и теория, и практика гражданства указывают на тот простой факт, что фетишизация одной конкретной группы прав затуманивает анализ гражданства. Мы вернемся к этому обсуждению в пятой главе.
Те, кто обращает внимание на свое гражданство, в состоянии разглядеть нечто большее, чем мантры «суверенного равенства», «политического участия» и «самоуправления». Ключевые права граждан включают возможность жить в своей стране без риска депортации, свободу от постоянного унижения и дискриминации, а также, что особенно важно, право на работу в этой стране.
Эти права имеются во всех странах, где существует гражданство – от греческой демократии до венесуэльской, – и, конечно, они не должны быть эксклюзивными, то бишь предоставляться только гражданам и только в «их» стране. Тот факт, что Греция без вопросов позволяет швейцарцам работать на своей территории23, дает греческую надбавку к и без того превосходному качеству швейцарского гражданства, но не обязательно бросает тень на ценность греческого. Еще раз: хотя политические права важны, без них можно обойтись, если говорить о гражданстве на практике, – над этой проблемой бился еще Аристотель, как упоминалось выше. Спарта, путинская Россия, Катар, Королевство обеих Сицилий и викторианская Англия одинаково антидемократичны в том плане, что в них большинство населения лишено возможности управлять страной. Тем не менее во всех этих государствах, бесспорно, существует (или существовало) свое собственное гражданство.
Популярная практика выдвижения политических прав на первый план не только выступает основой для неуклюжих попыток дать определение гражданству, но и служит некоторым другим целям. Причины этого довольно ярко объяснил еще после Второй мировой войны Т. Х. Маршалл, один из самых известных мыслителей в этой области24.
Гражданство обеспечивает управляемость через суление достоинства, в равной мере обещанного обладателям такого статуса. В мире, где гражданство – это абстракция, а равенство – ее ключевой результат, люди всё же сильно отличаются с точки зрения личного благосостояния, ума и способности преуспеть. Принцип «один человек – один голос» становится главным доводом, лежащим в основе мобилизации народных масс в поддержку статус-кво, предложенного правящими элитами. Нечто вроде этого Николай II надеялся достичь в 1905 году, а именно провозгласить политические права и тем самым остановить зарождающуюся революцию. Иногда это срабатывает, как Т. Х. Маршалл показал на примере Англии; иногда – нет, как это видно из российской истории25. Вымысел это или реальность (а обычно что-то между), гражданство и вытекающие из этого статуса права всегда являются частью одного целого. Поэтому в третьей главе мы проанализируем права, связанные с гражданством, особенно самые важные из них – право на проживание и работу в стране, их эволюцию и дальнейшие перспективы развития.
Равенство становится конструкцией, связывающей статус гражданина с правами гражданства. Хотя отсутствие дискриминации обычно преподносится как право, это также, несомненно, ключевой элемент статуса гражданина в его нынешнем понимании. Разумеется, общества могут нормально функционировать, даже когда неравенство выступает их основополагающим идеалом. Вспомните, например, афинскую демократию, в которой гражданством обладало лишь ничтожное меньшинство, а равноценность людей не предполагалась вовсе. За повседневный демократический процесс на деле отвечали высокопоставленные рабы, принадлежащие государству26. Современное гражданство стало возможным только благодаря аксиоматической презумпции равенства, основанной на равной ценности каждого человека. Ее можно связать с постепенной артикуляцией индивидуализма в христианской сотериологии – процессом, который убедительно проанализировал Ларри Зидентоп27. Обещание именно индивидуального спасения перевернуло классическое представление о справедливости как о четком распределении свободы между неравными в мире, неравном «по своей природе». Таким образом, равенство, каким бы проблематичным оно ни было с эмпирической точки зрения, стало исходным посылом и мощным нормативным инструментом современного теоретизирования, заложившего основу того, что сегодня означает гражданство – статус, основанный на аксиоматической равноценности всех его обладателей.
Современное гражданство усиливает и подкрепляет индивидуализм. Провозглашение равенства всех граждан по закону, таким образом, естественная конструкция, позволяющая поставить в один ряд статус гражданства и связанные с ним права. Идеологическим основанием гражданства служит равная ценность каждого индивида, обладающего этим статусом, а не семьи или группы людей. Конечно, ни для кого не секрет, что де-факто неравное гражданство или «полугражданство» не просто возможно, но на практике всегда является нормой. Это убедительно показала Элизабет Коэн28. Тем не менее с чисто нормативной точки зрения гражданство неравноправных по закону логически абсолютно невозможно в качестве отправной точки.
Важно понимать, что равенство, о котором мы говорим, это не очевидный, в каком-либо смысле естественный либо нейтральный отправной пункт. Это лишь изначальная нормативная позиция, которая делает гражданство возможным. Сэр Исайя Берлин был прав, когда напоминал, что «равенство – это одна ценность из многих: степень, в которой оно совместимо с другими целями, зависит от конкретной ситуации и не может быть выведена из общих законов какого бы то ни было рода; оно не более и не менее рационально, чем любой другой верховный принцип; даже трудно понять, что имеется в виду, когда его рассматривают как рациональное или нерациональное»29.
Идея равенства, хоть первоначально дарованного, согласно апостолу Павлу, тем, кто уверовал, была перенесена на сообщество тех, кто подчинялся суверену – сначала Макиавеллеву государю, а потом «народу» после нормативного наделения последнего суверенитетом. Таким образом, всеобщее равенство стало означать, что все, кто находится под властью одного государя, равны, и это убеждение по-прежнему было основано на религиозной догме. Обещание равенства – равного достоинства, равной ценности, столь важное для организации любого общества и затрагивающее не только наше гражданство, но и основы морали, эмпирически отсутствует в мире, где существует более одного суверена (читай: государства, народа). Более того, в таком мире оно может быть попросту беспочвенным, если верить Луису Поджману: «Вопрос в том, могут ли демократические идеалы, которым привержены эгалитаристы, обходиться без опоры на религиозную традицию. Если нет, то эгалитаристы, возможно, подпитывают свои рассуждения чем-то позаимствованным из религиозной метафизики, которая (в их глазах) обанкротилась»30.
Беспочвенное не значит бесполезное: равенство – это важнейший нормативный выбор, который мы делаем. Свободен эгалитаризм от религии или нет, он прекрасно живет и воспроизводится в учебниках и основополагающих документах, на которые опирается каждое государство без исключения. Равенство – один из ключевых инструментов легитимации власти в любой демократии. Гражданство, с одной стороны, риторически усиливает эгалитаризм, принимая его в качестве отправной точки, а с другой стороны, делает его недостижимым на практике, ибо равенство существует лишь в определенных границах – среди граждан. Поскольку конфигурация этих границ никогда не бывает нейтральной (как не нейтрально и распределение конкретных прав), гражданство приходится очень кстати, когда нужно оправдать исключения и нормализовать дискриминацию не только между обществами, но и внутри них. Как раз по этой причине притязания любого гражданства на равенство неубедительны: пытаясь локализовать универсальный идеал равенства, гражданство неизбежно подрывает его.
2
Метеки (от греч. Mstoikoi, букв. «переселенец», «чужеземец») – в Древней Греции иностранцы, поселявшиеся в Аттике на продолжительное время или навсегда. Будучи лично свободными, метеки не имели политических прав, не могли вступать в брак с гражданами и, как правило, не могли владеть недвижимой собственностью. – Прим. перев.