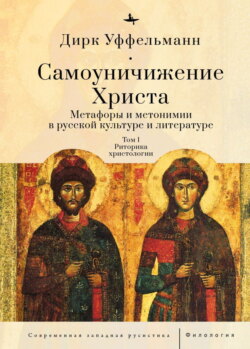Читать книгу Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 1. Риторика христологии - Dirk Uffelmann - Страница 8
1. Введение: Самоуничижение Христа и его трансформации
1.1. От Николая II назад к Борису и Глебу
1.1.6. Модификация тезиса Федотова
ОглавлениеЭто исследование ставит перед собой цель пойти по стопам Федотова и проверить, в какой мере мог быть состоятельным этот его тезис о постоянном присутствии в истории русской культуры примера уничижения, приписываемого Христу Павлом (Флп 2:7). Неужели можно посредством некоего «первоначального эпизода», каковым был кенозис, действительно охватить столь разительно различающиеся явления, существовавшие в абсолютно разных контекстах?
Ясно, что обилие потенциально подходящего материала и отразившиеся в нем перемены не позволяют осуществить строгую селекцию и тем более – классификацию по признаку подлинности, здесь уместно разве что выявление исторического движения от концепции кенозиса Христа к все новым и новым, не похожим на предыдущие граням позитивного самоуничижения. Если Федотов предлагает панхронистскую стабильность, то здесь именно перемена в рамках частичной преемственности должна оказаться в центре внимания. Провокация, исходящая для православной историографии от несхожих дополнений, ср. [Slenczka 1980: 500], обладает для культурологии и литературоведения даже привлекательностью. Попытка нащупать нить обретения различий (нем. Unahnlich-Werden) и является главной задачей этого исследования.
С учетом этой поправки мы на самом деле отстаиваем здесь тезис Федотова: начиная с Бориса и Глеба и вплоть до Николая II, в истории русской культуры на протяжении тысячи с лишним лет возникали все новые феномены по одной и той же модели, цитирующей черты уничижения Христа[29], – ив любом случае они не представляли собой некоей последовательности от начала и до конца, а появлялись волнообразно. Не пострадав от этого, традиция, описанная Федотовым, сохранила свою продуктивность до наших дней. Например, митрополит Ювеналий, в непосредственной связи с восприятием членов царской семьи как «страстотерпцев», развивает свою мысль: «В истории Русской Церкви такими страстотерпцами были святые благоверные князья Борис и Глеб…» [Ювеналий 2000][30], – закономерность, которая в контексте канонизации Николая становится топосом (см., напр., [Johannes 1998:2]) и практически не встречает сопротивления[31].
Впрочем, что касается этой традиции, то речь здесь идет в большей степени о традиции нормативной модели, чем о практической традиции. Если в истории русской культуры можно констатировать непрерывное сохранение наставления о подражании Христу, то тогда это неизбежно влечет за собой в качестве обратного вывода, что то, о чем говорилось в наставлении, как раз-таки и не являлось всеобщей практикой (см. 4.0.2). Христианизация восточных славян длилась столетиями (см. 4.1.4), а самой широкой повесткой общества, призывающей подражать Христу, она обернулась только примерно лет через девятьсот, на рубеже XIX и XX веков, то есть в то время, когда произошла социализация Федотова (и для которого секулярное противодействие христианству было уже очень сильно), и тем самым его тезис 1946 года сам по себе является частью особого исторического контекста[32].
Кенотической модели самой по себе, ее тысячелетней истории, и в особенности ее крайне разнородным воплощениям в различных сферах – от христологического догмата до церковной практики[33], от габитусных моделей и концепций литературных персонажей, включая также иконографические образцы[34], и вплоть до риторик и поэтик[35], начиная с речей о кенозисе в узком христологическом смысле до метафорически широких – всему перечисленному посвящена эта работа. Связь двух ветвей – христологически суженной и более широкой, практической (в которую вливаются внехристианские источники, например славянский фольклор) с терминологической точки зрения осуществляется следующим образом.
29
Противоположный (имплицитный) тезис Лосского [Лосский 1989: 8-199], Майендорфа [Meyendorff 1981], Флогауса [Flogaus 1999] и Мацейны [Мацей – на 2002], согласно которому связь с Христом в православии и конкретно в России осуществлялась прежде всего «мистически», в глубине души (с упором на оббжение: [Лосский 1989:11]), в то время как «подражание» не играло практически никакой роли (ср. 4.4.1.3), а представляло собой западно-внешнюю концепцию, – все это опровергается исходя из культурологического взгляда на зафиксированные и подтвержденные знаки и практики принадлежности к Христу (см. 4.4.1.2).
30
Определенно, не случайно после 2000 года Борис и Глеб вновь оказываются в фокусе научных публикаций [Милютенко 2006]; [Бугославский 2007].
31
Впрочем, Поспеловский в 1997 году провозглашает аргумент относительно терпения, а также генеалогию Бориса и Глеба несостоятельными: «Никакого смысла не имеет тот аргумент, что Николая II можно канонизировать как “страстотерпца”, мол, в конечном счете ведь и ранее канонизировали тех лиц, которые вели жизнь какую угодно, но только не богоугодную и “которые в строгом смысле слова не были мучениками за Христа”. В качестве примера приводят среди прочих князя Андрея Боголюбского (XII век), который по жестокости и кровожадности сопоставим лишь с Иваном Грозным. Андрей Боголюбский был кем угодно, только не святым – и тем не менее был канонизирован: это произошло в 1702 году по распоряжению Петра I и было тогда чисто политическим решением, которому нет необходимости сегодня обязательно подражать. Вместо того чтобы продолжать бесчестную традицию политически мотивированных канонизаций… надо бы наконец-то подвергнуть экспертизе факты канонизации прошлого и решить, какие из них на сегодня по-прежнему можно оправдать – стоит только вспомнить хотя бы так называемых Святых Воинов» [Pospielovsky 1997: 29]. Однако Бориса и Глеба – хотя здесь отсутствуют некоторые надежные даты – нельзя ассоциировать с этой негативной традицией: «Личная жизнь и деятельность князей Бориса и Глеба были святыми и безупречными, чего нельзя сказать о последнем правителе» [Osipov 1999: 20].
32
По поводу историко-социальной подоплеки тезиса Федотова в контексте эмиграции см. 5.4.4.3.
33
Тезис Флогауса [Flogaus 1999: 307] о том, что все православие «триадоцентрично» и в большей мере, чем другие конфессии, подчеркивает божественность Христа, уже в узких стенах истории догматики верен лишь в относительной степени (см. 4.4.1.2), но в примыкающих к ней культурных практиках не применим вовсе. Если взглянуть на догматику саму по себе, то может возникнуть соблазн счесть кенотику каким-то специфическим (немецким, английским или русским) явлением XIX века. Это противоречило бы гипотезе Федотова; конечно, при сосредоточении внимания на христологии преемственность со времен патристики в XIX веке любят оспаривать. А в предлагаемой работе, напротив, выдвигается тезис о том, что догматические реимпорты XIX века в русской религиозной философии (см. 1.4.2) образуют не более чем один кирпичик в волнообразном процессе истории призывов к христоподражанию, который происходил по большей части вовне догматического дискурса (см. 4).
34
В качестве примера можно взять сюжет о Борисе и Глебе [Onasch/Schnieper 2001: 198].
35
О продолжившейся конъюнктуре присоединения Бориса и Глеба свидетельствуют, например, более поздние тексты, такие как [Буйда 1997], [Чулаки 2004].