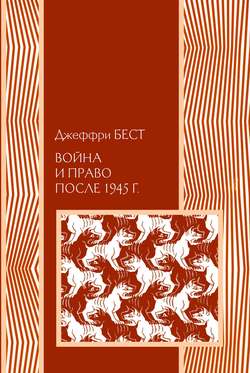Читать книгу Война и право после 1945 г. - Джеффри Бест - Страница 10
Часть I
Происхождение законов войны
Глава 2
Законы войны от раннего Нового времени до второй Мировой войны
Очерк оснований
ОглавлениеНикто не знает, как начались войны между людьми, однако есть доказательства того, что они велись уже в самый ранний период истории человечества; эти доказательства существуют не только в виде оружия, предназначенного для сражений, и человеческих останков, поврежденных этим оружием, – сами по себе они не свидетельствуют о таком серьезном явлении, как война, – но имеются и данные, позволяющие сделать вывод о существовании борьбы между организованными группами ради их групповых целей. Защита или захват территории и/или собственности – вот наиболее вероятная цель войн, но нетрудно предположить, что мотивами могут быть также уязвленная гордость и честь, нехватка женщин и прочего жизненно необходимого племенного материала или же попросту удовлетворение страстей, алчности и мании величия деспотических правителей.
Известно, что на протяжении своей истории государства участвовали в боевых действиях с применением оружия для достижения таких примитивных целей, однако этим занимались не только государства, но и, гораздо чаще, группировки бандитов, разбойников, грабителей и преступников, которые также вполне были способны воевать за лошадей, женщин и территорию. Различия между государствами и другими сообществами, между войнами государств и другими формами вооруженных конфликтов имеют важнейшее значение во многих отношениях, и критически настроенный читатель может быть уверен, что эти различия будут должным образом соблюдены, когда этого потребует контекст. Но в одном отношении различие несущественно: все сообщества, независимо от их политического характера, от того, есть ли у них вообще политический характер, вырабатывают свой собственный кодекс поведения в конфликте. То, что на одних уровнях называется рыцарским кодексом благородства, взаимным уважением между джентльменами или честной игрой спортсменов, на других уровнях будет воровским кодексом чести и законом кровной мести. Те своды правил, которые стали общественной моралью и законами государства (отсюда, исходя из этого, в конечном итоге и публичным правом межгосударственных отношений), получают наибольшее практическое значение в историческом и политическом отношении, но их действие невозможно должным образом понять, если не учитывать широкую разветвленность их социальных и психологических корней.
С самого раннего времени, о котором имеются устные и письменные свидетельства, сохранились доказательства того, что те, кто планировал и вел публичные войны, могли восхвалять и одобрять общественные практики, предназначенные для того, чтобы контролировать ведение войны и смягчать ее отвратительные последствия. Правители могли демонстрировать гуманные склонности, и им нравилось, когда другие видели эту демонстрацию. Или же при формулировании целей готовящейся войны они находили для себя выгодным не стремиться к более разрушительным действиям, чем это было необходимо. Священники и прорицатели (даже если не учитывать того, что они принимали определенное участие в формировании мышления правителей) могли резко осуждать уж слишком очевидную бойню или защищать «невинных». Касты воинов насаждали у себя кодексы поведения, которые определяли методы проведения сражений, и эти методы были отчасти направлены на то, чтобы сберегать жизнь – во всяком случае, жизнь таких же воинов. Создатели войск стремились ограничивать потери среди солдат, обучение которых было связано с большими затратами и которым было бы трудно найти замену. Полководцы без труда признавали здравый смысл в том, чтобы не разорять земли, на которых рано или поздно их же армиям придется искать пропитание. И так далее. Склонность к ограничениям и запретам на поведение во время войны можно разглядеть в достаточном количестве ранних цивилизаций и/или культур, созданных родом человеческим, чтобы историк мог рассматривать эту склонность как по сути дела нормальное устремление, практически столь же древнее, как и сама война. И в этом смысле есть основания считать, что попытки нашего поколения развивать эту склонность в конце двадцатого века имеют под собой некую историческую основу.
Все это так. Но за этими попытками стоят также исторические факты многочисленных разочарований в этих устремлениях и провалов подобных же попыток, которые во многих отношениях были ошибочными и иллюзорными. Есть соблазн слишком переоценить их, особенно характерный для тех, кто хочет убедить нас, что неудачи в ограничении конфликтов в наши дни выглядят позорными провалами на фоне прежних успехов. Неудач в прежние времена было не меньше, чем теперь, и по сходным причинам. То поведение, которое правители или жрецы предписывали как наилучшее, имело мало отношения к тому, что армия делала в наихудших ситуациях; а именно в такие ситуации, разумеется, и попадали армии благодаря естественным для войны опасностям и невзгодам, а также зачастую бездарной работе тех, кто планировал военные кампании. Практику применения всех этих похвальных гуманных предписаний в любом случае необходимо подвергнуть критической оценке. В каждом случае нам следует выяснять, какого рода и какого уровня война имелась в виду, когда были выпущены эти предписания. Предписанные и даже принудительно введенные ограничения касались только культурно близкого противника, достойного уважения, но они не имели никакого отношения к тому, что можно было бы ожидать при конфликте с теми, кто воспринимался как варвары, дикари, неверные, недочеловеки и пр.
Кроме того, нельзя не принимать в расчет обстоятельства. Высокие стандарты гуманности и самоограничения соблюдались, когда военная кампания проходила честно и легко, но они рушились, как только дела начинали идти плохо, даже если враг считался достойным уважения. Что касается религии, то призывы к гуманности в военное время, провозглашаемые любой значительной религией, не должны восприниматься как точное описание реальности. Если отставить в сторону то, что в прошлом войны часто велись по религиозным причинам, и то, что войны, рассматриваемые как походы против неверных или священные войны, всегда оказывались в числе наиболее жестоких, нельзя отрицать, что всякая распространенная религия может подобрать тексты, направленные на то, чтобы контролировать действия своих последователей во время войны. Было бы слишком безапелляционным усомниться в той серьезности, с которой эти верующие желали бы вести себя таким образом. Но только представьте себе, из скольких источников выливается в военное время поток нечистот на чистые религиозные идеалы! Помимо обычной запутанной системы конкурирующих или параллельных групповых лояльностей (племенных, расовых, национальных, культурных и т. д.), которую духовные лидеры зачастую распознают или признают с большой неохотой, в вооруженных силах, в особенности в воюющей армии, существуют еще и другие факторы – постоянно присутствующее и сильное давление со стороны боевых товарищей, патриотизм, озверение, трудности и невзгоды, соблазны, страх и исступление. Давно известно, что молот войны самых лучших людей побуждает вести себя наихудшим образом.
Эти предостерегающие замечания по поводу условий соблюдения законов войны как в древности, так и в наши дни не следует понимать в циничном или деструктивном духе. Они просто задают реалистический контекст для моего исследования, относящегося к недавнему прошлому и к современной стадии. Как бы то ни было, очевидно, что исторические факты, свидетельствующие о древности, повсеместности и постоянстве предложений по наложению ограничений на ведение войны, доказывают непреходящую привлекательность (по крайней мере для некоторых частей большинства известных нам обществ) идеи о том, что война, коль скоро с ней нельзя покончить или без нее нельзя обойтись, должна подчиняться этическому и юридическому контролю. В принципе эта идея, применимая равным образом и к конфликтам в рамках государств, и к конфликтам между государствами, естественным образом отражалась в примитивных кодексах отношений между государствами, существовавшими на территории наиболее развитых ранних цивилизаций: в Индии, например, а также в том регионе, который мы теперь называем Индонезией, на Ближнем Востоке, в Греции и Риме, а также в мусульманских странах. Тот все более сложный и детально проработанный кодекс, который эволюционировал в Западной Европе начиная с XV в. pari passu[6] с ее торговой, морской и военной экспансией, основан не на чем другом, как на средиземноморских и европейских источниках. Однако относительная легкость, с которой эта выработанная на региональном уровне модель стала универсальной и превратилась в публичное международное право сегодняшнего мира, объясняется в основном тем, что идеи, заложенные в этот кодекс, не были чужды другим регионам, а также тем, что некоторые из этих регионов уже обладали опытом чего-то подобного[7].
В 1980 г. я опубликовал книгу под названием «Человечество на войне», посвященную общей современной истории той отрасли публичного международного права, которая регулирует именно вопросы войны. Книга была хорошо принята, но, если бы мне пришлось начать сначала, я написал бы ее по-другому. В данной книге – являющейся до определенной степени продолжением предыдущей – я пользуюсь возможностью en passant[8] исправить то, что сейчас воспринимаю как ее недостатки. О некоторых из них писали критики, о других – нет, и не всякая критика была обоснованной. Один популярный писатель-историк, обладая столь ярко выраженным холерическим темпераментом, что, очевидно, не в состоянии был одолеть главы, следующие после первой, (или, пропустив первую, читать дальше), высказал претензии по поводу того, что я начал свой рассказ только с XVIII в. Причина, по которой я так поступил, кажется мне достаточно веской. Рыцарство, честь, дисциплина и самоограничение с незапамятных времен были достаточно распространенными понятиями среди тех, кто размышлял о войне, а древний мир всегда оставался главным источником похвальных примеров, которые все публицисты так любят приводить. Но только в период набравшего силу Просвещения что-то похожее на наше современное международное право войны обрело полноценную форму, получило у философов и публицистов соответствующее литературное отражение и стало присутствовать в общих рассуждениях правящих элит всей системы европейских государств.
Более справедливо меня упрекали в евроцентричности. Книга действительно такова в большей степени, чем я считаю обоснованным сегодня. Невозможно обойти тот факт, что основная часть права, уже сформировавшегося ко времени Второй мировой войны, была целиком европейской или (что в данном случае с культурной точки зрения во многом одно и то же) американской. Но когда речь зашла о том, как это право применялось, я слишком сильно сосредоточился на войнах, которые вели между собой европейцы и североамериканцы, и почти не уделил внимание войнам, сопровождавшим имперскую и колониальную экспансию этих стран. Возможно также, что я был неправ, не уделив внимания войнам в Африке и Азии, которые велись без участия европейцев. Этот недостаток, в той степени, в какой он являлся таковым, исправлен в данной книге. Практически все вооруженные конфликты, освещенные во второй части, происходили в «менее развитых» частях мира. Международное право войны, противоречивый опыт применения которого в этих регионах стал целью этой книги, больше не является исключительно европейским и американским продуктом, и это делает данное исследование подлинно международным по своему характеру в соответствии с международным характером его объекта.
Более достойна сожаления, хотя и вполне объяснима скудость освещения в той книге периода после 1945 г. Будучи в то время преподавателем истории, а не международных отношений, я тогда еще не слишком интересовался современным периодом. Трем мировым войнам (считая первой войну 1792–1815 гг., каковой она и являлась) я уделил такое внимание, в котором отказывал мировым конфликтам нашего времени и сопровождающим их исключительным политическим обстоятельствам. Подобно большинству авторов того времени, я не замечал растущей важности нового международного права в сфере прав человека и чрезмерно полагался на благоприятные перспективы Дополнительных протоколов 1977 г. Если я в чем-то сомневался, то, можно так выразиться, предпочитал хранить верность женевской версии этого сюжета, вместо того чтобы остановиться и подумать, а не могло ли там быть чего-то еще, о чем можно сказать. Будучи неоправданно оптимистичным в отношении одних деталей современной картины и излишне пессимистичным в отношении других, во время написания книги я только начал ощущать то, что впоследствии отчетливо осознал, а именно что я стал терять чувство перспективы и направления, которыми руководствовался при написании начальных глав. То, что я написал в них, полностью выдержало испытание временем. Тем не менее я изменил свое мнение по некоторым вопросам, таким как роль Руссо в развитии этого сюжета или значение Петербургской декларации, и, полагаю, могу теперь лучше распознавать наиболее значимые события и явления. Таким образом, часть книги, которую читатель держит в руках, до определенной степени представляет собой, с одной стороны, пересмотр, а с другой стороны, квинтэссенцию того, что я написал четырнадцать лет назад.
6
Наравне и одновременно (лат.). – Ред.
7
Эта обширная тема, по непонятной причине долгое время не замечаемая авторами, пишущими о международных отношениях, наконец была поднята Хедли Буллом и Адамом Уотсоном в работе: Hedley Bull and Adam Watson (eds.), The Expansion of International Society (Oxford, 1984 г.). Мне хотелось бы думать, что моя книга добавляет к этой теме недостающую грань.
8
Мимоходом (фр.). – Ред.