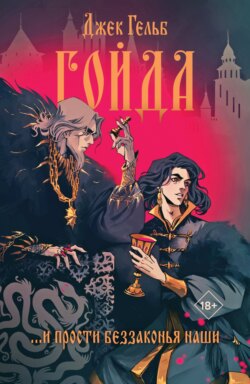Читать книгу Гойда - Джек Гельб - Страница 21
Часть 2
Глава 14
ОглавлениеРезкий крик лошади вторил хлёсткому удару кнута. Животное встало на дыбы и лягнуло воздух пред собою, прежде чем пуститься вскачь. Всадник же, князь Вяземский, гнал её, предавшись ликованию. К седлу была намотана верёвка. За несколько мгновений небрежный моток натянулся до предела, и вслед за Вяземским по земле поволочилось тело человека, на несчастную голову коего сыскался донос. Лицо преступника сокрыли грубой мешковиной, руки скрутили за спиной.
Покуда провинившегося волокли по собственному двору, из дверей вновь и вновь появлялись фигуры опричников. С драконьей алчностью они несли едва ли подъёмную ношу, вынося из дома драгоценности. Первым смели, что немудрено, драгоценности супруги. Грузили злато да шелка на коней своих, украдкою оглядываясь – не заграбастал ли кто иной боле твоей добычи?
Богатства московских усадеб поражали царских слуг – не было числа тем тканям, камням да самоцветам, не было числа забитым сундукам. Быстро послетали замки, а иные грузили и вовсе с ними – всяко во Кремле сподручнее разбираться будет. Выгребли подчистую усадьбу, покуда утренняя звезда ещё не взошла на чёрном небосводе. Иной раз, как опричники выискивали домашних, что притаились в печи ли, за сундуками али в погребах, поднимался страшный крик, точно вовсе и не человек вопил. С мужами государевы слуги, бывало, расправлялись прямо на месте – единым ударом лихой шашки могли снести голову али разрубить тело надвое. Девиц же волокли с собой али глумливо потешались да предавались страсти прямо в доме.
Вопль мешался с криком воронов, которые уж чуяли падаль – тела распластались на мягкой от талого снега земле. Рты да очи были развернуты до прежуткого толка. Едва голодное вороньё слетало за добычей с высоких деревьев, тотчас же мимо проносился опричник, взывая к братии с кличем своим:
– Гойда!
– Гойда!
– Гойда! Словом и делом!
С тем и вышли из терема опричники, ведая, что последует за тем возгласом. Волоча свою добычу, едва ли видели грозные воеводы, куда ступали. Иной раз оступались али спотыкались о разрубленные тела, пачкая сапоги да подолы одеяний в крови, которую никак не брала в себя сырая земля.
Раздавалось ликование, и крику тому вторило пламя факелов. Опричники уж обнесли промасленным хворостом терем. Вздымая факел над главой, Малюта Скуратов, в присущей лишь ему одному лютой свирепости, обрушил пламя в связки древесных прутьев да сухих листьев. Великое и бесноватое оживленье охватило братию, точно с тем домом воспламенились их собственные души. Огонь подступался к терему, пробираясь в самое его сердце, карабкаясь по резным узорам ставен.
Уже миновали лютые морозы, но даже в суровую стужу ни льды, ни толщи снега не были помехою для пламени опричного. В ту ночь терем всполохнул красным петухом да знатно возгорелся. Тот жар занял собою весь небосвод, точно уж делалась заря.
– Живее, пеньтюхаи! – прикрикивал Алексей Басманов. – До ночи тут валандаться надумали, черти? Васька, лошье божедурье, накидался уже?! Димка! Подь сюды, грузи его, аки свинью, едва держится на ногах!
Всё исполнилось, как наказал Басман-отец. Принялись опричники с большею небрежностью, нежели ране, закидывать вещи да живой товар на лошадей своих али на повозки. Учинилась суматоха, в коей не разобрать было ни украшательств ценных, ни людей, ни скот – все в кучу да вповалку, да по коням, по коням.
Фёдор стоял по правую руку от отца, хоть не подавал он гласа, да следил за выполнением приказов батюшки своего.
Резкое да пронзительное лошадиное ржание раздалось в отдалении гулким эхом. То Афанасий проволакивал виновного по дороге.
Басмановы не обернулись. Вместо того глядели на боле любое зрелище. Было нечто в том необъятном пламени жуткое, да от чего взгляда не отвести. Комнаты одна за другой отдавались на съедение огню, но то лишь усиливало голод красного петуха. Со страшным треском обрушилась стена где-то внутри терема. Изнутри сломленный, дом покосился, точно пожирая сам себя. Столп красных искр высекся с того удара и взмыл в чёрное небо.
– От молва-то, – задумчиво произнёс Алексей, – в кои-то веки и правду скажет: Москва красна. Любо глядеть!
Фёдор усмехнулся речи отца, да не знал, что молвить в ответ. Так и стоял он заворожённый пламенем, что изничтожает всё.
– А на кой чёрт, ты, Феденька, с Афонькою-то цапаться принялся? – спросил Алексей, выглядывая за плечо своё на покосившиеся ворота, через которые уж перекинули петли для хозяев усадьбы.
За воротами князь Вяземский было усмирил кобылу свою да пошёл проведать, жив ли виновный. Фёдор даже не посмотрел на ворота, пожимая плечами.
– Не ищу я ссоры ни с кем из братии, – просто ответил юноша. – Ежели Афонька и пуще прежнего будет злобой исходить, аки змий ядом, того гляди – и захлебнётся ненароком. То-то горе будет!
– Федька! – пригрозил отец.
Молодой опричник пожал плечами да присвистнул, подзывая резвую Данку свою. Проворная да быстроногая, не боялась она ни огня, ни гульного ликования, что раздалось во дворе усадьбы, едва повесили семью – двух братьев, сына старшего да престарелого родителя. Младших же детей сгрузили со скотом да перетянули грубою бечёвкой, дабы и не было им воли ускользнуть прочь.
* * *
Болотистые леса едва шумели, как шумит всякое место, где течёт жизнь. Изредка мелкие озёра, напоённые талой водой, подёргивались от прикосновения тонких лапок водомерок, али лягушка сокрылась от зоркого взора серого аиста. Мирные леса ещё покоились в ночном сумраке, в то время как в нескольких верстах по каменной брусчатке раздавался лёгкий стук копыт. Улицы Утены, старинного славного града Литовского княжества, нерасторопно оживали, готовясь встретить новый день.
Премногим оживлением преисполнился дом на конце торговой улицы. Нижний этаж точно осел в землю, окна выходили прямо на камни бульвара, поросшего от сырости мхом. Жилище было снаружи облицовано грубым камнем. Тут и там плиты исходили трещинами и полнились всё тем же мхом да лишаём. Изнутри дом уже озарился светом печей – хозяин велел не жалеть ни дров, ни угля. С раннего утра жилище облагораживалось. На второй этаж третий раз поднялась служанка и, с трудом переводя дыхание, доложила господину, что волноваться не о чем.
Верно, та речь не имела никакого смысла, ибо хозяин дома не находил себе места. Он вновь и вновь проверял, готов ли дом его к приходу дорогого гостя, а иной раз, как слышал всадника, бросался к окну, да каждый раз отходил, выругавшись на родном наречии, которое в княжестве редко кто знал. Хозяин дома был неместным, об том быстро разузнали соседи. Знали, что муж сей в бегах, в изгнании на родине своей. Ходили разные толки о чужеземце, да всяко знал он речь латинскую сносно, дабы изъясниться, а паче сего – всё время проводил в трудах учёных, постоянно преумножая знанья свои.
Так же слухи плелись, будто бы сей чужеземец пребывает в отличном свойстве с Андреем Курбским, который уже успел немало прославиться живым и пытливым умом своим. Быстро оба чужеземца прослыли латинами, да притом учёными мужами. Заслугу их высоко ценили при дворе короля Жигимона, который с превеликим удовольствием внимал речам бывших придворных самого Иоанна Васильевича.
Вымотанный собственным волнением, Юрий Горенский рухнул в кресло, устланное подушками. На утомлённом суматохой лице выступил пот. Князь вытер лицо белым платком, стараясь унять волнение, охватившее его душу. С осторожным трепетом извлёк он грамоту, хранившуюся у сердца. Осторожно расправил он послание от брата своего. Серые глаза вновь пробежались по строкам.
«Юрий, брат мой, Господь помиловал меня! Успел я домчаться до границы, резвый конь не изменил. Уж мчусь к тебе в Утену. Надо было мне с тобою отправляться. В тот день не ведал я, сколь мало времени отведено мне. Нынче чую смерть за своей спиной. Эти черти во главе с Иоанном не достигнут меня нынче.
Страшным проклятием опричнина опустилась на нашу родную землю. О страшном, об истинно страшном и богомерзком поведаю тебе, брат, да всё при встрече. Молюсь, чтобы видения этих проклятых кромешников отпустили меня.
Милосердием Господа, чай, не далёк тот час, как будем вновь вместе.
Пётр»
Юрий не спешил убирать послание. Он вновь и вновь пробегал взглядом по этим строкам и лишь после того осторожно сложил бумагу, боясь оставить хоть след на письме. Не ведал, никак не ведал князь Горенский, с каким посланием примчится гонец к дому его. Несколько мгновений Юрий стоял на пороге. Он слышал речь гонца, и речь та была родною, русской, да не мог он взять в толк слова те.
– Брат мой перебрался чрез границу. Отчего ты льёшь этот яд ртом своим поганым? – спросил князь.
Гонец сглотнул да осмотрительно отступил назад, ибо могуч был Горенский в силе да росте своём.
– Казнён, – кротко повторил гонец.
Юрий захлопнул дверь, да с такою неистовой силою, что та едва ли удержалась на кованых петлях. Ночью того же дня раздался стук в дверь. Открыл мальчик-прислужник да поднял взгляд на гостя.
– Хозяин дома? – спросил Курбский, чья фигура и стояла на пороге.
Мальчик тотчас же закивал, прикусил палец свой, сжатый в кулак. Андрей без приглашения переступил порог дома. Прислужник, несмотря на малый рост свой, непременно бы вступился за своего хозяина, не будь Курбский частым и званым гостем здесь.
– Юра! – громовым басом вопрошал Андрей, обходя комнату за комнатой.
Наконец он поднялся по дубовой скрипучей лестнице на второй этаж, где завидел во мраке коридора приоткрытую дверь, откуда лился слабый свет. Туда-то князь и устремился. Едва приоткрыл дверь, так тотчас же застыл на пороге. Хозяин дома полулежал в кресле. Взгляд его безжизненно уставился на едва дышащий жаром огонь. Под ногами у Горенского лежали пустые бутылки. Некоторые из них были поддеты трещинами, иные и вовсе раскололись. Верно, были выпущены из обессилевших рук прямо на пол.
Андрей подошёл к князю, перебарывая то оцепенение, какое охватывает нас при виде покойников, ибо князь Горенский более походил на труп. Его лицо покрывала ужасающая бледность с примесью тухло-болотных цветов. Глаза казались абсолютно полностью созданными из стекла, притом не сильно славным умельцем. Будто свет навеки покинул эти очи, и слабое отражение тлеющих углей в очаге – то и есть весь свет. Курбский тяжело вздохнул, положив руку на плечо друга своего.
– Соболезную горю твоему. Господь примет его душу в Царствие Небесное, – произнёс Андрей, надеясь, что князь ещё не утратил полностью разум свой.
Горенский едва-едва шевельнулся, затем медленно поднял голову свою, обращая пустые глаза к Курбскому.
– Отчего же? Брат мой Пётр пересёк границу… Вот, Андрюш, вот! – пробормотал Юрий, поднимая в кулаке своём скомканный клочок бумаги.
Курбский замер, не ведая, как поступить. В конце концов он поджал губы, кивнул да обернулся к коридору, откуда виднелась голова юного прислужника.
– Прибери стекло, – приказал Андрей, поднимая уцелевшие сосуды.
Боле Юрий не произнёс ни слова вразумительного, да всё твердил, мол, брат его Пётр нынче с минуты на минуту примчится, ведь в письме своём чётко писал, что опасность миновала.
Немного выдержал Курбский, точно ведал – нельзя ему покидать нынче сей дом. Он вызнал у домашних, где есть бумага да чернила. Домашние проводили Андрея в комнату своего господина, где Горенский предавался учениям. Труды в телячьей али коровьей коже продавливали под своей великой тяжестью дубовые полки. Премногие труды написаны были рукою самого Горенского, оттого и у Андрея вспыхнули печальные думы.