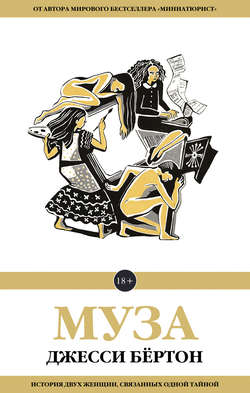Читать книгу Муза - Джесси Бёртон - Страница 2
I
Короли и капуста
Июнь 1967
Оглавление1
Не каждому достается удел, которого он заслуживает. Нередко мгновения, круто меняющие жизнь человека, – к примеру, разговор с незнакомцем на корабле, – оказываются чистым везением. И все же едва ли вам напишут письмо или обратятся с исповедью, не будь на то достойного повода. Именно этому она меня и научила: чтобы тебе повезло, надо самому быть начеку. Удачу нужно встречать во всеоружии.
Когда настал мой день, стояла такая жара, что у меня под мышками на форменной блузке образовались влажные полумесяцы. «Мне все равно, какой размер», – сказала какая-то женщина, промокая лоб носовым платком. У меня ломило плечи, а кончики пальцев зудели. Я посмотрела на покупательницу в упор: пот окрасил ее блеклую челку в цвет мокрой мыши. Лондонская жара, никуда от нее не деться. Тогда я еще не знала, что эта женщина окажется последней покупательницей в моей жизни.
– Простите – что?
– Я говорю, – со вздохом повторила женщина, – мне любой размер.
Дело шло к закрытию магазина, а значит, нужно было тщательно пропылесосить ковер, избавив его от остатков сухой кожи – мы называли их «пяточным повидлом». Моя подруга Синт уверяла, что из этих обрезков получилась бы целая нога: чудище, способное отплясывать собственную джигу. Синт нравилось работать в обувном магазине «Дольчиз», и она помогла мне туда устроиться, но примерно за час до конца смены я начинала тосковать по прохладе моей комнаты, по дешевым записным книжкам, по карандашу, ожидавшему меня возле узкой кровати.
– Эй, выше нос, подруга, – шептала в таких случаях Синт. – Ты что, работаешь в похоронном бюро за углом?
Я ретировалась к шкафу с товаром, где частенько пряталась, выработав иммунитет к отравляющему запаху резиновых подошв. Казалось, я могла бы залезть внутрь и огласить пирамиду из обувных коробок безмолвным воплем.
– Стойте! Эй, стойте! – крикнула мне вслед покупательница.
Убедившись, что привлекла мое внимание, она низко наклонилась и стащила с себя поношенную туфлю на каблуке, чтобы показать ногу, на которой не было пальцев. Вообще ни одного. Гладкий обрубок, чурбан из плоти, невинно покоящийся на потертом ковре.
– Видите, – сказала женщина. Ее голос зазвучал тише, когда она сбросила вторую туфлю, демонстрируя, что и вторую ногу постигла такая же участь. – Я просто… натолкаю бумаги в носки туфель, так что несите любой размер, мне все равно.
Эта картина крепко засела у меня в памяти: англичанка, показавшая мне совершенно беспалые ноги. В то мгновение я, наверное, испытала отвращение. Говорят, молодежь не хочет иметь дела с уродством и еще не научилась маскировать свой шок, сталкиваясь с ним. В сущности, я была не так уж молода – мне исполнилось двадцать шесть. Не знаю, что я сделала в ту самую минуту, но помню, как рассказывала об этом происшествии Синт по дороге в нашу квартиру, которую мы вместе снимали в Клэпхем-Коммон[1], и помню восторженно-испуганные возгласы подруги при мысли об этих беспалых ногах.
– Страшила Макги[2] с обрубками! – вскрикивала Синт. – Дай только срок, Делли, она до тебя доберется! – А потом добавляла с оптимистичным прагматизмом: – Зато ей впору любые туфли, какие захочет.
Возможно, та англичанка была ведьмой, ставшей провозвестницей крутого поворота на моем жизненном пути. Хотя вряд ли – эта роль принадлежит другой женщине. Однако появление той покупательницы и впрямь стало зловещим завершением предыдущей главы моей жизни. Может, она увидела во мне родственную душу, такую же незащищенную, как и она сама? Что, если мы обе находились в таком пространстве, где нам только и оставалось, что заполнять пустоты бумагой? Не знаю. Есть, конечно, небольшая вероятность, что та женщина попросту хотела новую пару обуви. И все-таки я всегда думаю о ней как о сказочном персонаже, поскольку именно в тот день все изменилось.
За пять лет, что прошли с тех пор, как я приплыла в Англию из Порт-оф-Спейн, я разослала множество заявок на трудоустройство, но мне ни разу не ответили. Когда поезд из Саутгемптона с пыхтением прибывал на вокзал Ватерлоо, Синт приняла здания с печными трубами за фабрики, манившие обещанием рабочих мест. Но никто не спешил выполнять это обещание. Часто фантазируя о том, как уйду из «Дольчиз», я однажды попыталась устроиться в крупную газету – кем угодно, готова была разносить сотрудникам чай. У себя на родине, с моими образованием и самооценкой, мне бы и в голову не пришло кому-то прислуживать, но Синт сказала как отрезала: «С этой работой справилась бы и одноглазая, глухая и хромая лягушка, но тебя, Оделль, они все равно сочли непригодной».
Синт, с которой мы вместе учились, а потом приехали в Англию, оказалась в плену у двух вещей: туфель и жениха Сэмюэла – с ним она познакомилась в нашей местной церкви неподалеку от Клэпхем-Хай-стрит. (Встретить Сэма и вправду стало большой удачей, ведь церковь, как правило, была набита пожилыми тетушками, без умолку трещавшими о «старых добрых деньках».) Поскольку у Синт появился Сэм, ей, в отличие от меня, уже не приходилось бить копытом от нетерпения, из-за чего в наших отношениях появилась натянутость. Я то и дело заявляла, что устала ждать, что я не такая, как она, а Синт отвечала: «Ну конечно, я ведь просто овца, а ты очень умная!»
Я звонила по невероятному количеству объявлений, где говорилось, что опыт необязателен, и мне казалось, что мне отвечают приветливые люди, но стоило зайти в одну из этих контор, и – вот чудеса! – все места неизменно оказывались заняты. И все же – считайте это безрассудством или притязаниями на то, что принадлежит мне по праву, – я продолжала подавать заявки. Последняя должность (и лучшая из тех, что мне попадались) – машинистка в Скелтоновском институте искусств, здании с колоннами и портиками. Я даже побывала там однажды, когда у меня выдалась свободная суббота. Я провела целый день, бродя по комнатам, переходя от Гейнсборо к Шагалу мимо гравюр Уильяма Блейка. Когда я возвращалась домой в Клэпхем-Коммон, маленькая девочка в вагоне метро разглядывала меня, точно картину. Ее крошечные пальчики коснулись моего уха, потерли мочку, и она спросила мать: «А это оттирается?» Мать девочки и не подумала сделать ей замечание, а смотрела с таким видом, словно, черт подери, ждала ответа от моего уха.
Но разве я напрасно соперничала с парнями, с отличием заканчивая Вест-Индский университет по специальности «английская литература»? Разве я напрасно стерпела щипок от девочки в вагоне поезда? У меня на родине само британское консульство наградило меня первым призом студентов стран Содружества за стихотворение «Перуанский нарцисс». Ты уж извини, Синт, но я вовсе не собиралась всю свою жизнь натягивать туфли на ноги потных Золушек. Конечно, я плакала, и моя подушка все больше проседала от слез. Сила желания была настолько велика, что у меня внутри все цепенело. Я хотела посвятить себя более значительным вещам, но прошло уже пять лет, а я не сдвинулась с места. Между тем я сочиняла стихи, в которых мстила английской погоде, а маму уверяла, что Лондон – просто рай.
Когда мы с Синт вернулись домой, на коврике у двери я обнаружила письмо. Я сбросила туфли и встала в прихожей как вкопанная. На конверте значилось «Лондон, W1», что означало центр Вселенной. Я почувствовала холод викторианской плитки под ногами; пальцы ног сжимались и распрямлялись на коричневом и голубом. Я просунула палец под клапан конверта и подняла его, точно сломанный лист. На письме была шапка Скелтоновского института искусств.
– Ну, что там? – спросила Синт.
Я не ответила. Вонзив ноготь в цветочный Брайль рельефных обоев нашего съемного жилища, я в крайнем потрясении дочитала письмо до конца.
Скелтоновский институт
Скелтон-сквер
Лондон, W.1
16 июня 1967
Уважаемая мисс Бастьен!
Благодарю Вас за то, что прислали заявку и резюме.
Преуспевать в любых обстоятельствах, в которые помещает нас жизнь, – это все, на что каждый из нас может рассчитывать. Очевидно, что Вы молодая женщина с большими способностями, к тому же превосходно экипированная. В связи с этим я с радостью приглашаю Вас попробовать себя в должности машинистки с недельным испытательным сроком.
Вам многому предстоит научиться, и большую часть придется постигать самостоятельно. Если эти условия Вас устраивают, пожалуйста, сообщите мне ответным письмом, принимаете ли Вы предложение, и тогда мы начнем действовать. Стартовая зарплата – десять фунтов в неделю.
С наилучшими пожеланиями,
Марджори Квик
Десять фунтов в неделю! В «Дольчиз» я получала всего шесть. Конечно, четыре фунта – огромная разница, но дело было даже не в деньгах. Главное, что теперь я оказалась на шажок ближе к так называемым Важным Вещам, почтение к которым мне внушили еще в детстве: культура, история, искусство. Подпись была поставлена густыми черными чернилами, причем «М» и «К» смотрелись вычурно и казались почти викторианскими в своей пышности. От бумаги доносился легкий аромат каких-то особенных духов. Письмо слегка измялось, словно эта Марджори Квик несколько дней носила его в сумке, прежде чем отнести на почту.
Прощай, обувной магазин, прощайте, мои мытарства.
– Я получила работу, – шепнула я подруге. – Они меня берут. Чтоб мне провалиться, я получила работу.
Синт взвизгнула и бросилась меня обнимать.
– Да!
Я всхлипнула.
– Ты это сделала! Ты это сделала, – повторяла Синт, а я вдыхала запах ее шеи, напоминавший мне воздух после грозы в Порт-оф-Спейн.
Она взяла письмо и спросила:
– А что это за имя – Марджори Квик?
Я была в такой эйфории, что даже не ответила. Давай, расковыривай ногтем стену, Оделль Бастьен; разрывай цветок на обоях. Но интересно, если бы ты знала, что произойдет впоследствии и какими проблемами обернется, ты бы повторила этот опыт? Ты бы явилась в понедельник 3 июля 1967 года в половине девятого утра, поправляя новую шляпу и ерзая в туфлях от «Дольчиз», чтобы начать работу в Скелтоновском институте за десять фунтов в неделю и встретиться с женщиной по имени Марджори Квик?
Да, я бы это сделала, потому что я Оделль, а Квик – это Квик. И надо быть дурой, чтобы считать, что возможен другой путь.
2
Я воображала, что буду работать в целом атриуме стрекочущих машинисток, а оказалась в одиночестве. Видимо, многие сотрудники были в ежегодном отпуске и отдыхали в каких-то экзотических местах вроде Франции. Каждый день я поднималась по каменным ступеням, ведущим к огромным дверям Скелтона, на панелях которых красовался позолоченный девиз: «ARS VINCIT OMNIA»[3]. Положив ладони на «VINCIT» и «OMNIA», я толкнула дверь и очутилась в помещении, пахнущем старой кожей и полированным деревом, где, сразу по правую руку от меня, стоял длинный стол секретаря приемной с нависшими над ним ящиками для корреспонденции, уже заполненными утренней почтой.
Правда, вид из окна моего кабинета подкачал: чумазая от копоти стена, пугающе большое расстояние до земли. Можно было наблюдать, как портье и секретарши из соседнего здания выстраиваются в узком закоулке, чтобы покурить. Мне так и не удалось подслушать их разговоры, зато я не раз подглядывала за их телодвижениями: ритуальное похлопывание по карману; головы, сблизившиеся словно для поцелуя, когда кончик сигареты вспыхивает, а зажигалку ловят на лету; манера кокетливо опираться ногой о стену. Словом, этакое укромное местечко.
Скелтон-сквер притаилась за Пикадилли, неподалеку от берега Темзы. Выстроенная в эпоху Георга III, площадь уцелела во время бомбардировок[4] Великобритании нацистами. Из-за крыш доносился шум Пикадилли, ревели моторы автобусов, гудели автомобили, протяжно кричали разносчики молока. Здесь, в самом сердце лондонского Вест-Энда, тебя охватывало некое обманчивое чувство безопасности.
* * *
За всю первую неделю мне удалось поговорить с одним-единственным человеком – Памелой Радж. Она работала секретарем приемной, где ее всегда можно было застать. Памела читала «Дейли-экспресс», свесив локти со стола и надувая пузыри из жвачки, которую выбрасывала в мусорное ведро, едва на пороге возникало начальство. Со слегка мученическим выражением, как будто ее прервали во время выполнения какого-то сложного задания, Памела складывала газету, словно кусок тонкого кружева, и поднимала на меня глаза. «Доброе утро, Оделль», – говорила она. Пэм Радж, девица двадцати одного года, замыкала длинную вереницу представительниц Ист-Энда, с неподвижным, залитым лаком «пчелиным ульем», намертво приклеенным к голове, и таким количеством черной подводки для глаз, что хватило бы и на пять фараонов.
Радж была модной и откровенно сексуальной. Я завидовала ее мятно-зеленому платью мини, темно-оранжевым блузкам с бантами, но мне не хватало уверенности в себе, чтобы обнажаться подобным образом. Мой же собственный стиль был пока что заперт у меня в голове. Мне хотелось помаду и румяна таких же оттенков, как у Памелы, однако усилия британской косметической продукции помещали меня в странные, «серые» зоны, где я становилась похожей на призрака. В косметическом отделе магазина «Ардинг и Гоббс» возле Клэпхем-Джанкшн[5] мне попадались исключительно тона с названиями вроде «молочная нагота», «кукурузный блонд», «абрикос в цвету», «поникшая лилия» – такая вот скверная поэзия для лица.
По-моему, представления Памелы о хорошем времяпрепровождении сводились к жадному чавканью сосиской где-нибудь на Лестер-сквер. Судя по всему, она тратила всю зарплату на лак для волос и плохие романы, но ей недоставало ума даже на то, чтобы их читать. Возможно, эти мои соображения каким-то образом дошли до Памелы, поскольку она в свою очередь начала смотреть на меня широко открытыми от изумления глазами (словно не могла поверить, что мне хватает наглости по-прежнему приходить в офис) или же при моем появлении впадала в состояние вялой скуки. Случалось, что эта девица и вовсе не удостаивала меня взгляда, когда я приподнимала откидную доску стола, а потом роняла ее с легким стуком прямо на уровне ее правого уха.
Однажды Синт сказала мне, что в профиль я выгляжу лучше, и я ответила, что она говорит обо мне так, словно я монета. Сейчас я стала задумываться о двух сторонах моей личности, о впечатлении, которое я, возможно, произвела на Памелу: она считала меня чем-то вроде мелочи, которую еще никто не прикарманил. А я, напротив, особенно остро чувствовала собственную значимость в присутствии девицы по фамилии Радж.
Уже в самую первую неделю, в четверг, она сказала мне, что раньше не была знакома с «черными». Когда я ответила, что до приезда сюда при мне никого так не называли, она, видимо, вообще не поняла, о чем речь.
Но, несмотря на мои неуклюжие танцы с Памелой, я пребывала в экстазе от нового места работы. Скелтон был Эдемом, Меккой и Пемберли[6]; лучшие из моих снов стали явью. Комната, письменный стол, печатная машинка, утренняя Пэлл-Мэлл, по которой я шла от станции Чаринг-Кросс, – бульвар, залитый золотым светом.
В мои обязанности входило расшифровывать исследовательские записи ученых, которых я никогда не видела; они писали о бронзовых скульптурах или сериях линогравюр, и разобрать их почерк порой оказывалось весьма непростой задачей. Эта работа мне нравилась, но основная моя деятельность была сосредоточена вокруг подноса на моем столе – он заполнялся письмами, которые мне полагалось печатать и относить вниз Памеле. Письма эти были по большей части довольно-таки обыденными, но то и дело мне удавалось наткнуться на сокровище – например, на просительное письмо какому-нибудь старому миллионеру или дряхлой леди Такой-то Сякой-то, давно отжившей свой век: «Мой дорогой сэр Питер, я с огромным удовольствием идентифицировал картину Рембрандта, хранившуюся в Вашей мансарде в 57-м году. Быть может, Вы хотели бы прибегнуть к услугам Скелтоновского института для каталогизации остальной части Вашей замечательной коллекции?» и тому подобное. Письма к финансистам и магнатам киноиндустрии с уведомлениями о том, что есть возможность приобрести Матисса, или с предложениями назвать в их честь новый зал в Скелтоне, если, конечно, они согласились бы предоставить для него работы из своих коллекций.
Писал эти письма главным образом директор Скелтоновского института, человек по имени Эдмунд Рид. По словам Памелы, Риду было за шестьдесят и он с легкостью выходил из себя. Во время войны он имел какое-то отношение к возвращению произведений искусства, конфискованных нацистами, но больше она ничего о нем не знала. В имени «Эдмунд Рид» мне слышалась типичная, пугающая меня английскость: мужчины в костюмах с Сэвил-роу в клубах Уайтхолла, поедатели стейков, охотники на лис. Костюм-тройка, напомаженная шевелюра, золотые часы двоюродного дедушки Генри. Всякий раз, когда мне случалось встретить Рида в коридоре, он окидывал меня удивленным взором. Можно было подумать, что я вошла прямо с улицы, да еще и нагишом. Таких, как он, мы изучали в школе: джентльмены со связями, богатые джентльмены, белые джентльмены, они окунали свои перья в чернильницы и создавали мир, писали письма, а всем нам полагалось их читать.
Скелтоновский институт отчасти напоминал тот мир, к которому меня учили стремиться, и даже просто печатая эти буквы, я уже чувствовала себя к нему ближе, как будто моя помощь в этом деле была неоценимой, как будто существовала причина, чтобы выбрали именно меня. И самое главное, работала я быстро, а поэтому, закончив печатать их буквы, могла высвободить часок, чтобы печатать мои тексты – начинать снова и снова, комкать листы, не забывая удостовериться, что убрала их в сумку, а не оставила в корзине для мусора, словно улики на месте преступления. Иногда я шла домой с сумкой, набитой комками бумаги.
Я призналась Синт, что совершенно забыла о запахе шкафа с товаром в «Дольчиз». «Мне кажется, одна неделя способна зачеркнуть пять лет», – добавила я, исполненная восторженной решимости по поводу произошедшей со мной трансформации. Рассказала я и о Памеле, не преминув пошутить насчет негнущегося пчелиного улья у нее на голове. Синт помолчала, слегка нахмурясь, – она как раз жарила мне яичницу, а плитка в нашей крошечной квартире работала кое-как. «Рада за тебя, Делли, – проронила она. – Рада, что все так хорошо».
В первую же неделю, в пятницу, закончив перепечатывать письма Рида, я улучила спокойные полчаса, чтобы повозиться со стихотворением. Синт призналась мне, что хотела бы получить от меня только один свадебный подарок: «Что-то твоего собственного сочинения – ты ведь единственная, кто всегда умел писать». Одновременно растроганная и взвинченная, я уставилась на скелтоновскую печатную машинку, думая, какими счастливыми Сэм и Синт делали друг друга. Это заставило меня задуматься, чего не хватало мне самой, почувствовать себя Золушкой без хрустального башмачка. Вспомнила я и о муках творчества, преследовавших меня месяцами. Меня раздражало все, что я создавала, ни одно слово не вызывало у меня удовлетворения.
Как только у меня забрезжила возможная фраза, в кабинет вошла какая-то женщина.
– Приветствую, мисс Бастьен, – сказала она, и мысль моя, едва возникнув, тут же растаяла. – Ну как, осваиваетесь? Позвольте представиться – Марджори Квик.
Я вскочила, в спешке опрокинув печатную машинку, и женщина засмеялась.
– Что вы, мы же не в армии. Садитесь.
Мой взгляд метнулся к стихотворению, вставленному в машинку, и внутри у меня все оборвалось при мысли, что она может подойти сюда и увидеть, чем я занимаюсь.
Марджори Квик подошла ко мне, протягивая руку и поглядывая на печатную машинку. Я задержала ее руку в своей, надеясь, что Марджори останется по другую сторону письменного стола. Она и осталась. Явственно чувствовался исходивший от нее запах сигарет, смешавшийся с мускусным, мужским парфюмом, – я вспомнила, что точно так же пахло и ее письмо. Впоследствии выяснилось, что это диоровский «Саваж».
Марджори Квик была изящной, с прямой спиной, и своей манерой одеваться совершенно затмевала потуги Памелы. Широкие черные слаксы, во время ходьбы раздувавшиеся, словно брюки матроса. Нежно-розовая шелковая блузка с серым атласным галстуком, свободно заправленным под блузку. Эта женщина, с ее короткими серебристыми кудряшками, со скулами, казалось вырубленными из прекрасного медвяного дерева, словно явилась из Голливуда. По моим предположениям, Марджори было немногим более пятидесяти, но я в жизни не встречала таких пятидесятилетних. Эту женщину с волевым подбородком окружало облако гламура.
– Здравствуйте, – пролепетала я, не в силах оторвать от нее взгляда.
– Есть поводы для беспокойства?
По-видимому, и Квик не могла от меня оторваться; она ждала ответа, устремив на меня влажные темные зрачки. Она казалась разгоряченной, а на лбу даже выступила капелька пота.
– Беспокойства? – переспросила я.
– Хорошо. Сколько сейчас времени?
Часы были прямо у нее за спиной, но она не обернулась.
– Около половины первого.
– Время ланча.
3
Имя Марджори Квик было выгравировано на медной табличке над дверью в ее кабинет. Интересно, сколько женщин в Лондоне в год 1967 от Рождества Христова могли похвастаться наличием собственного кабинета? Представительницы рабочего класса занимались неквалифицированной работой, были медсестрами в государственной системе здравоохранения, работали на фабриках, в торговле или машинистками вроде меня, и так продолжалось десятилетиями. Пропасть, лежавшая между подобной деятельностью и возможностью видеть свое имя выгравированным на двери, являла собой целый мир, целое кругосветное путешествие, и мало кому было под силу его совершить. Возможно, Квик принадлежала к семье Скелтон, а посему занимала в институте некую почетную должность.
Марджори открыла дверь – табличка с именем заблестела в лучах солнца, проникавших через окно, – и пригласила меня войти. Кабинет оказался просторным и светлым, с огромными окнами, выходившими на площадь. На стенах не было картин, что показалось мне странным, учитывая, в каком месте мы находились. Три стены были полностью заняты книжными полками: стояли там в основном романы XIX – начала XX века, причем Хопкинс[7] удивительным образом соседствовал с Паундом[8], а еще я углядела небольшую кучку книг, посвященных древнеримской истории. Все тома были в твердой обложке, поэтому я не смогла разглядеть, в каком состоянии корешки.
Квик взяла пачку сигарет с большого письменного стола. Я наблюдала за тем, как она вытащила сигарету и, помедлив, изящным жестом пристроила ее между губ. Вскоре я привыкла к манере Квик ускорять свои движения только для того, чтобы тут же замедлить их, словно проверяя себя. Ее фамилия ей подходила[9], но я всегда затруднялась ответить, какое состояние для нее более естественно – медлительность или поспешность.
– Может быть, хотите сигарету? – спросила она.
– Нет, благодарю вас.
– Тогда покурю одна.
Марджори прибегла к услугам тяжелой серебряной зажигалки многоразового использования – из тех, которые обычно кладут на стол, а не суют в карман. Такую вещицу, представлявшую собой нечто среднее между ручной гранатой и лотом на аукционе «Кристис», можно было встретить где-нибудь в пригородном доме. У Скелтоновского института денег куры не клюют, думала я, и Квик служила тому доказательством. И совсем необязательно об этом говорить, если можно судить по вырезу розовой шелковой блузки, по смелому покрою брюк, по тому, как обставлен ритуал курения. Словом, по самой Квик. Интересно, какую именно роль она играла в институте?
– Джин? – предложила хозяйка кабинета.
Я помедлила. Никогда особенно не пила, и уж конечно мне не нравился вкус спиртного. Запах слишком отчетливо напоминал мне о мужчинах в клубах Порт-оф-Спейн: клокотание рома в крови, вызывающее рев жалкой боли или, наоборот, эйфории, разносящийся по пыльным дорогам нашего города. Но Квик отвинтила крышечку с бутылки джина, стоявшей на столе в углу, и налила понемногу в два бокала для коктейлей. Вооружившись щипцами, она достала из ящика со льдом два кубика, бросила их в мой бокал, доверху наполнила его тоником, добавила дольку лимона и вручила его мне.
Опустившись в кресло так, словно она недели три простояла на ногах, Квик отхлебнула джина, сняла телефонную трубку и набрала номер. Щелчок зажигалки вызвал к жизни густой всполох оранжевого пламени. Кончик сигареты зашкворчал: это табачные листья скручивались, превращаясь в колечки голубоватого дыма.
– Приветствую, это Харрис? Да, то, что у вас сегодня в меню. Но две порции. И бутылку «Сансера». Два бокала. Когда? Хорошо.
Я прислушивалась к модуляциям ее голоса; отрывистый и хриплый, он казался не совсем английским, хотя в нем явно ощущались намеки на продуваемую насквозь школу-пансион.
Марджори повесила трубку и затушила сигарету в гигантской мраморной пепельнице.
– Ресторан по соседству, – пояснила она. – Для меня просто невыносимо там находиться.
Я сидела напротив, обхватив руками бокал, вспоминая о сэндвиче, который сделала для меня Синт, представляя, как его края загибаются от жары в ящике моего письменного стола.
– Итак, – произнесла Квик. – Новая работа.
– Да, мадам.
Квик поставила бокал на стол.
– Сразу же объясню вам, мисс Бастьен. Никогда не обращайтесь ко мне «мадам». И не называйте меня «мисс». Я хочу, чтобы ко мне обращались «Квик». – Она как-то горестно улыбнулась. – У вас французское имя?
– Думаю, да.
– Значит, вы говорите по-французски?
– Нет.
– «Иметь» и «быть» – вечно я путаюсь в этих понятиях. Мне казалось, на Тринидаде говорят по-французски?
Я помедлила с ответом.
– Лишь немногие из наших предков жили в домах и могли общаться с французами.
Глаза Квик широко раскрылись. Изумлена? Оскорблена? Понять было невозможно. Я не на шутку встревожилась, что преподала ей слишком крутой урок истории, тем самым провалив свой испытательный срок.
– Конечно, – сказала Квик. – Как интересно. – Она сделала еще глоток джина. – Сейчас работы не так много, но, полагаю, мистер Рид полностью загрузил вас бесконечным потоком своей корреспонденции. Я беспокоюсь, вдруг вы заскучаете.
– Что вы, я вовсе не скучаю. – Я вспомнила «Дольчиз», как они там заваливали нас с подругой работой. Как мужья пялились на наши задницы, пока их жены примеряли туфли. – Я так рада, что я здесь.
– Наверное, за один день в магазине «Дольчиз» можно узнать жизнь лучше, чем за целую неделю в Скелтоне. Вам нравилось там работать? – спросила Квик. – Прикасаться к ногам всех этих женщин?
В ее вопросе было нечто шокирующее, особенно в сочетании с его острой сексуальностью, пронзившей меня, несмотря на всю мою девственность. Но я не позволила себя смутить.
– По правде говоря, – ответила я, – тридцать пар ног в день – это чудовищно.
Она расхохоталась, запрокинув голову.
– Да уж, прямо-таки все сыры Франции!
Услышав ее заразительный смех, я тоже прыснула. Возможно, это звучит нелепо, но смех ослабил напряжение у меня внутри.
– Некоторым эта работа по нутру, – сказала я, подумав о Синт и о том, как походя унизила ее ради этого разговора, ради этой странной игры, правила которой оставались для меня загадкой. – Она требует умения.
– Надо полагать. И все же – такая уйма незнакомых пальцев ног. – Квик передернулась. – Можно сколько угодно любоваться прекрасными портретами, собранными у нас в Скелтоне, но, в сущности, мы, люди, – лишь скопище несуразных конечностей, урчащих кишок. Прибавьте еще жар в печени. – Она пристально посмотрела на меня и глотнула еще. – У меня было гораздо больше времени, чем у вас, мисс Бастьен, чтобы прийти к такому выводу. Пальцы ног, согнутые локти. Помните об их достоинствах, пока у вас есть такая возможность.
– Хорошо, попробую, – сказала я, снова почувствовав себя не в своей тарелке. У моей собеседницы что-то явно не ладилось; казалось, она разыгрывает для меня какой-то спектакль, и я не могла понять зачем.
В дверь постучали. Квик сказала, чтобы вошли, и тут явился наш ланч – на тележке, которую толкал старый портье, невысокий и однорукий. Корзинка с круглыми булочками, две плоские рыбины, жизнерадостного вида салат, бутылка вина в кулере и нечто спрятанное под стальным куполом. Портье покосился на меня, испуганный, словно кролик. Потом его влажные глаза снова устремились на Квик.
– На сегодня все, Харрис. Спасибо, – поблагодарила она старика.
– Всю неделю вас не было, мисс, – ответил он.
– Э… очередной отпуск.
– Отдыхали где-то в хорошем месте?
– Нет. – Квик на мгновение пришла в замешательство. – Просто была дома.
Внимание портье переключилось на меня.
– Что-то не похожа на ту, прежнюю, – сказал он, склонив голову набок. – А мистер Рид знает, что у вас тут черномазая?
– Это все, Харрис, – сдавленным голосом проговорила Квик.
Портье пронзил ее недовольным взглядом, оставил тележку и попятился к выходу, напоследок уставившись на меня.
– Харрис, – сказала Квик, когда он ушел, причем с такой интонацией, словно само его имя служило достаточным объяснением. – Потерял руку в битве при Пашендейле[10]. Отказывается уходить на пенсию, а ни у кого не хватает духу его выгнать.
Слово, произнесенное портье, повисло в воздухе. Квик встала и подала мне тарелку с тележки.
– Если не возражаете, можно поставить ее на письменный стол.
Другую тарелку Квик отнесла на свою сторону стола. Она обладала стройной маленькой спиной, с торчащими, словно пара плавников, лопатками. Бутылка была открыта, и Квик налила нам по бокалу.
– Очень хорошее вино. Совсем не то, которым мы потчуем посетителей.
Вино забулькало громко, празднично и по-бунтарски, как будто Квик среди бела дня наливала мне чудодейственный эликсир.
– Ваше здоровье, – быстро сказала она, поднимая бокал. – Надеюсь, вы любите камбалу.
– Да, – ответила я, хотя никогда этой рыбы не пробовала.
– Итак. Как отреагировали ваши родители, узнав, где вы теперь работаете?
– Мои родители?
– Они вами гордятся?
Я пошевелила пальцами ног, сдавленными обувным заточением.
– Мой отец умер.
– Ох.
– Моя мать так и живет в Порт-оф-Спейн. Я единственный ребенок. Возможно, она еще не получила моего письма.
– Вот как. Должно быть, вам обеим приходится нелегко.
Я подумала о матери, о ее вере в Англию – место, которое ей так и не суждено было увидеть. Подумала об отце, призванном в ВВС Великобритании и сгоревшем в облаке пламени где-то над Германией. Когда мне было пятнадцать, премьер-министр Тобаго провозгласил, что будущее детей с островов находится в их школьных ранцах. Моя мать, готовая на все, чтобы моя жизнь сложилась иначе, чем у них с отцом, поощряла меня к самосовершенствованию. Однако к чему были эти усилия, если после обретения страной независимости всю нашу землю распродали иностранным компаниям, вкладывавшим прибыль в экономику своих стран? Что нужно было делать нам, молодым, если, запустив руку в свои ранцы, мы не обнаруживали там ничего, кроме шва, расходящегося под тяжестью наших учебников? Нам только и оставалось, что уезжать.
– С вами все в порядке, мисс Бастьен? – спросила Квик.
– Да, я приехала сюда с подругой, Синт, – ответила я.
Мне вовсе не хотелось в подробностях вспоминать о Порт-оф-Спейн, о доске с именами погибших, о пустом участке на кладбище Лаперуз, который мама все еще держала для отца, о католических монахинях, воспитывавших меня, росшую с непреходящим чувством скорби.
– Синтия помолвлена, – проговорила я. – Скоро выйдет замуж.
– Вот как.
Квик ножом приподняла небольшой кусок камбалы. У меня возникло странное чувство, что я сказала слишком много, хотя практически не проронила ни слова.
– И когда же?
– Через две недели. Я подружка невесты.
– И что тогда?
– В каком смысле?
– Ну, вы останетесь одна, не так ли? Она ведь съедется с мужем.
Квик всегда избегала обсуждения фактов своей жизни, стараясь при этом докопаться до самого сокровенного в жизни собеседника. Она ничего не рассказывала мне о Скелтоновском институте, полностью сосредоточившись на выяснении моих обстоятельств, и вскоре выудила на свет самые мрачные мои опасения. Дело в том, что неизбежный отъезд Синт из нашей квартирки повис между мной и моей самой закадычной подругой, точно молчаливый вопрос, налитый предчувствиями. Мы обе знали, что Синт переедет к Сэмюэлу, но я и представить себе не могла, как буду жить с другой соседкой, поэтому не заводила об этом речь, да и она тоже. Я хвасталась новой работой, она суетилась насчет свадебных приглашений и делала мне сэндвичи, которые я, признаться, недооценивала. Утешало меня одно: зарплаты в Скелтоне должно было хватить и на освобождавшуюся комнату.
– Меня вполне устраивает мое собственное общество, – проговорила я, судорожно сглотнув. – Будет неплохо иметь побольше личного пространства.
Квик потянулась за второй сигаретой, но потом, видимо, передумала.
«А в одиночестве вы бы уже выкурили на три сигареты больше», – подумала я. Быстро взглянув на меня, Квик подняла с тарелки стальной купол, и под ним обнаружился пирог с лимонным безе.
– Поешьте чего-нибудь, мисс Бастьен, – предложила она. – Смотрите, сколько тут еды.
Я принялась за свой кусок пирога, а вот Квик не проглотила ни крошки. Похоже, все это было у нее с рождения – сигареты, заказы по телефону, поверхностные наблюдения. Я представила себе, как она, двадцатилетняя, вела разгульную жизнь в Лондоне в гламурном антураже, этакая кошечка в разгар бомбардировок. Я составляла себе ее образ по Митфорд и Во[11], окутывая ее фигуру пальто в стиле недавно открытой мною Мюриэл Спарк. Возможно, так проявлялось тщеславие, внедренное в меня моим обучением, которое слегка отличалось от модели, используемой в частных английских школах, где изучали латынь и греческий, а мальчики играли в крикет. Так или иначе, я страстно желала, чтобы эксцентричные, уверенные в себе люди обогатили мою жизнь; мне казалось, я заслуживаю общения с ними – с людьми, как будто сошедшими с книжных страниц. Квик даже не нужно было что-либо делать, настолько я была готова к такому общению, так жаждала его. Поскольку прошлое представлялось мне скудным, я начала сочинять себе фантастическое настоящее.
– Ваша заявка меня очень заинтересовала, – произнесла Квик. – Вы очень хорошо пишете. Очень хорошо. Вероятно, вы были одной из лучших студенток своего университета. Должно быть, вы считаете, что слишком хороши для секретарской работы.
Холодок испуга пробежал у меня по телу. Значит ли это, что она готова отпустить меня, что я не прошла испытания?
– Я очень признательна вам за предоставленную возможность здесь работать, – сказала я. – Ведь это такое замечательное место.
В ответ на льстивые слова Квик покривилась, и мне стало интересно: что же она хотела услышать? Я взяла булочку и взвесила ее на ладони. Весом и размером она была как небольшое сумчатое животное, и мне инстинктивно захотелось ее погладить. Тут я ощутила на себе взгляд Квик и решила вместо этого ковырнуть пальцем корочку.
– А какого рода произведения вы бы хотели писать?
Я подумала о листе бумаги, вставленном в печатную машинку в соседней комнате.
– Главным образом стихи. В один прекрасный день я хотела бы написать роман. Я все еще жду подходящего сюжета.
Квик улыбнулась.
– Не ждите слишком долго.
Услышав от нее такую рекомендацию, я испытала облегчение, ведь обычно каждый раз, когда я сообщала людям о своем желании писать, они начинали убеждать меня, что их жизнь могла бы стать отличным сюжетом для романа.
– Я серьезно говорю, – продолжила Квик. – Не нужно простаивать без дела, ведь никогда не знаешь, что может на тебя обрушиться.
– Я не буду, – пообещала я, обрадованная ее настойчивостью.
Она откинулась на спинку кресла.
– Ты мне напоминаешь кое-кого, с кем я когда-то была знакома.
– Правда?
Это признание показалось мне невероятно лестным, и я ждала, чтобы Квик продолжила, но лицо ее омрачилось; она сломала пополам сигарету, оставленную на бортике пепельницы.
– И как вам Лондон? – поинтересовалась Квик. – Вы приехали сюда в шестьдесят втором. Вам нравится здесь жить?
Я оцепенела. Она наклонилась вперед.
– Мисс Бастьен. Мы не на экзамене. Мне действительно интересно ваше мнение. Что бы вы ни сказали, об этом никто не узнает. Обещаю и клянусь.
Я бы никогда не стала говорить об этом вслух. Возможно, всему виной джин, или ее открытое лицо, или тот факт, что она не посмеялась над моей мечтой о писательстве. Может, сказалась присущая юности уверенность в себе или свою роль сыграл этот портье Харрис, но тут меня словно прорвало.
– В жизни не видела такую уйму копоти, – выпалила я.
– Да, местечко грязное, – смеясь, согласилась она.
– В детстве, в Тринидаде, нам всегда внушали, что Лондон – волшебная страна.
– И у меня та же история.
– А вы разве не отсюда?
Она пожала плечами:
– Я живу здесь уже столько, что с трудом могу вспомнить, как жила где-то еще.
– Они заставляют вас думать, что в Лондоне порядок, что здесь изобилие, честность и зеленые поля. Расстояние все уменьшает.
– Какое расстояние вы имеете в виду, мисс Бастьен?
– Ну, королева правит Лондоном, а Лондон правит вашим островом, а значит, Лондон – часть вас.
– Понимаю.
Мне все же казалось, что Квик не поняла, и я продолжила:
– Вы думаете, что люди здесь узнают вас, потому что тоже читали Диккенса, и Бронте, и Шекспира. Но я не встречала никого, кто мог назвать хотя бы три шекспировских пьесы. В школе они показывали нам фильмы об английской жизни – шляпы-котелки и автобусы мелькали на беленой стене, служившей нам экраном, – а снаружи мы не слышали ничего, кроме кваканья лягушек. Зачем нам вообще все это показывали? – Я стала говорить громче. – Я-то думала, здесь у каждого есть титул «достопочтенный»…
Я осеклась, испугавшись, что говорю слишком много.
– Продолжайте, – сказала она.
– Я думала, что Лондон означает процветание и гостеприимство. Возрождение. Славу и успех. Я думала, уехать в Англию – все равно, что выйти из моего дома и оказаться на улице, пусть и на чуть более холодной, но все же в таком месте, где beti[12] с мозгами могла бы жить по соседству с королевой Елизаветой.
Квик улыбнулась.
– Вот о чем вы думали.
– Иногда ни о чем другом думать не удается. Холод, сырость, плата за квартиру, нужда. Но… я стараюсь жить.
Я подумала, что больше говорить не стоит. И так не могла поверить, что сказала так много. На коленях у меня были ошметки булки, полностью раскрошенной. А вот Квик, напротив, казалась совершенно невозмутимой. Она откинулась в кресле, глаза ее сияли.
– Оделль, – проговорила она, – не паникуйте. Скорее всего, с вами все будет в порядке.
4
Синтия и Сэмюэл поженились в отделе регистрации в Уондсворте, в маленькой комнате, пропахшей бюрократией и дешевым парфюмом, с темно-зелеными стенами и стальными стульями. Ширли и Хелен, девушки из обувного магазина, явились во всем великолепии. Друг Сэма, Патрик Майнамор, работавший водителем автобуса, был шафером. Он привел с собой подружку по имени Барбара, весьма разговорчивую особу, делавшую первые шаги на актерском поприще.
Регистратор окинул нас пристальным взглядом. Мужчины пришли в костюмах, галстук Патрика прямо-таки пламенел; словом, все выглядели нарядно, особенно на таком унылом фоне. Синт была прекрасна – то есть она и так была хороша (даже и в те моменты, когда каждая клеточка ее тела не излучала любовь), но сейчас, в белом платье-мини, в простой шляпке-таблетке и белых туфельках, подаренных ей менеджером Конни в качестве свадебного подарка, она просто сияла. Шейку невесты украшало керамическое ожерелье из голубых цветов, сделанное на заказ, а две жемчужины в ушах были такими идеальными и круглыми, словно устрицы произвели их специально для нее.
На Патрика, начинающего фотографа, была возложена важная миссия сфотографировать всех нас. У меня все еще сохранилось несколько его снимков. Фонтан риса, запечатленный в полете, белый дождь на смеющихся лицах Сэма и Синт, когда они стояли на ступеньках отдела регистрации, подняв сцепленные руки навстречу каскаду зерен.
Что ж, по крайней мере замужество стало триумфом Синт. Конечно, мы изначально осознавали, как нелегко нам будет пробиться в жизни, – к слову сказать, Синт так хорошо работала, что уже и тогда заслуживала собственную обувную империю. Не так-то просто было девушке из Тринадада продавать обувь на Клэпхем-Хай-стрит в 1967 году. Возможно, легче было написать стихотворение о цветах Тринидада, отправить его в Британский совет и получить за это приз. Но теперь у подруги, по крайней мере, был муж, и они отлично друг друга дополняли: серьезный и застенчивый Сэм, находчивая и целеустремленная Синт. Достаточно было взглянуть на его сияющее лицо, когда они расписывались, чтобы понять, как его вдохновляет присутствие любимой!
После церемонии мы сели в кебы и поехали в квартиру Сэма и Патрика, не забыв сообщить таксистам, что наши друзья только что поженились. Водители опустили стекла, включили одну и ту же радиостанцию, и вот из всех автомобилей синхронно зазвучал блюз – так громко, что мы даже опасались ареста за нарушение общественного порядка. Вернувшись в квартиру, мы в эйфории сорвали кухонные полотенца с сэндвичей, нашли открывалки для бутылок, штопоры, поставили пластинку и стали ждать, пока разрежут белый куполообразный торт, который Синт пропитала ромом.
Пару часов спустя появилась новая порция гостей – друзья друзей. Барбара созвала целую банду фасонистого молодняка, длинноволосых девушек в коротких платьях, парней в рубашках апаш – им явно не мешало бы побриться. Я держалась от них в стороне, только смотрела, ведь я уже давно сказала себе, что эти люди не для меня, а я не для них. Спина у меня намокла от пота, а потолок казался ниже, чем час назад. Пара человек из компании Барбары повалились на стол, из-за чего маленькая красная лампа с кисточками скатилась на пол. Сама я никогда не пробовала марихуану, но чувствовала, что кто-то здесь забил косяк.
Когда комната заполнилась народом, причем крайне возбужденным, Синт, выпившая три бокала «Дюбонне» и слишком много лимонада, сняла иголку с пластинки и объявила:
– Моя подруга Делли – поэт, она написала стихи о любви.
Послышался одобрительный гул.
– И сейчас она их прочтет.
– Синтия Морли, нет, – зашипела я на нее. – Думаешь, раз ты теперь замужняя женщина, то можешь мною командовать?
– А чего такого-то, Делли? – крикнул Сэм. – Чего ты строишь из себя такую загадочную?
– Ладно тебе, Делли. Ну, ради меня.
С этими словами Синт, к моему ужасу, извлекла из сумки мои стихи. По душной комнате снова прокатилась рябь одобрения. Когда за неделю до свадьбы я наконец показала Синт свое произведение, чувствуя себя школьницей, совершающей долгий путь к учительскому столу, подруга прочитала его молча, а потом крепко обняла меня и прошептала: «Боже милостивый, Делли, у тебя действительно талант».
– Это очень хорошие стихи, Делли, – сказала она сейчас и сунула листок мне в руки. – Давай, покажи этим людям, что у тебя есть.
Так я и поступила. Слегка пошатываясь под воздействием «Дюбонне», я только раз подняла глаза на лица собравшихся – маленькие луны, которые не приняли бы от меня отказа. Я прочитала стихотворение о любви по бумажке, хотя и знала его наизусть. Мои слова заставили всю комнату погрузиться в молчание. Когда я закончила, стало еще тише; я ждала реакции Синт, но и она, похоже, не могла сказать ни слова.
Я не видела его лица в толпе, пока читала стихи. Я не чувствовала на себе его взгляда, хотя впоследствии он признавался, что не мог отвести от меня глаз. Я не ощущала каких-либо изменений в атмосфере комнаты, если не считать волнения в те минуты, когда звучал только мой голос, и той особенной эйфории, какую чувствуешь после аплодисментов, – смешанного чувства триумфа и какого-то, что ли, обесценивания.
Он подошел ко мне примерно через полчаса, когда я расставляла пустые формочки из фольги аккуратными башнями, стараясь навести мало-мальский порядок среди холостяцкого хаоса, царившего на крошечной кухне Сэма с Патриком.
– Привет, – обратился он ко мне. – Значит, ты поэт. А меня зовут Лори Скотт.
Я первым делом подумала, что надо бы проверить, не осталось ли у меня на пальцах кусочков сэндвича с яйцом.
– Я не поэт, я просто пишу стихи, – ответила я, поглядывая на руки.
– А есть разница?
– По-моему, есть.
Лори облокотился о столешницу, вытянув длинные ноги и скрестив руки, словно детектив.
– А Делли – твое настоящее имя?
– Вообще-то меня зовут Оделль.
На мое счастье, под рукой оказалась бутылочка «Фейри» и губка для мытья посуды, так что я рьяно принялась за работу.
– Оделль.
Лори обернулся и сквозь арочный проем окинул взглядом комнату, где вечеринка шла уже без руля и без ветрил, погружаясь в круговорот окурков и криков, ключей от консервных банок, потерянных заколок и чьего-то мятого пиджака, валяющегося на полу. Сэм и Синт должны были вскоре уйти – причем не куда-нибудь, а в нашу квартиру, которую я пообещала освободить на один вечер. Сегодня я должна была заночевать в этом логове. Этот Лори, похоже, заблудился в своих мыслях, был, возможно, слегка обкурен – я заметила лиловые круги усталости у него под глазами.
– Как ты познакомился со счастливой четой? – спросила я.
– А я с ними не знаком. Я дружу с Барбарой, а она мне сказала, что здесь вечеринка. Я и не знал, что это свадьба. Как-то неловко получилось, но сама знаешь, как бывает.
Я не знала, поэтому промолчала.
– А ты? – поинтересовался Лори.
– Я училась с Синтией в школе. Мы вместе снимаем… снимали квартиру.
– Значит, давно знакомы.
– Давно.
– Твои стихи и вправду хороши, – заметил он.
– Спасибо.
– Не представляю себе, каково это – быть женатым.
– Вряд ли это такая уж большая перемена, – ответила я, надевая желтые резиновые перчатки.
Он повернулся ко мне.
– Ты действительно так думаешь? И поэтому твои стихи о любви, а не о браке?
Пена вздымалась в раковине все выше, поскольку я не выключила кран. По-видимому, Лори и вправду мною заинтересовался, что доставило мне удовольствие.
– Да, – ответила я. – Только не говори Синт.
Он засмеялся, и мне понравилось, как звучит его смех.
– Моя мать утверждала, что с опытом брак становится лучше, – сообщил он. – Впрочем, для нее это была уже вторая попытка.
– Бог ты мой, – хохотнув, сказала я.
Наверное, в моем голосе прозвучала нотка осуждения. В те дни развод все еще ассоциировался с каким-то непотребством.
– Она умерла две недели назад, – проговорил он.
Я умолкла, застыв над раковиной с губкой в руке. Потом посмотрела на него, чтобы удостовериться, что правильно расслышала.
– Отчим посоветовал мне выйти проветриться, – продолжал Лори, уставившись в пол. – Он сказал, что я путаюсь у него под ногами. И вот, представляешь, меня занесло на свадьбу.
Лори снова засмеялся, а потом опять затих и обхватил себя руками. Я заметила его модную кожаную куртку. В Англии у меня еще никогда не было такого откровенного разговора с чужим человеком. Я не могла ему ничего посоветовать, но, кажется, он этого и не ждал. Похоже, плакать он не собирался. У меня мелькнула мысль, что ему должно быть жарко в этой куртке, но вроде бы он вовсе не планировал ее снимать. Наверное, он не задержится здесь надолго. Я поймала себя на том, что мне будет жаль, если дело в этом.
– Я не видела свою маму вот уже пять лет, – сказала я, сунув липкий поднос с остатками крема в горячую воду.
– Но она хоть не умерла.
– Нет, она не умерла.
– Я все время думаю, что снова ее увижу. Что она будет дома, когда я вернусь. Но там никого, кроме гребаного Джерри.
– А Джерри – это и есть твой отчим?
Лицо Лори помрачнело:
– Да, увы. И моя мать завещала ему все.
Я попыталась определить возраст Лори. Казалось, ему около тридцати, но готовность, с которой он мне открылся, свидетельствовала о том, что он моложе.
– Да, нелегко тебе. А почему она так поступила?
– Долгая история. На самом деле она оставила мне одну вещь. Джерри всегда ее ненавидел, что в очередной раз подтверждает, какой он придурок.
– Вот видишь, и ты что-то получил. А что это?
Лори снова вздохнул, разомкнул руки и свесил их по бокам.
– Картина. Она только для того, чтобы напоминать мне о матери.
Он горько и как-то криво улыбнулся.
– Любовь слепа, любовь скупа. Видишь, я тоже мог бы стать поэтом. – Он кивнул в сторону холодильника. – Молоко есть?
– Должно быть. Знаешь, я думаю, тебе лучше запомнить свою маму, чем пытаться забыть ее. Мой отец умер. И у меня совсем ничего от него не осталось. Кроме фамилии.
Лори замер, держа руку на дверце холодильника.
– Ничего себе. Извини. А я тут распинаюсь…
– Все в порядке. Нет, правда.
Теперь я почувствовала себя не в своей тарелке, и мне уже хотелось, чтобы он скорее достал молоко и занялся им. Вообще-то я не имела привычки говорить о своих родителях, но тут меня словно что-то подначивало продолжать.
– Он погиб на войне. Его самолет сбили.
Лори оживился.
– Мой тоже погиб на войне. Но не в самолете. – Он умолк, и мне показалось, что он собирается что-то сказать, но потом передумал и только добавил: – Я его не знал.
Мне стало неловко от этой синхронности наших обстоятельств, как будто я намеренно пыталась ее добиться.
– Мне было два года, – поспешила сказать я. – Я его почти не помню. Его звали почти как меня, только без мягкого знака – Оделл. Когда он умер, мама изменила мое имя.
– Что сделала? А как тебя звали до того?
– Понятия не имею.
Этот факт из моей собственной жизни прозвучал нелепо и смешно – по крайней мере, в то мгновение мне так показалось (а может, виной всему дым от травки, клубившийся повсюду), – так или иначе, мы оба расхохотались. По сути дела, мы просто хохотали целую минуту, так хохотали, что животы заболели. Как тут не рассмеяться, если меня «переименовала» мать, у него мать внезапно умерла, а я в желтых резиновых перчатках стою на кухне в доме по соседству с Британским музеем.
Лори повернулся ко мне лицом, бутылка молока угрожающе накренилась у него в руке. Протрезвев, я уставилась на его руку, обеспокоенная, что молоко начнет капать сквозь крышку бутылки, наклоненной под таким опасным углом.
– Слушай, – сказал он, – Делли.
– Оделль.
– Ты хочешь выйти?
– Откуда?
– Отсюда, ненормальная ты девица.
– Это еще кто ненормальный?
– Можно пойти в Сохо. У меня есть друг, он мог бы провести нас во «Фламинго». Только, чур, сними эти резиновые перчатки. Это не такой клуб.
В ту минуту я даже не знала, что и думать о Лори. Может, он был поражен горем, а в то же время казалось, что горе еще не вступило в свои права. Возможно, он еще не пришел в себя после потрясения, ведь прошло всего лишь две недели. Но о Лори можно было сказать наверняка, что он на кого-то злится и немного растерян, одновременно уверен в себе и все же избегает самого себя – да, все это можно было сказать о Лори. Язык у него был хорошо подвешен, он болтал о Джерри, и о своем доме, и о разведенной, умершей матери с такой привычной усталостью от жизни, что я не могла определить наверняка, пытается ли он уйти из этого мира или, напротив, остаться в живых.
– Я… я устала, – промолвила я. – Не могу уйти с вечеринки.
С этими словами я выдернула затычку из сливного отверстия раковины. Вода начала с шумом утекать, а я задумалась о том, почему его мать умерла.
– «Фламинго», Оделль.
В жизни не слышала о таком месте, но не стала ему об этом сообщать.
– Но не могу ведь я оставить Синт.
Лори недоверчиво приподнял бровь.
– Вряд ли ты ей сегодня понадобишься.
Я залилась краской и стала рассматривать исчезающие мыльные пузыри в раковине.
– Слушай, – продолжал он, – моя машина около дома. Как насчет того, чтобы завезти картину к моему другу, а потом пойти танцевать? Не обязательно во «Фламинго». Ты любишь танцевать?
– А картина у тебя с собой? – спросила я.
– Все ясно. – Он провел рукой по волосам. – Ты, наверное, из тех девушек, что больше интересуются искусством, чем ночными клубами?
– Думаю, что не принадлежу ни к тем, ни к другим. Но я работаю в художественной галерее, – добавила я.
Мне хотелось произвести на Лори впечатление, показать ему, что я не просто какая-то невинная зануда, предпочитающая мытье посуды валянью на ковре.
Глаза Лори засияли.
– Хочешь взглянуть на картину? – спросил он. – Она в багажнике моей машины.
Тогда, на той кухне, он не пытался ко мне прикоснуться. Я почувствовала одновременно облегчение от того, что он этого не сделал, и желание, ведь он это сделать мог… Думаю, именно по этой причине я и согласилась взглянуть на картину. Так и оставив гору тарелок в раковине, я последовала за ним.
* * *
Мне кажется, он хотел произвести на меня впечатление тем, что машина у него фирмы «Эм-Джи», но я совершенно не думала об этом в тот момент, когда мой взгляд упал на небольшую картину без рамы, лежавшую в багажнике. Сцена, запечатленная на ней, показалась мне довольно простой, и в то же время было не так-то легко разгадать, что она означала: на одном краю картины – девушка, держащая в руках отрубленную голову, а на другом – лев на полусогнутых лапах, того и гляди готовый к прыжку. Вероятно, это была какая-то легенда.
Несмотря на небольшое искажение (вызванное оранжевым светом уличного фонаря у нас над головами), краски нижней части фона напомнили мне придворные портреты ренессансной поры: пестрое лоскутное одеяло полей, окрашенное во все оттенки желтого и зеленого, и нечто вроде маленького белого замка. Небо над полями оказалось темным и менее благопристойным; в его подтеках цвета индиго было нечто от ночного кошмара. От этой картины сразу же возникало чувство противостояния: девушки против льва, объединившиеся перед напастью. И в то же время наслаждающийся этой картиной зритель был вознагражден: прекрасная цветовая палитра таила изысканность… В произведении было нечто ускользающее, что делало его таким притягательным.
– Что думаешь? – спросил Лори. Вне яркого кухонного света черты его лица казались мягче.
– Я? Да я всего лишь машинистка, – ответила я.
– Да брось. Я слышал твои стихи. Вот и из этого сделай стихи.
– Так не получится… – начала я, не сразу догадавшись, что он надо мной подтрунивает. Я смутилась и снова повернулась к картине. – Полагаю, она очень необычная. Краски, сюжет. Интересно, когда она создана? Не то на прошлой неделе, не то в прошлом веке.
– Или еще раньше, – с готовностью откликнулся Лори.
Я снова окинула взглядом старомодные поля на заднем плане картины, а потом и фигуры.
– Вряд ли. Платье и кардиган девушки, похоже, более современные.
– Как думаешь, это сусальное золото?
Склонившись над картиной, Лори показал пальцем на львиную гриву, развевающиеся пряди которой поблескивали. Голова Лори оказалась совсем рядом с моей, и я почувствовала запах его кожи, с призвуком лосьона после бритья. У меня даже мурашки побежали по телу.
– Оделль? – окликнул он меня.
– Это необычное полотно, – поспешно ответила я, как будто знала, как выглядит обычное полотно. Я выпрямилась. – Мистер Скотт, что вы собираетесь с ним делать?
Лори повернулся ко мне и улыбнулся. Оранжевый свет падал ему на лицо таким образом, что образовалась зловещая тень.
– Мне нравится, когда ты называешь меня «мистер Скотт».
– В таком случае я буду называть тебя Лори.
Он засмеялся, и у меня дрогнула челюсть – я тоже едва не улыбнулась.
– Вряд ли это любительская работа, – предположила я. – А что знала о ней твоя мать?
– Понятия не имею. И знаю я только то, что мама повсюду брала картину с собой. Дома картина всегда была у нее в спальне. Ей не хотелось, чтобы полотно находилось в тех комнатах, где бывали посторонние.
Я указала на инициалы в правой нижней части картины.
– Кто это – И. Р.?
Лори пожал плечами:
– Прозорливость не относится к моим сильным сторонам.
Конечно, у меня возникла масса вопросов: что Лори относил к своим сильным сторонам, суждено ли мне было это узнать, да и почему меня это интересовало – и по этой ли причине я чувствовала себя не в своей тарелке?
Опасаясь, что Лори сможет прочесть мои мысли, я опустила голову и снова посмотрела на девушку на картине. На ней были светло-голубое платье и темный шерстяной кардиган – я даже разглядела вязку косичкой. Голова, которую она держала в руках, была с длинной черной косой, тревожно змеившейся и падавшей на красную землю. К моему удивлению, эта парящая в воздухе, лишенная тела голова вовсе не казалась мертвой. Она словно приглашала меня войти в картину, хотя в ее глазах был оттенок предупреждения. Вообще-то ни одна из фигур не излучала особого радушия. Обе девушки, по-видимому, забыли о присутствии льва, то ли готовившегося к броску, то ли пока затаившегося.
– Мне нужно идти, – сказала я, буквально всучив картину удивленному Лори.
Молодой человек, стихи, «Дюбонне», замужество Синт, картина… Внезапно мне захотелось остаться одной.
Лори взял у меня полотно и закрыл багажник. Потом посмотрел на меня сверху вниз, склонив голову набок.
– У тебя все в порядке? Хочешь, я тебя провожу?
– Да, – ответила я. – То есть нет… У меня все в порядке. У меня все хорошо Спасибо. Извини. Была рада знакомству. Удачи тебе.
Я повернулась и направилась ко входу в многоквартирный дом. Лори окликнул меня.
– Эй, Оделль!
Я обернулась. Он стоял, сунув руки в карманы кожаной куртки и снова ссутулившись.
– Я… знаешь… у тебя и вправду хорошее стихотворение.
– Это всегда требует больше времени, чем вы думаете, мистер Скотт, – сказала я.
Он засмеялся, и я тоже искренне улыбнулась, испытывая облегчение оттого, что больше не стояла в свете уличного фонаря.
5
Когда я была маленькой, мы с мамой каждое воскресенье приходили на обед в дом Синт. Четыре часа дня, большой котелок на плите, каждый подходит и сам зачерпывает себе еду – а после обеда, в половине восьмого, мы придвигали стулья поближе к радиоприемнику и слушали программу Би-би-си «Карибские голоса», единственную передачу, которая имела значение для того, кто мечтал стать писателем.
И вот какая в высшей степени странная вещь: поэты из Барбадоса, Тринидада, Ямайки, Гренады, Антигуа – любой части Карибов – отправляли свои произведения в Буш-хаус, расположенный в лондонском Олдвиче, чтобы у себя на родине, на другом конце Атлантики, в тысячах миль от Лондона, слушать собственные произведения по английскому радио. Вероятно, на островах не было возможности самим передавать тексты своих авторов по радио, и я с раннего детства была под большим впечатлением от того факта, что, если бы я захотела стать писательницей, мне потребовалось бы получить одобрение от метрополии, добиться имперской резолюции о том, что мои слова пригодны для трансляции в эфире.
В основном передавали произведения мужчин, но с особым восхищением я воспринимала слова и голоса Уны Марсон[13], Глэдис Линдо[14], Констанс Колльер[15], а тут еще и Синт восклицала: «Когда-нибудь и тебя будут читать, Делли», и, глядя на ее маленькое сияющее лицо в обрамлении косичек, я всегда готова была поверить ее предсказаниям. Еще в семилетнем возрасте Синт оказалась единственной, кто всегда побуждал меня не оставлять моих стараний. К 1960 году программа закончила свое существование, а через два года я приехала в Англию, не имея ни малейшего представления о том, что мне делать с моими произведениями. Работа в обувном магазине отнимала слишком много времени, теперь я писала только оставшись в одиночестве, и Синт, вероятно видевшая стопки записных книжек, никогда не покидавших моей спальни, больше уже не пытала меня на эту тему.
Они с Сэмом подыскали себе съемную квартиру в Квинс-парке, и Синт перешла на работу в филиал «Дольчиз» в северной части Лондона. До того момента я, пожалуй, и не знала, что такое одиночество. У меня всегда были мои книги и конечно же Синт. Внезапно идеи мои показались мне огромными в крошечной квартирке, потому что некому было их услышать и заверить меня в том, что их можно реализовать; больше никто не утешал меня, не поддерживал, не протягивал руки для объятия. Я физически ощущала отсутствие Синт. Есть ли у вас тело, когда к нему никто не прикасается? Наверное, есть, но иногда мне казалось, что я бесплотна, будто я мозг, расплывающийся по комнатам. Как же плохо я подготовилась к эху и звяканью ключа в замке, к отсутствию шкворчащей сковородки Синт, к одиночеству моей зубной щетки, к тишине там, где раньше моя подруга мурлыкала свои любимые песни.
Когда каждый день видишь человека – человека, который тебе нравится, который делает тебя выше, – то становишься лучшей версией самого себя, не прилагая при этом особых усилий. А теперь я уже не казалась себе такой интересной, такой умной. Никто, кроме Синт, не хотел слушать мои стихи, никто, кроме нее, не придавал значения тому, откуда я, не понимал этого. Я не знала, как Оделль будет существовать без помощи Синт. Синт столько для меня сделала, но поскольку теперь ее не было рядом, я умудрилась начать ее презирать.
Обремененные рабочими обязательствами, мы могли встречаться только раз в две недели, в кафе «Лайонс» на Крейвен-стрит, по соседству со Скелтоном. Едва ли я придавала значение тому факту, что наши встречи всегда устраивала Синт.
Официантка так плюхнула наши чашки на барную стойку, что расплескала кофе, а заказанная мной булочка оказалась самой скукоженной. Мою просьбу заменить блюдце официантка попросту проигнорировала, а когда я расплатилась, она даже не положила сдачу мне в руку. Не глядя на меня, она шмякнула деньги на стойку и подтолкнула их ко мне. Я повернулась к Синт и увидела знакомое выражение лица. Мы пошли искать свободный столик – желательно как можно дальше от барной стойки.
– Как дела на работе? – спросила подруга. – Все еще таскаешься за этой Марджори Квик?
– Она мой босс, Синтия.
– Так я тебе и поверила.
А ведь если вдуматься, я и сама не осознавала, насколько явным было влияние, оказанное на меня Квик. Я пыталась побольше выведать о ней у Памелы, но та знала только одно: как-то раз Квик упомянула, что провела детство в графстве Кент. Ее деятельность в период между детством и зрелым возрастом была окутана мраком неизвестности. Возможно, Квик была уготована респектабельная жизнь в графстве Кент, она могла стать женой судьи или кем-то вроде того, но вместо этого выбрала иную судьбу среди развалин послевоенного Лондона. Ее имени не было в «Дебретте»[16], она не принадлежала к семейству Скелтонов, вопреки одному из моих первоначальных предположений. Ее манера одеваться безупречно буквально излучала власть, заботу о себе любимой – в этом была только ее выгода, больше ничья. Каждая совершенная блузка, каждая идеальная пара брюк служили упреждающим заявлением о своем «я». Одежда Квик была ее доспехами, сделанными из шелка.
Я узнала, что она не замужем и живет в Уимблдоне, совсем рядом с парком. Заядлая курильщица. Их отношения с Ридом можно было уподобить союзу воды с камнем, который она точит десятилетиями. По словам Памелы, Квик работала в институте столько же, сколько и Рид, а он принял руководство Скелтоном в тысяча девятьсот сорок седьмом, двадцать лет назад. Каким образом она познакомилась с Ридом или почему решила поступить сюда на службу, оставалось загадкой. Интересно знать, в каких битвах ей приходилось сражаться для достижения своего нынешнего положения и обращалась ли она к истории Древнего Рима, чтобы овладеть искусством войны.
– Никогда не встречала таких, как она, – призналась я подруге. – То дружелюбно настроена, прямо луч света. И через минуту – не женщина, а щетка из свиной щетины, такая жесткая, что даже рядом стоять больно.
Синт вздохнула.
– Мы купили себе в квартиру хороший «План Г».
– Какой-какой план?
– Ох, Делли… Сэм пашет как проклятый, вот я и сказала ему: давай-ка мы с тобой купим хороший диван «План Г», чтобы ты хоть ноги-то задрал после рабочего дня.
– Гм… Ну, и как ноги-то?
Подруга опять вздохнула, помешивая ложкой остывающий чай.
– Ох, я тебе вот что скажу. Значит, наш новый почтальон перепутал письма, и вот соседка стучится к нам. – Прочистив горло, Синт постаралась говорить тоном, принятым в высшем английском обществе: – «Ах, здравствуйте. Это, вероятно, ваше. Мы заметили на нем черный штемпель». А письмо-то было из Лагоса, Делли. Имя на нем не мое, да я и не знаю никого из Нигерии. «Черный» штемпель – нет, ну ты подумай, а?
Ее смех сошел на нет. Обычно мы бы долго обсуждали подобную ситуацию, чтобы она не так больно ранила нас, но после встречи с официанткой у нас уже просто не осталось сил.
– Расскажи-ка мне о том парне, с которым ты разговаривала на свадьбе, – с хитрым видом попросила Синт.
– Какой еще парень?
Синт закатила глаза.
– Лори Скотт. Белый, красивый, худой. Он друг Барбары, которая с Патриком. Не так уж я много «Дюбонне» выпила – видела вас с ним на кухне.
– А, этот. Глупый он какой-то.
– Гм, – промычала Синт, в глазах ее сверкнул тайный огонек, и я поняла, что выдала себя. – Странно.
– Почему?
– Патрик сказал Сэму, что он о тебе спрашивал.
Я сжала губы плотнее, чем моллюск – створки раковины, и Синт ухмыльнулась.
– Ты как, пишешь? – поинтересовалась она.
– Раз ты завела разговор на эту тему, уходи.
– Я не уйду. Я живу на другом краю карты метро, вот и все.
– Ой, можно подумать, ты переживаешь, что мне сейчас нечем заняться. Не волнуйся, я пишу, – заявила я, хотя это была заведомая ложь. Именно тогда я совсем перестала писать, убежденная в том, что писательница из меня – курам на смех.
– Хорошо. Рада, что пишешь, – твердо сказала Синт. – Знаешь, в Институте современного искусства вечер поэзии, – продолжала она. – Друг Сэма читает, а он-то реально глупый парень по сравнению с тобой. Его стихи меня в сон вгоняют…
– Нет уж, Синтия, я не читаю свои стихи на каких-то там встречах, – перебила я ее, наморщив нос. – Можешь не сомневаться.
Подруга вздохнула.
– Не сомневаюсь. Просто ты лучше, Оделль. Ты лучше, и ты это знаешь, а ничего не делаешь.
– Вот те на! – воскликнула я. – Я занята. Работаю. Ты давай там, следуй своему «Плану Г» и кончай с этой ерундой. Что, раз у меня нет мужа, чтобы волноваться о его ногах, я должна неизвестно где читать свою поэзию и все такое?
Синтия смотрела на меня растерянно.
– Делли! Что ты так взъелась? Я же только пытаюсь помочь.
– Я не взъелась, – сказала я, залпом допив свой чай. – Тебе-то, конечно, это кажется нормальным, но не надо учить меня жить.
После этого Синт молчала. Мне надо было попросить у нее прощения там же и тогда же, но я этого не сделала. Скоро она ушла, с осунувшимся, заплаканным лицом, и я казалась себе чудовищем, вышедшим из моря, чтобы схватить ее за ноги.
Мы не встретились ни на следующей неделе, ни через две недели, и она не позвонила. Я тоже не позвонила, не в силах преодолеть стыд, чувствуя себя такой дурой, – «реально глупой девицей», как, по всей вероятности, тем же вечером описала меня Синтия Сэму. Чем дольше она не звонила, тем сложнее мне было самой снять трубку.
На самом деле я хотела, но не могла сказать, что скучаю по тому времени, когда мы жили вместе. Это при том, что из нас двоих именно я считалась человеком, хорошо владеющим словом.
6
Лори нашел меня пятнадцатого августа в семь часов утра. У меня как раз было раннее дежурство в приемной. Магазины еще не открылись, автобусы на Чаринг-Кросс попадались реже. Я направилась к Пэлл-Мэлл – тогда эта длинная улица, как правило оживленная, являла собой пустынную дорогу в зеленоватом освещении. Уже целую неделю шел дождь, и булыжники мостовой были мокрыми от рассветного ливня, а ветви деревьев колыхались на легком ветру, точно побеги водорослей под водой.
Видала я дожди и посильнее, чем тот, поэтому особого значения ему не придала – разве что засунула купленную для Памелы «Дейли экспресс» поглубже в сумку, чтобы уберечь ее от капель, – и проследовала сначала по Карлтон-гарденз, а затем и через круглый центр Скелтон-сквер. Прошла мимо постамента, на котором, украшая центр площади, высился один давно умерший государственный деятель, человек с пустыми глазами, чей сюртук был совершенно изгваздан голубями. Раньше я бы непременно выяснила, кто он такой, однако пять лет, проведенных в Лондоне, напрочь отбили у меня желание интересоваться викторианскими стариками. Устремленные в бесконечность глаза статуи вызвали у меня чувство еще большего утомления.
Я взглянула на институт. У его дверей стоял молодой человек, высокий и худой, одетый в слегка потертую кожаную куртку. У него было узкое лицо и темно-каштановые волосы. Подойдя ближе, я поняла: это он. Горло у меня сжалось, в животе екнуло, а сердце отчаянно забилось о грудную клетку. Доставая из сумки ключ от дверей института, я подошла к крыльцу. На этот раз Лори был в очках, их стекла поблескивали в свете, казалось, шедшем из-под земли. Под мышкой он держал сверток, завернутый в коричневую бумагу, в такую обычно мясники заворачивают куски мяса.
– Привет, – с улыбкой сказал Лори.
Что значило для меня увидеть улыбку Лори? Попробую сформулировать: было такое чувство, словно целитель положил руки мне на грудь. Мои колени превратились в желе, челюсть задрожала, в горле встал ком. Хотелось обхватить его руками и крикнуть: «Это ты! Ты пришел!»
– Привет, – вместо этого выдавила я. – Чем могу помочь?
Его улыбка померкла.
– Разве ты не помнишь? Мы познакомились на свадьбе. Я пришел вместе с бандой Барбары. Ты читала стихи и отказалась пойти со мной танцевать.
– Я помню, – насупившись, сказала я. – Как поживаешь?
– Как я поживаю? И ты даже не спросишь, почему я здесь?
– Сейчас семь часов утра, мистер…
– Скотт, – проговорил он. Лицо его больше не сияло. – Лори Скотт.
Я прошла мимо него и стала возиться с ключом, пытаясь вставить его в замок. Что со мной не так? Несмотря на все мои фантазии о развитии этого сюжета, теперь, когда мечты стали воплощаться в жизнь, я, как и раньше, старалась забаррикадироваться от Лори. Я прошмыгнула внутрь, и он последовал за мной.
– Ты здесь, чтобы с кем-то увидеться? – спросила я.
Лори пристально посмотрел на меня.
– Оделль, я побывал во всех художественных галереях, во всех музеях этого гребаного города, чтобы тебя найти.
– Найти меня?
– Да.
– И вы, ой, ты пять недель не мог меня найти? Тебе ведь ничего не стоило спросить Патрика Майнамора.
Лори рассмеялся.
– Ага, значит, ты считала.
Залившись краской, я отвела глаза и постаралась сосредоточиться на корреспонденции. Он протянул мне сверток в коричневой бумаге и сказал:
– Я принес девушек со львом.
Мне было трудно скрыть подозрение, звучавшее в голосе.
– Что это?
Лори улыбнулся.
– Картина моей матери. Я последовал твоему совету. Как думаешь, найдется ли кто-то, кто сделает для меня оценку картины?
– Конечно найдется.
– Я навел справки об инициалах, на которые ты мне указала, – «И. Р.». Увы, не нашел ни одного художника с такими инициалами. Наверное, картина ничего не стоит.
– Ты планируешь ее продать? – спросила я.
Я обогнула деревянный стол, чувствуя, как голова у меня идет кругом, а сердце тревожно колотится. Никогда в жизни мне не приходилось так откровенно говорить с мужчиной.
– Возможно. Поглядим, что из этого выйдет.
– Но я думала, что твоя мама больше всего на свете любила эту картину, не так ли?
– Моя мама больше всего любила меня, – ответил Лори, с мрачной улыбкой положив сверток на стол. – Я просто пошутил. Не хочу продавать ее, но если она чего-то стоит, это будет для меня хорошим стартом. Понимаешь, в любую минуту Джерри-ублюдок – прости за мой французский – может вышвырнуть меня на улицу.
– А разве ты не работаешь?
– Работаю?
– Ну, разве у тебя нет работы?
– Я работал. Раньше.
– В далеком и смутном прошлом?
Лори скорчил рожу.
– Видно, ты не одобряешь такого поведения.
По правде говоря, я не одобряла людей, которые не работают. Все, кого я знала со времени приезда в Лондон – Синт, девочки в обувном магазине, Сэм, Патрик, Памела, – все мы работали. Весь смысл пребывания в Лондоне сводился к тому, чтобы иметь работу. Там, откуда я приехала, только собственная работа помогала человеку пробудиться от долгого сна, сопровождавшего жизнь целых поколений, которым приходилось надрываться в поле. Только так можно было вырваться из замкнутого круга. Трудно изменить принципам, которые тебе внушают всю твою жизнь, в особенности если они возникли задолго до твоего рождения.
Лори вперил взгляд в коричневую оберточную бумагу.
– Это долгая история, – промолвил он, чувствуя неодобрение с моей стороны. – Я не закончил университет. Дело было пару лет назад. Моя мать не… впрочем, не имеет значения. Но я хотел бы начать с нуля.
– Ясно.
Он стоял, сунув руки глубоко в карманы кожаной куртки, и выглядел смущенным.
– Понимаешь, Оделль, я ведь не тунеядец. Я действительно хочу что-то делать. И ты должна об этом знать. Я…
– Могу я предложить тебе чашку чая? – перебила я его.
Он замолк, не закончив фразу.
– Чай. Да. Боже мой, еще так рано, правда? – со смехом выпалил он.
– А что, ты бы так и стоял, дожидаясь меня?
– Да, – ответил Лори.
– Ты ненормальный.
– Это кто еще ненормальный? – спросил он, и мы улыбнулись друг другу.
Я посмотрела на его бледное лицо и сказала:
– Знаешь, хоть у тебя и нет работы, моя мама все равно бы подумала, что ты совершенство.
– С чего бы ей так думать? – поинтересовался он.
Я вздохнула. Было слишком раннее утро, чтобы объяснять.
Мы провели вдвоем в приемной около часа. Я заперла входную дверь, разобрала почту, заварила чай и кофе – в течение всего рабочего дня мы с Памелой должны были заботиться о свежести этих напитков. Надо сказать, Лори пришел в такой неописуемый восторг от чашки горячего чая, словно пил его впервые в жизни.
Он рассказал мне о похоронах матери.
– Это было просто ужасно. Джерри прочитал стихи об умирающей розе.
Я поспешила прикрыть ладонью рот, чтобы Лори не заметил моей улыбки.
– Что ты, смейся на здоровье, – подбодрил меня он. – Моя мать смеялась бы. Ей бы жутко не понравилось, к тому же она розы терпеть не могла. Вдобавок Джерри отвратительно читает стихи. В жизни не слышал, чтобы кто-то так плохо читал. Как будто у него затычка в заднице. А священник вообще маразматик. И пришло всего человек пять, не больше. В общем, это был гребаный кошмар, и мне противно, что ей пришлось через это пройти.
– Мне жаль, – промолвила я.
Он вздохнул, вытянув ноги.
– Ты не виновата, Оделль. Так или иначе, все кончено. Да покоится она с миром и все такое. – Он потер лицо, словно пытаясь стереть воспоминание. – А ты? Как тебе живется без подруги?
Меня тронуло, что он помнит.
– Нормально, – сказала я. – Разве что слишком тихо.
– Я думал, ты любишь тишину.
– Как ты догадался?
– Ты не отказалась идти во «Фламинго».
– Речь о другой тишине, – ответила я.
Мы и сами тогда сидели тихо: я – за столом, он – напротив меня, ожидающий решения коричневый сверток – на деревянной поверхности стола. Мне нравилась такая тишина, теплая и наполненная, мне нравилось, как он сидит – ненавязчиво и в то же время искрясь особым светом, который я заметила еще при первой нашей встрече.
Мне он казался очень красивым. Доставая из сумки «Дейли экспресс» для Памелы и делая вид, что привожу в порядок стол, я наделась, что Памела каким-то чудом задержится. На родине у меня была парочка «увлечений», как называла их моя мать: мы держались за руки в темноте «Рокси»[17], ходили за хот-догами после лекций, неуклюже целовались на концерте в «Доме принца»[18], устраивали поздние пикники на Питч-уок, где любовались мотыльками в голубоватом свете. Но я никогда… не доходила до конца.
Я вообще старалась избегать мужского внимания, находя весь процесс ухаживания мучительным. «Свободная любовь» обошла нас, школьниц Порт-оф-Спейн, стороной. Наше католическое образование было пережитком Викторианской эпохи, в нем явственно звучала тема падших женщин, безвозвратно погубленных девушек, увязающих в болоте собственной глупости. Нам внушали мысль, что мы слишком возвышенны для такого рода плотских контактов.
К сексу я относилась с высокомерным страхом, сбитая с толку тем фактом, что некоторые девушки им все-таки занимались, – например, Листра Уилсон или Доминик Мендес, причем с более взрослыми парнями. Судя по таинственности, сквозившей во взгляде этих девиц, они очень даже неплохо проводили время. Где они находили этих парней, всегда оставалось для меня загадкой, но, безусловно, этот процесс предполагал, что они нарушают запреты взрослых, вылезают из окна спальни и пробираются в ночные клубы возле Федерик-стрит и Марин-сквер. Насколько я помню, Листра и Доминик – те самые рисковые девчонки – похоже, были женщинами с момента своего рождения; они напоминали русалок, женственных и властных, которые приплыли к берегу, чтобы жить среди людей. Неудивительно, что мы, трусишки, предпочитали зарыться в книгах. Мы считали секс ниже своего достоинства, потому что он был для нас недосягаем.
Входная дверь Скелтоновского института все еще была заперта. Мне так не хотелось, чтобы это кончилось: в задней комнате насвистывал чайник, предлагая еще чаю, Лори то вытягивал, то подбирал под себя ноги, спрашивая, какие фильмы я смотрела, как я могла не видеть такого-то фильма, что мне нравится больше – блюз или фолк, сколько месяцев я здесь проработала и нравилось ли мне жить в Клэпхеме. Надо признать, Лори всегда умел показать человеку, что тот для него важен.
– Хочешь, сходим в кино? – предложил он. – Мы могли бы посмотреть «Живешь только дважды»[19] или «Шутников»[20].
– «Шутников»? Это специально для тебя фильм, наверное.
– Там играет Оливер Рид – он великолепен, – сказал Лори, – но, боюсь, всякие криминальные выкрутасы для тебя просто пшик.
– Пшик? Почему ты так думаешь?
– Потому что ты умная. Ты бы сочла оскорблением, если бы я повел тебя смотреть фильм про каких-то болванов, которые гоняются за королевскими драгоценностями.
Я засмеялась, довольная своим открытием насчет того, что и Лори испытывал нервное напряжение из-за всего происходящего с нами, и растроганная тем, что он не побоялся мне в этом признаться.
– Или ты хочешь посмотреть один из тех французских фильмов, – спросил он, – где люди просто фланируют по комнатам, глядя друг на друга?
– Давай сходим на Бонда.
– Хорошо. Отлично. Отлично! Мне так понравился «Голдфингер»[21] – чего стоила одна только шляпа-ко- телок!
Я снова засмеялась, Лори подошел ближе к столу и взял мою руку в свою. Я замерла, глядя на руку.
– Оделль, – проговорил он, – я думаю… то есть я хочу сказать, ты…
– Что?
– Ты просто…
Он все еще держал меня за руку. И впервые в жизни я не хотела, чтобы мужчина меня отпускал.
За окном снова хлестал дождь. Я отвернулась – меня отвлек шум воды за дверью, потоки каскадом лились на серую мостовую. Лори наклонился и поцеловал меня в щеку. Я повернулась к нему, и он снова меня поцеловал. От этого стало совсем хорошо, и мы в течение нескольких минут целовались, не покидая приемной Скелтоновского института.
Наконец я вырвалась из объятий.
– Меня из-за тебя уволят.
– Ладно. Этого нельзя допустить.
Он вернулся на свой стул, по-идиотски улыбаясь. Дождь начал барабанить сильнее, но все же это был английский, а вовсе не тринидадский дождь. У меня на родине напоенные воздухом водопады обрушивались из разверзшихся небес, тропические ливни хлестали неделями, а зелень лесов увлажнялась настолько, что казалась почти черной. Погасшие неоновые вывески, склоны холмов, превращенные в грязное месиво, цветки этлингеры высокой[22], такие красные, как будто лепестки пропитаны кровью, – и всем нам приходилось прятаться под навесом или укрываться в домах, пока не появлялась возможность пройтись по блестящему после дождя асфальту. С помощью фразы «дождь идет» мы объясняли свои опоздания, и все понимали, о чем идет речь.
– Что? – прервал мои размышления Лори. – Почему ты улыбаешься?
– Да так, – ответила я. – Ничего особенного.
И тут раздался стук. Это Квик смотрела в комнату сквозь дверное стекло, выглядывая из-под широкого черного зонтика.
– Ох! – воскликнула я. – Она рано.
Я побежала к двери и открыла ее, благодаря Бога за то, что Квик не застала нас целующимися. Она вошла, и лицо ее показалось мне более худым, чем раньше. Квик отряхнула плащ и зонтик.
– Август, – пробормотала она.
Потом подняла голову и заметила Лори.
– Вы кто? – спросила она, насторожившись, точно кошка.
– Это… мистер Скотт, – вмешалась я, удивленная ее прямотой. – Он хотел бы с кем-то переговорить о своей картине. Мистер Скотт, это мисс Квик.
– Мистер Скотт? – переспросила она, не сводя с него глаз.
– Приветствую! – воскликнул Лори, вскакивая со стула. – Да, я хотел узнать, что тут у меня – фамильная ценность или никому не нужный хлам.
Он протянул руку для пожатия, а Квик, как будто сопротивляясь сильному притяжению, медленно протянула ему свою. От меня не ускользнуло, что она вздрогнула, но Лори этого не заметил.
Квик слабо улыбнулась.
– Надеюсь, для вашего же блага, мистер Скотт, что это первое.
– И я надеюсь.
– Могу я взглянуть?
Лори подошел к столу и начал разворачивать сверток. Квик осталась там, где стояла, пальцы ее крепко вцепились в ручку зонтика. Она продолжала пристально смотреть на Лори. Плащ у нее был совершенно мокрый, но она его не снимала. Широким жестом Лори поднял картину как можно выше, чтобы мы с Квик могли ее получше разглядеть.
– А вот и она.
Четыре или пять секунд Квик стояла, не в силах оторвать глаз от золотого льва, от девушек, от пейзажа, разворачивающегося у них за спиной. Зонтик выскользнул у нее из рук и шлепнулся на пол.
– Квик? – встревожилась я. – С вами все в порядке?
Она посмотрела на меня, резко повернулась и выбежала на улицу.
– Ну, картина не настолько плоха, – промолвил Лори, глядя вслед Квик поверх картины.
Тем временем Квик спешила через площадь, наклонив голову и совершенно не обращая внимания на дождь, из-за которого промокла до нитки. Едва я потянулась за своим плащом, явился Эдмунд Рид.
Сняв фетровую шляпу, с которой капала вода, Рид посмотрел на меня сверху вниз.
– Мисс… Бастон, если не ошибаюсь?
– Бастьен.
– И куда это вы собрались бежать?
– Я должна догнать мисс Квик. Она… забыла свой зонтик.
– У меня с ней назначена встреча.
Рид повернулся туда, где теперь снова сидел Лори; тот держал на коленях картину, поспешно завернутую в коричневую бумагу.
– А это кто?
– У мистера Скотта есть картина, – пролепетала я.
– Это я вижу. Не многовато ли здесь суматохи для восьми пятнадцати утра? И где мисс Радж?
– Сегодня я дежурю в утреннюю смену, мистер Рид. Мистер Скотт пришел сюда в этот час в надежде, что кто-то посмотрит его полотно. Оно принадлежало его матери… ее любимое…
Я умолкла, отчаявшись догнать Квик и удостовериться, что с ней все в порядке.
Рид снял свое мокрое пальто с медленной осмотрительностью, как будто я водрузила на его плечи непосильное бремя. Он оказался высоким крупным человеком, сразу заполнившим пространство своей превосходно сшитой одеждой и копной светлых волос, а также древесным запахом лосьона после бритья.
– А вы заранее договорились о встрече? – спросил он Лори, нетерпеливо поблескивая маленькими голубыми глазами.
– Нет, сэр.
– Ну, знаете ли, к нам нельзя просто так забежать. Такие вещи не делаются подобным образом.
Лори напрягся, тихо шурша коричневой бумагой.
– Я знаю.
– Что-то я в этом сомневаюсь. Пускай мисс Бастьен запишет вас на следующую неделю. Сегодня у меня нет на это времени.
Рид повернулся к двери, из которой только что выбежала Квик.
– Какого черта Марджори убежала таким манером? – спросил он.
Раньше я не видела Рида столь обеспокоенным. Когда он снова повернулся к нам, Лори встал, и обрывок коричневой бумаги упал на пол. Рид замер на месте, и его взгляд упал на обнажившийся фрагмент картины, где был изображен золотой лев.
– Это ваше? – обратился он к Лори.
Тот, опустив глаза, стал поднимать бумагу.
– Да, – с осторожностью ответил он. – Точнее… моей матери. Теперь мое.
Рид приблизился к картине, но Лори отшатнулся и выставил руку вперед, словно защищаясь.
– Погодите, – сказал Лори. – Вы сказали, что сегодня у вас нет времени. Вы сказали – на следующей неделе. Хотя к тому моменту, – добавил он, – я, быть может, отнесу ее в другое место.
– Вот как, – произнес Рид, поднимая руки вверх. – Я просто хотел поближе взглянуть на картину. Пожалуйста, позвольте, – добавил он, что, вероятно, стоило ему больших усилий.
– Почему? Минуту назад вам было наплевать.
Рид засмеялся; в его веселости проступала нервозность.
– Послушайте, дружище, извините, если я был резок. Сюда приходит черт знает сколько людей с фамильными ценностями тети Эдны или с чем-то, что они купили за три фунта у какого-нибудь чувака на Брик-лейн, и от этого немного устаешь. Но то, что принесли вы, кажется мне интересным. Если позволите взглянуть, я, возможно, смогу объяснить почему.
Поколебавшись, Лори положил картину обратно на стол и снял с нее остатки оберточной бумаги. Рид подошел к картине и начал жадно впитывать увиденное. Его пальцы замерли над полотном – над головой второй девушки, над ее змеящейся косой, над неподвижным взглядом льва.
– Боже мой, – выдохнул Рид. – Откуда у вашей матери эта картина?
– Я не знаю.
– А вы можете ее спросить?
Лори взглянул на меня.
– Она умерла.
– Вот как… – Рид колебался. – А… у вас есть соображения на тот счет, где она могла ее приобрести?
– Она покупала большую часть вещей в лавках старьевщиков или на блошиных рынках, иногда на аукционах, но это полотно хранилось у нее еще с тех пор, когда я был ребенком. Оно всегда висело у нее на стене, мать брала его с собой, куда бы мы ни переезжали.
– И где же картина висела в последний раз?
– В ее доме в Суррее.
– А она когда-нибудь говорила вам о картине?
– С чего бы матери о ней говорить?
Рид аккуратно взял полотно и посмотрел, что у него на обороте.
– Рамы нет, только крюк, – пробормотал он. – Что ж, – продолжил он, обращаясь к Лори. – Если ваша мать всегда вешала это полотно на стену, должно быть, оно имело для нее особое значение.
– Думаю, она просто считала его красивым, – предположил Лори.
– Красивое – не то слово, которое я бы употребил в этом случае.
– А какое слово употребили бы вы, сэр?
Рид сделал вид, что не заметил иронии в тоне Лори.
– По первому впечатлению, картина смелая. Кстати, мистер Скотт, происхождение картины имеет значение, если вы решите показать ее на выставке или продать. Полагаю, вы ведь поэтому к нам ее принесли.
– Значит, она чего-то стоит?
Последовала пауза. Рид сделал глубокий вдох и пристально посмотрел на картину.
– Мистер Скотт, могу я пригласить вас в свой кабинет, чтобы мы рассмотрели ее поближе?
– Согласен.
– Мисс Бастьен, принесите кофе.
Рид взял картину и жестом показал Лори, чтобы тот следовал за ним. Я наблюдала, как они поднимаются по винтовой лестнице. Лори взглянул на меня, обернувшись через плечо; глаза его расширились от возбуждения, он показал мне большой палец.
На улице дождь хлестал бурным потоком. Я прочесала площадь в поисках Квик, но конечно же ее здесь уже не было. Держа ее зонтик сложенным, точно копье, я побежала вдоль левой стороны площади в сторону Пикадилли, в слепой надежде встретить ее там. Затем я повернула направо, бессознательно двигаясь в сторону станции метро, и тут увидела ее через квартал от меня. Проезжая часть гудела и визжала, статуя Эроса маячила за плотной стеной дождя.
– Квик! – завопила я. – Ваш зонтик!
Люди стали на меня оборачиваться, но мне было все равно. Квик все еще спешила в противоположном от меня направлении, и тогда я побежала быстрее, пытаясь дотянуться до ее руки. С молниеносной скоростью она вырвалась от меня и резко крутанулась на месте. Ее взгляд было устремлен в какую-то точку, находившуюся далеко за шумной магистралью, за высокими закопченными зданиями, за пестрыми рекламными щитами, за пешеходами, которые с отчаянным видом прыгали между лужами. Потом Квик пристально посмотрела на меня, почти с облегчением. Она промокла до нитки, но, глядя на ее совершенно мокрое лицо, трудно было сказать, дождь это или слезы.
– Я кое-что забыла, – промолвила она. – Дома… я забыла… мне нужно вернуться и взять.
– Вот, – сказала я, – ваш зонтик. Давайте я вызову вам такси.
Квик посмотрела вниз на свой зонтик, а потом подняла глаза на меня:
– Вы промокли, Оделль. И зачем вы только побежали?
– Потому что… ну, потому что вы побежали. Посмотрите, в каком вы состоянии.
Я положила руку на ее мокрый рукав, и она быстро взглянула на нее. Меня удивило, насколько худой оказалась ее рука на ощупь.
– Давайте.
Квик взяла зонтик у меня из рук и раскрыла его над нашими головами. Мы уставились друг на друга под черным пологом. Было слышно, как ревет дождь, обрушиваясь на хрупкую конструкцию зонта, нас задевали прохожие, по-видимому, носившиеся по улице в поисках укрытия. Кудри Квик были спутаны и примяты к голове; пудру смыло с ее лица, и теперь я могла видеть текстуру ее настоящей кожи – как ни странно, без косметики это лицо скорее напоминало маску. Мне показалось, Квик хотела что-то сказать, но, похоже, осеклась.
– О господи, – пробормотала она, на секунду закрыв глаза. – Это же чертов муссон!
– Вызвать вам такси?
– Доеду на метро. У вас случайно не найдется сигареты?
– Нет, – смущенно ответила я. Вообще-то Квик могла бы уже запомнить, что я не курю.
– Этот человек – как он оказался в Скелтоне? – спросила она. – Вы его знаете? Похоже, что вы его знаете.
Я опустила глаза. Огромные лужи возникали вокруг наших туфель. Я вспомнила о том, что должна была сварить кофе; интересно, сколько еще времени я могла отсутствовать, прежде чем меня уволят?
– Я общалась с ним только один раз – на свадьбе Синт. Он разыскал меня и пришел сюда сегодня.
– Разыскал вас? Весьма настойчивое поведение. Он ведь… не доставляет вам беспокойства?
– Вовсе нет. Он славный, – сказала я, словно пытаясь его защитить.
Почему Квик спрашивает о Лори, хотя сама так странно себя ведет?
– Что ж, хорошо. – Похоже, Квик немного пришла в себя. – Послушайте, Оделль… мне нужно идти. Скажите ему, чтобы не беспокоил вас своей картиной.
– Мистер Рид ее уже видел.
– Что?
– Он пришел вскоре после вашего ухода. Сказал, что у вас с ним запланирована ранняя встреча. Он только один раз взглянул на полотно и сразу же понес его к себе в кабинет.
Она смотрела поверх моего плеча в направлении Скелтоновского института.
– И что сказал мистер Рид, когда увидел картину?
– Кажется, он… заинтересовался.
Квик опустила глаза, и по выражению ее лица стало трудно понять, что она чувствует. В ту минуту она выглядела очень старой. Она схватила мою руку и сжала ее.
– Благодарю вас, Оделль… за мой зонтик. Вы прямо-таки трибун, самый настоящий. Но возьмите его, я спускаюсь в метро. Возвращайтесь в офис.
– Квик, подождите…
Она сунула зонтик мне в руку и поспешила вниз по лестнице, ведущей на станцию. Прежде чем я успела еще раз ее позвать, она исчезла.
1
Район на юго-западе Лондона.
2
Американ Джеймс Макги (р. 1972) – геймдизайнер из США, прославившийся благодаря разработке компьютерных игр American McGee’s Alice и Alice: Madness Returns. В данном случае Страшила – персонаж игры.
3
Искусство побеждает все (лат).
4
Бомбардировка Великобритании нацистской Германией в период с 7 сентября 1940 г. по 10 мая 1941-го, часть Битвы за Британию. Были убиты более 40 тысяч мирных жителей. Большое количество домов в Лондоне были разрушены или повреждены.
5
Железнодорожная станция и вокзал в Лондоне.
6
Вымышленное поместье, находившееся во владении Фицуильяма Дарси, героя романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».
7
Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889) – английский поэт, один из крупнейших признанных новаторов в литературе XIX в.
8
Эзра Паунд (1885–1972) – американский поэт, переводчик, критик, редактор. Одна из ключевых фигур в английской и американской литературе XX в.
9
Квик (англ. quick) – быстрый, проворный.
10
Битва при Пашендейле (третья битва при Ипре) (11 июля – 10 ноября 1917 г.) – одно из крупнейших сражений Первой мировой войны между союзными (под британским командованием) и германскими войсками.
11
Писатели Нэнси Митфорд и Ивлин Во, известные остроумцы и близкие друзья, оставили обширную переписку.
12
Дочь (бходжпури). Официальным языком Тринидада является английский, но многие жители используют также индоарийский язык бходжпури и тринидадский креольский на основе английского.
13
Уна Марсон (1905–1965) – активистка феминистического движения с Ямайки, поэт, драматург, автор просветительских программ для Би-би-си.
14
Глэдис Линдо – поэт, активистка, куратор программ Би-би-си «Карибские голоса» на Ямайке.
15
Констанс Колльер (1878–1955) – британская актриса и педагог.
16
Ежегодный справочник дворянства.
17
Кинотеатр в Порт-оф-Спейн.
18
Деревянное здание, построенное в 1861 г. и названное в честь принца Альфреда. Место проведения концертов, карнавалов и других развлекательных мероприятий.
19
Пятый фильм о суперагенте британской разведки Джеймсе Бонде.
20
Криминальная комедия, снятая Майклом Уиннером в 1967 г.
21
Третий фильм «Бондианы».
22
Многолетнее растение семейства имбирные.