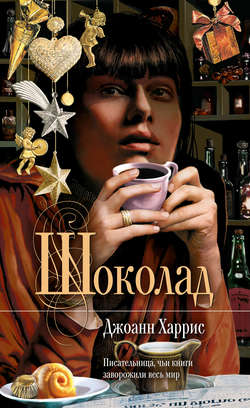Читать книгу Шоколад - Джоанн Харрис - Страница 1
1
Оглавление11 февраля
Вторник на Масленой неделе
Мы прибыли сюда с карнавалом. Нас пригнал ветер, не по-февральски теплый ветер, что полнится горячими сальными ароматами шкворчащих лепешек, сосисок и посыпанных сладкой пудрой вафель – их пекут на раскаленной плите прямо у обочины. В воздухе дурацким противоядием от зимы вихрится конфетти, скользит по рукавам, манжетам и в конце концов оседает в канавах. Люди лихорадочно толпятся вдоль узкой главной улицы, тянут шеи, хотят разглядеть обитую крепом повозку – за ней тянется шлейф из лент и бумажных розочек. Анук – в одной руке желтый воздушный шар, в другой игрушечная труба – смотрит во все глаза, стоя между базарной корзиной и грустным бурым псом. Карнавальные шествия нам, мне и ей, не в диковинку; двести пятьдесят разукрашенных повозок перед прошлым постом в Париже, сто восемьдесят в Нью-Йорке, два десятка марширующих оркестров в Вене, клоуны на ходулях, карнавальные куклы качают большими головами из папье-маше, девушки в мундирах вращают сверкающие жезлы. Но когда тебе шесть, мир полон особого очарования. Деревянная повозка, наспех украшенная позолотой и крепом, сцены из сказок. Голова дракона на щите, Рапунцель в шерстяном парике, русалка с целлофановым хвостом, пряничный домик – картонная коробка в глазури с позолотой, в дверях колдунья тычет пальцами с нелепыми зелеными ногтями в группу притихших детей… В шесть лет ты способен постигать тонкости, которые годом позже уже будут вне твоего разумения. За папье-маше, мишурой, пластиком она еще видит настоящую колдунью, настоящее волшебство. Она смотрит на меня. Глаза сияют, сине-зеленые, как Земля, открывшаяся взору с большой высоты.
– Мы здесь останемся? Останемся?
Приходится напоминать, что говорить надо по-французски.
– Но мы останемся? Останемся?
Она цепляется за мой рукав. На ветру ее волосы – будто ком сахарной ваты.
Я раздумываю. Городок не хуже других. Ланскне-су-Танн. Сотни две душ, не больше. Крошечная точка на скоростном шоссе между Тулузой и Бордо. Моргнул – и уже проскочили. Одна главная улица – два ряда деревянно-кирпичных домиков мышиного цвета, застенчиво льнущих один к другому; боковые ответвления тянутся параллельно, словно зубцы кривой вилки. Вызывающе белая церковь на площади; по периметру площади – магазинчики. Фермы, разбросанные по недремлющим полям. Сады, виноградники, огороженные полоски земли, расчлененной согласно строгой иерархии местного сельского хозяйства: здесь яблони, там киви, дыни, эндивий под панцирем из черного пластика, виноградные лозы – сухие зачахшие плети в лучах скудного февральского солнца – ожидают марта, чтобы победоносно воскреснуть из мертвых… Дальше – Танн, маленький приток Гаронны, нащупывает себе дорогу по болотистому пастбищу. А что же местные жители? Мало чем отличаются от тех, кого мы встречали прежде; может, чуть бледнее при свете нежданного солнца, чуть тусклее. Платки и береты тех же оттенков, что и упрятанные под них волосы, – коричневые, черные, серые. Лица скукоженные, как прошлогодние яблоки; глаза утопают в морщинистой коже, будто стеклянные шарики в затвердевшем тесте. Несколько ребятишек в красных, лаймовых, желтых развевающихся одежках чудятся пришельцами с другой планеты. Крупная женщина с квадратным несчастным лицом, кутая плечи в клетчатый плащ, что-то кричит на полупонятном местном диалекте в сторону повозки, медленно катящей по улице вслед за старым трактором, который ее и тащит. Из фургона коренастый Санта-Клаус, явно лишний в компании эльфов, сирен и гоблинов, швыряет в толпу сладости, еле сдерживая злость. Пожилой мужчина с мелкими чертами лица – вместо круглого берета, традиционного головного убора местных, на нем фетровая шляпа, – глянув на меня с виноватой учтивостью, берет на руки грустную бурую псину, притулившуюся у моих ног. Я вижу, как его тонкие красивые пальцы зарываются в собачью шерсть; пес скулит; на лице его хозяина отражается сложная смесь чувств – любовь, тревога, угрызения совести. На нас никто не смотрит, будто мы невидимки. Одежда выдает в нас чужаков, проезжих. Воспитанные люди, на редкость воспитанные; ни один не взглянет на нас. На женщину с длинными волосами, заткнутыми за воротник оранжевого плаща, и длинным трепыхающимся шелковым шарфом на шее. На ребенка в желтых резиновых сапогах и небесно-голубом макинтоше. У них другой колорит. Броский наряд, лица – чересчур бледные или слишком смуглые? – волосы, все в них не такое, чужое, смутно непривычное. Обитатели Ланскне в совершенстве владеют искусством наблюдения украдкой. Их взгляды словно дышат мне в затылок – вовсе не враждебные, как ни странно, и тем не менее холодные. Мы для них – диковинка, карнавальная экзотика, заморские гости. Я чувствую их взгляды, когда поворачиваюсь к уличному торговцу, чтобы купить лепешку. Бумага жирная и горячая, пшеничная лепешка хрустит по краям, но в середине толстая и пышная. Я отламываю кусок и даю Анук, вытираю растаявшее масло с ее подбородка. Уличный торговец – полноватый лысеющий мужчина в очках с толстыми стеклами; от жара плиты на лице испарина. Он подмигивает Анук. Другим глазом подмечает каждую мелочь, зная, что позже его будут расспрашивать.
– В отпуск приехали, мадам?
Согласно местному этикету, ему дозволено заговаривать с незнакомцами. Я вижу, что за внешним безразличием торговца кроется жадное любопытство.
В Ланскне, соседствующем с Аженом и Монтобаном, туристы – большая редкость, и посему любая новая информация здесь – как живые деньги.
– На время.
– Из Парижа, значит?
Это, должно быть, из-за одежды. В этом пестром краю люди блеклые. Сочные цвета, по их мнению, ненужная роскошь; не к лицу. Яркая растительность по обочинам – это все бесполезные навязчивые сорняки.
– Нет-нет, не из Парижа.
Повозка уже почти в конце улицы. Небольшой оркестр – две флейты, две трубы, тромбон и военный барабан – идет за ней, тихо наигрывая неузнаваемый марш. Следом бегут с десяток ребятишек, подбирают с земли невостребованные сласти. Кое-кто в карнавальных костюмах: я вижу Красную Шапочку и еще какого-то косматого персонажа; возможно, это волк. Они беззлобно препираются из-за охапки лент.
Колонну замыкает фигура в черном. Поначалу я принимаю его за участника карнавала – быть может, Врачевателя Чумы, – но вот он приближается, и я узнаю старомодную сутану сельского священника. Ему за тридцать, хотя издалека он кажется старше – до того чопорен. Он поворачивается ко мне; я вижу, что он тоже не местный уроженец. Широкоскулое лицо, светлые глаза северянина, длинные, как у пианиста, пальцы покоятся на серебряном кресте, висящем на шее. Возможно, именно это, его чужеродность, и дает ему право смотреть на меня. Но я не замечаю дружелюбия в его холодных светлых глазах.
Он сверлит меня оценивающим злобным взглядом, как человек, опасающийся за свою территорию. Я улыбаюсь ему, он испуганно отворачивается. Шестом подзывает двух ребятишек, показывает им на мусор, которым теперь усыпана вся дорога. Дети нехотя подбирают и бросают ленты и фантики в ближайший мусорный бак. Отворачиваясь, краем глаза опять ловлю его взгляд, который, возможно, сочла бы восхищенным, будь на месте священника любой другой мужчина.
Полицейского участка в Ланскне-су-Танн нет, а значит, нет и преступности. Я пытаюсь брать пример с Анук, пытаюсь разглядеть истину под внешним обличьем, но пока все расплывается.
– Мы останемся? Останемся, maman? – Она настойчиво дергает меня за руку. – Мне здесь нравится, очень нравится. Мы ведь останемся?
Я подхватываю ее на руки и целую в макушку. От Анук пахнет дымом, жареными лепешками и теплом постели в зимнее утро.
Почему бы нет? Городок не хуже других.
– Да, конечно, – отвечаю я ей, зарываясь губами в ее волосы. – Конечно останемся.
И я почти не лгу. Возможно, на этот раз так и будет.
Карнавал окончен. Раз в год Ланскне ненадолго вспыхивает яркими красками и так же стремительно остывает. На наших глазах толпа рассеивается, торговцы убирают горячие плиты и навесы, дети снимают карнавальные костюмы и украшения. Все немного смущены и растеряны от избытка шума и цвета, что испаряются, как июльский дождь, – затекают в земные трещины, бесследно растворяются в иссушенных камнях. Спустя два часа Ланскне-су-Танн вновь невидим, словно заколдованный городок, что является взору лишь раз в год. Если бы не карнавальное шествие, мы бы его, наверное, и вовсе не заметили.
Газ у нас есть, но электричество пока отсутствует. В первый вечер при свече я напекла для Анук блинчиков, и мы поужинали у очага – старый журнал вместо тарелок, – поскольку наш багаж доставят только назавтра. Лавка, что мы арендовали, прежде была пекарней. До сих пор над узким дверным проемом – резной пшеничный сноп, на полу – толстый слой мучной пыли; мы пробирались через груды старых писем, газет и журналов. Нам, привыкшим к дороговизне больших городов, арендная плата показалась баснословно низкой, и все равно, отсчитывая деньги в агентстве, я поймала подозрительный взгляд его сотрудницы. В договоре об аренде я зовусь Вианн Роше; моя подпись, иероглиф-закорючка, может означать что угодно. При свече мы обследовали наши новые владения. Старые печи, жирные и закопченные, как ни странно, еще вполне приличные, сосновые панели на стенах, почерневшая глиняная плитка на полу. В дальней комнате Анук обнаружила свернутый навес. Когда мы потащили его на свет, из-под выцветшей парусины врассыпную кинулись пауки. Жить мы будем над магазином: спальня-гостиная, ванная, смехотворно крошечный балкон, терракотовый горшок с засохшей геранью… Анук скривилась, когда увидела все это.
– Здесь так темно, maman. – Голос у нее испуганный, дрожит при виде такого запустения. – И грустно пахнет.
Она права. Запах такой, будто здесь годами томился дневной свет, пока не сквасился и не протух. Стоит дух мышиных фекалий и призраков забытого прошлого, о котором никто не жалеет. Гулко, словно в пещере. От убогого тепла наших тел только четче проступают тени. Краска, солнце и мыльная вода сотрут въевшуюся грязь. Другое дело – скорбь, горестное эхо заброшенного дома, где годами не звучал смех. В отблесках пламени свечи лицо Анук кажется бледным, глазенки вытаращены. Она стискивает мою руку.
– И мы будем здесь спать? – спрашивает она. – Пантуфлю тут не нравится. Он боится.
Я улыбаюсь и целую ее в золотистую щечку.
– Пантуфль нам поможет.
В каждой комнате мы зажгли свечи – золотые, красные, белые и оранжевые. Я предпочитаю благовония собственного приготовления, но сейчас их нет, а для наших целей вполне годятся и купленные свечи – с ароматами лаванды, кедра и лимонного сорго. Мы держим по свечке, Анук гудит в игрушечную трубу, я стучу металлической ложкой о старую кастрюлю, и десять минут мы топочем по комнатам, вопя и распевая во все горло: «Прочь! Прочь! Прочь!», пока наконец стены не сотрясаются и разъяренные призраки не убегают, оставляя за собой едва уловимый запах гари и хлопья осыпавшейся штукатурки. Если всмотреться в трещинки потемневшей краски, в грустные силуэты брошенных вещей, разглядишь неясные очертания – будто остаточные изображения бенгальского огня в руке: тут стена сверкает золотом, там кресло, немного потертое, но торжествующе сияет оранжевым, и старый навес вдруг заиграл яркими оттенками, что высветились из-под слоя пыли и грязи. Анук с Пантуфлем топают и поют: «Прочь! Прочь! Прочь!» – и расплывчатые силуэты все четче: красный табурет возле стойки, покрытой винилом, гроздь колокольчиков у двери. Я, разумеется, понимаю, что это всего лишь игра. Придуманное волшебство, чтобы успокоить испуганного ребенка. Нам предстоит поработать, хорошенько потрудиться, дабы вещи взаправду засияли. Но пока достаточно знать, что дом рад нам, как мы рады ему. У порога хлеб с солью, чтобы умилостивить обитающих здесь богов. На подушках ветки сандалового дерева, чтобы нам снились приятные сны.
Позже Анук сказала, что Пантуфлю уже не страшно, значит, тревожиться не о чем. Не задувая свечей, мы в одежде улеглись на пыльный матрас в спальне, а когда проснулись, уже наступило утро.