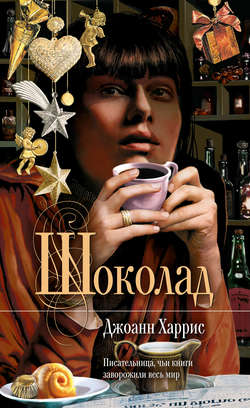Читать книгу Шоколад - Джоанн Харрис - Страница 3
3
Оглавление13 февраля, четверг
Слава богу, на сегодня я свободен. Как же утомляют меня эти визиты. Речь, конечно, не о тебе, mon père. Мой еженедельный визит к тебе – это счастье, можно сказать, моя единственная отрада. Надеюсь, цветы тебе нравятся. Не очень красивые, но пахнут изумительно. Я поставлю их здесь, возле твоего кресла, чтобы ты мог ими любоваться. Отсюда чудесный вид на поля, на Танн, вдалеке блестит лента Гаронны. И кажется, будто мы совсем одни. О, я не жалуюсь. Вовсе нет. Просто одному человеку тяжело нести такое бремя. Все их мелкие заботы, обиды, глупость, тысячи банальных проблем…
Во вторник у нас был карнавал. Они танцевали и кричали, как самые настоящие дикари. Клод, младший сын Луи Перрена, выстрелил в меня из водяного пистолета. И как, думаешь, отреагировал его отец? Сказал, что сын маленький и ему хочется немного поиграть. Я же, mon père, всеми помыслами стремлюсь наставить их на путь истинный, избавить от греха. Но они сопротивляются на каждом шагу, словно дети малые, из прихоти отвергают здоровую пищу, продолжая есть то, от чего их тошнит.
Я знаю, ты понимаешь меня. Ты сам пятьдесят лет безропотно и с достоинством нес эту ношу. И завоевал их любовь. Неужели времена так сильно изменились? Здесь меня боятся, уважают… но вот любят ли? Нет. Лица угрюмые, недовольные. Вчера уходили со службы, посыпав голову пеплом, а в лицах читалось виноватое облегчение. Возвращались к своим тайным пристрастиям и порокам уединения. Они что, не понимают? Господь все видит. Я все вижу. Поль-Мари Мускат бьет жену. Благочинно исповедуется каждую неделю, читает в наказание десять молитв Святой Деве – и вновь за свое. Его жена – воровка. На прошлой неделе пошла на рынок и украла с прилавка дешевую побрякушку. Гийом Дюплесси постоянно спрашивает, есть ли у животных душа, и плачет, когда я говорю, что нет. Шарлотта Эдуард подозревает, что у ее мужа есть любовница. Я знаю, что у него их целых три, но вынужден хранить тайну исповеди.
Какие же они все дети! Своими вопросами они бесят меня и сводят с ума. Но я не вправе выказывать слабость. Овцы – отнюдь не покорные безобидные существа, как в идиллических пасторалях. Это вам любой селянин подтвердит. Овцы хитры, порой жестоки и патологически глупы. И у снисходительного пастыря нередко дерзки и непокорны. Поэтому я неизменно с ними строг. И только раз в неделю позволяю себе немного расслабиться. Твои губы плотно сомкнуты, mon père, как на исповеди. Но сердце у тебя доброе, и ты всегда готов меня выслушать. На один час я могу скинуть свое бремя. И обнажить свое несовершенство.
У нас появилась новая прихожанка. Некая Вианн Роше – полагаю, вдова – с маленькой дочкой. Помнишь пекарню старика Блэро? Он умер четыре года назад, и с тех пор его дом стоял в запустении. Так вот, она арендовала эту пекарню и надеется открыть ее к концу недели. Думаю, ее заведение просуществует недолго. У нас уже есть пекарня Пуату, на другой стороне площади. И к тому же она здесь не приживется. Приятная женщина, но с нами у нее нет ничего общего. Не пройдет и двух месяцев, как опять сбежит в большой город. Там ей самое место. Забавно, но я ведь так и не выяснил, откуда она родом. Очевидно, парижанка, а может, из-за границы приехала. Говорит без акцента – пожалуй, даже слишком чисто для француженки. Гласные отрывистые, как у северян, но в глазах есть что-то от итальянцев или португальцев, а кожа…
Впрочем, я ее почти не видел. Вчера целый день и сегодня она наводила порядок в пекарне. Витрина прикрыта куском оранжевого пластика. Время от времени она сама или ее маленькая дочка-дикарка выбегают на улицу, опорожняют в канаву ведро помоев или дружелюбно перебрасываются парой слов с кем-нибудь из рабочих. Меня поражает ее умение договариваться с людьми. Я предложил ей свои услуги в качестве посредника, но сомневался, что найду желающих помочь. И вдруг рано утром вижу, как Клермон несет ей доски, а следом Порсо со своими лестницами. Пуату снабдил ее кое-какой мебелью. Я видел, как он тащил через площадь кресло и все время озирался, будто боялся, что его заметят. Даже сварливый брюзга Нарсисс пошел со своим инвентарем облагораживать ее садик, хотя в ноябре, когда я попросил его вскопать газон на кладбище, он сухо отказался.
Сегодня утром примерно в восемь сорок к ее лавке подъехал грузовой фургон. Мимо проходил Дюплесси, он обычно в это время выгуливает собаку. Она окликнула его, попросила помочь с выгрузкой. Дюплесси оторопел, так и не донеся руку до шляпы, – я был почти уверен, что он откажет. Потом она что-то сказала – я не расслышал – и звонко рассмеялась. Вообще она много смеется и неумеренно, комично жестикулирует. Тоже, видимо, черта, присущая жителям больших городов. Мы здесь привыкли общаться сдержаннее, но, надо думать, она не имеет в виду ничего дурного. Голову она по-цыгански обмотала фиолетовым шарфом, однако волосы выбились, на них белая краска. Ее это, по-видимому, не смущало. Позже Дюплесси не смог припомнить ее слова – промямлил только, что его это ничуть не затруднило, всего несколько коробок, довольно тяжелых, хотя и маленьких, и открытых ящиков с кухонной утварью. Что в коробках, он не спросил, но в пекарном производстве, считает он, с такими скудными запасами далеко не продвинешься.
Не подумай, mon père, будто я все дни напролет только и делаю, что наблюдаю за пекарней. Просто она почти напротив моего дома – того самого, mon père, что прежде принадлежал тебе. Весь минувший день и половину сегодняшнего в пекарне стучали молотками, красили, белили и скоблили – даже меня разобрало невольное любопытство. Мне не терпится посмотреть на результат. И я не одинок в своем желании. Я слышал, как мадам Клермон самодовольно судачила с приятельницами о мужниной работе возле лавки Пуату. Они говорили о «красных ставнях», а потом заметили меня и тут же притихли, зашептались. Будто мне есть дело до их пересудов. А новоприбывшая, безусловно, дает богатую пищу для сплетен, если не сказать больше. Оранжевая витрина так и притягивает взоры. Словно огромная конфета, с которой хочется содрать фантик, случайно залежавшийся соблазнительный ломоть карнавала. Есть что-то тревожное в этом ярком куске пластика, в том, как он сверкает на солнце. Я буду счастлив, когда ремонт завершится и бывшая пекарня вновь станет пекарней.
На меня многозначительно поглядывает медсестра. Она считает, я тебя утомляю. И как только ты их выносишь? Их громкие голоса, воспитательские замашки? «А теперь нам пора отдыхать». Ее игривость раздражает, режет слух. Она желает добра, говорят твои глаза. «Не сердись на них, они знают, что делают». А вот я не добрый. Я пришел сюда не тебя утешать – самому утешиться. И все же мне хочется верить, что мои визиты радуют тебя, вносят свежую струю в твою жизнь, что превратилась в вялое, бесцветное прозябание. По вечерам телевизор, час в день, смена положения пять раз в день, кормление через трубочку. О тебе говорят как о неодушевленном предмете: «Думаешь, он нас слышит? Понимает что-нибудь?» Твое мнение никому не интересно, тебя даже не спрашивают… Ты живешь в полной изоляции, но по-прежнему чувствуешь, думаешь… Вот он, истинный ад, голый ужас, без наносной цветистости средневековых представлений. Полнейшая изоляция. И все же я обращаюсь к тебе: научи, как выйти к людям. Научи надежде.