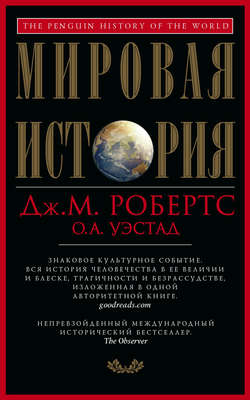Читать книгу Мировая история - Джон М. Робертс - Страница 9
Книга вторая
Человеческие цивилизации
2
Древняя Месопотамия
ОглавлениеСамым наглядным примером появления чего-то, наиболее похожего на цивилизацию, считается южная оконечность Месопотамии, представляющая собой полосу земли протяженностью 1120 километров, сформированную долинами рек Тигр и Евфрат. Эту оконечность Плодородного полумесяца в эпоху неолита тесно покрывали поселения земледельцев и возделанные поля. Некоторые из древнейших поселений, судя по всему, находились на самом юге, где за сотни лет отложения стоков с высокогорья и благодаря ежегодным паводкам образовались плодороднейшие почвы. Выращивать зерновые культуры там всегда было намного легче, чем где бы то ни было еще, ведь полив в этих областях осуществлялся постоянно и в достаточном объеме; притом что осадки здесь обильными не были и выпадали нерегулярно, воды все равно хватало, так как русло реки часто выходило на уровень выше поверхности окружающей равнины. Если верить выполненным расчетам, то урожай зерна в Южной Месопотамии приблизительно в XXV веке до н. э. вполне сопоставим с отдачей плодороднейших канадских пшеничных полей в наши дни. С древнейших времен здесь существовала возможность выращивать урожай более богатый, чем требовалось для суточного потребления, и такого рода излишек служил фундаментом для зарождения городской жизни. Кроме того, в лежащем по соседству море можно было заниматься промыслом рыбы. Такое положение вещей представлялось для человека сложным вызовом природы, зато в нем заключались огромные возможности. Иногда случались внезапные и бурные изменения течения рек Тигр и Евфрат: болотистые, низменные земли дельты приходилось защищать от паводка с помощью дамб, канав и каналов для паводковых стоков. Многие тысячи лет спустя в Месопотамии можно наблюдать применение приемов, впервые предположительно использовавшихся в древности, для сооружения платформ из тростника и тины, на которых оборудовали старинные земледельческие хозяйства этого района. Такие участки возделывания зерновых культур, образовавшиеся на самых плодородных почвах, представляются наглядным примером того, как на службу человека ставили большие для него неудобства. Однако дренажные и оросительные каналы, без которых было не обойтись, требовалось содержать в исправном состоянии, а эту задачу можно было выполнить только с приложением коллективных усилий. Еще одним достижением совершенно определенно следует назвать возникновение общественной организации восстановления плодородия почвы. Как бы это на самом деле ни случилось, определенно невиданное до тех пор завоевание в форме превращения в плодородные поля топких болот должно было потребовать изобретения жилья новой конструкции, приспособленного для совместного проживания людей.
По мере прироста населения все больше земли осваивалось под выращивание продовольственных культур. Рано или поздно жители различных деревень вступали в спор друг с другом по поводу осушения болот, когда-то служивших для них разделительным пространством. Но еще раньше им приходилось общаться в связи с проведением необходимых оросительных работ. При этом появлялся выбор: враждовать или налаживать сотрудничество. Каждый из этих вариантов предусматривал дальнейшую коллективизацию общества и укрепление власти на новом уровне. Примерно таким образом у людей появилось ощущение потребности в объединении и создании укрупненных союзов, каких не существовало раньше, в составе которых было удобнее защищать себя от нападения врага или покорять дикую природу. Одним из физических воплощений таких союзов стал древний город, обнесенный первоначально глинобитной стеной для защиты от наводнений и врагов, а также приподнятый над уровнем паводковых вод на своеобразном возвышении. Логично, что для городов выбирались места рядом с алтарем местного божества, который служил олицетворением власти в общине. Власть в ней отправлял ее главный жрец, назначавшийся правителем теократической по сути общины, окруженной такими же теократическими общинами.
Своего рода соперничеством между такими общинами, хотя знать этого доподлинно нам не дано, можно объяснить различия в 4-м и 3-м тысячелетии до н. э. между Южной Месопотамией и другими районами распространения культуры неолита, с которой ее население уже долгое время пребывало в соприкосновении. По виду керамики и особенностям архитектуры алтарей напрашивается вывод о существовании связей между Месопотамией и неолитическими культурами Анатолии, Ассирии, а также Ирана, послуживших формированию цивилизованной области Ближнего Востока. У всех упомянутых выше территориальных образований можно отметить множество общих черт. Но только в одном относительно небольшом районе стиль деревенской жизни, характерный для большой части Ближнего Востока, начинает формироваться быстрее и развиваться в нечто иное. На таком фоне появляются первые особенности настоящего градостроительства, они просматриваются в стране Шумер, где уже распознается древнейшая цивилизация.
Название древнейшей письменной цивилизации Шумер присвоено южной области Месопотамии, которая когда-то простиралась приблизительно на 160 километров на юг от нынешнего побережья. Народ, проживавший там, можно скорее отнести к группам, распространенным на севере и западе, чем к их семитским соседям на юго-западе. По предположительному происхождению шумеры походили на своих северных соседей эламитов, живших на противоположном берегу Тигра. Ученые все еще не могут прийти к единому мнению по поводу времени переселения в эту область тех же шумеров – то есть людей, говоривших на языке, позже названном шумерским: они могли осесть там приблизительно с XL века до н. э. Но так как нам доподлинно известно, что население цивилизованного Шумера представляло собой смесь этнических групп, возможно включавших прежних жителей области, являвшихся носителями культуры с элементами иноземных и местных традиций, такой вопрос представляется не принципиальным.
У шумерской цивилизации прослеживаются глубокие корни. Этот народ издавна придерживался образа жизни, мало отличавшегося от образа жизни соседей. Шумеры жили в деревнях и располагали несколькими основными центрами культового поклонения, обитатели которых практически никогда не менялись. Один из таких центров, обнаруженный в древнем городе под названием Эриду, мог появиться приблизительно в L веке до н. э. В исторические времена наблюдался его поступательный рост, и к середине 4-го тысячелетия там появился храм, который, как считают некоторые ученые, послужил изначальным образцом для развития месопотамской монументальной архитектуры. В настоящее время от него ничего не сохранилось, кроме платформы, на которой этот храм стоял. Такие центры культового поклонения изначально служили тем, кто жил по соседству. Городами в полном смысле этого слова такие центры назвать еще сложно, ведь их предназначение заключалось в отправлении религиозного культа и приеме паломников. Значительное постоянное население здесь, скорее всего, отсутствовало, но эти центры послужили стержнем, вокруг которого позже складывались города, и это помогает объяснить тесную связь религии и власти, всегда существовавшей в древней Месопотамии. Еще задолго до XXX века до н. э. в ряде таких мест появляются действительно очень большие храмы; особым великолепием отличался храм в Уруке (в Библии названном Эрехом), снабженный тщательно продуманным художественным оформлением и приковывающими внимание опорами из глинобитного кирпича, 2,5 метра в диаметре.
Среди главнейших свидетельств, связывающих Месопотамию периода до появления цивилизации с историческими временами, называют найденную там керамику. Предметы такой керамики дают первые представления о появлении артефактов, значимых для культурного прогресса, причем качественно отличающегося от появившихся в ходе эволюции периода неолита. Так называемые «урукские горшки» (имя присвоено по месту их обнаружения) часто выглядят унылее, чем более старинные гончарные изделия, и не так волнуют воображение. Однако их выпускали уже серийными партиями, изготавливали по стандартному образцу на гончарном круге (впервые используемом здесь в такой роли). Большое практическое значение этого предприятия состоит в том, что к моменту начала изготовления «промышленной» керамики в Месопотамии уже существовал слой необходимых ремесленников; и жили они за счет достаточно зажиточных земледельцев, производивших излишек продовольствия, который обменивался на их изделия. Именно с момента данного изменения вполне обоснованно можно говорить о шумерской цивилизации.
Все это продолжалось около 1300 лет (примерно с 3300 по 2000 год до н. э.), то есть приблизительно столько же времени, сколько нас отделяет от эпохи Шарлеманя (Карла Великого). В самом начале была изобретена письменность. Вероятно, это изобретение по значимости можно сравнить с открытием земледелия до наступления эры паровых машин. На протяжении почти половины срока, в течение которого человечество владело навыком письма, для него использовались глиняные носители. Письму как таковому предшествовало изобретение цилиндрических печатей с выгравированными на них миниатюрными рисунками, переносимыми на глину методом прокатывания по ней такой печати; гончарные изделия со временем изнашивались в прах, зато эти печати сохранились в виде одного из величайших творческих достижений ремесленников Месопотамии. Древнейшие письмена возникли в виде пиктограмм или упрощенных картинок (считающиеся первым шагом от передачи сообщений в виде образов к символам с закодированным смыслом), нанесенных на глиняные таблички, обычно подвергавшиеся обжигу после нанесения на них информации с помощью заточенного стебля тростника. Древнейшие обнаруженные письма составлены на шумерском языке, и в них можно прочесть тексты распоряжений, списки товаров, квитанции; перед нами в основном отрывочные хозяйственные документы, которые совсем не похожи на складную литературу. Письмо на этих древнейших блокнотах и бухгалтерских книгах постепенно преобразовывалось в клинопись, представлявшую собой определенный способ расположения знаков, наносимых на глиняную табличку с помощью клинообразного кончика тростника. Таким образом, в Месопотамии полностью отказались от пиктографического письма. Знаками и группами знаков на данном этапе стали обозначать фонетические, а также, возможно, силлабические элементы языка. Причем все они составлены из комбинаций того же самого клина. Такая форма передачи сообщения знаками представляется более гибким, чем все остальные, способом среди используемых до настоящего времени, а шумерам удалось создать ее чуть позже XXX века до н. э.
Благодаря достаточному количеству письменных памятников шумерской культуры нам теперь известно о языке этого народа. Несколько шумерских слов дошло до наших дней; одно из них в первозданном виде означает слово «алкоголь» (и самый старинный рецепт приготовления пива), что наводит на определенные размышления. Но наибольший интерес с точки зрения этого языка представляет само сохранение его в письменной форме. Владение грамотой, с одной стороны, открывало новые обширные возможности для общения; а с другой стороны, придавало уверенности в повседневной жизни, так как можно было свериться с письменным источником наравне с устным общением. При наличии письменных инструкций значительно упрощалась организация сложных мероприятий по орошению земель, сбору и хранению урожая зерновых культур, служивших основой развивающегося человеческого сообщества. Письменность способствовала повышению отдачи от эксплуатации природных богатств. Она к тому же послужила укреплению власти и приданию особого значения кастам жрецов, поначалу присвоивших себе исключительное право на овладение грамотой. Интересно отметить тот факт, что одно из древнейших предназначений цилиндрических печатей явно придумали жрецы, ведь по большому счету их использовали для удостоверения количества зерна при поступлении его в распоряжение храма. Можно предположить, что жрецы поначалу вели учет хозяйственных сделок в системе централизованного перераспределения общественных благ, при которой люди сдавали причитающуюся с них продукцию в храм и получали там нужное им самим продовольствие или материальные ценности.
Помимо таких учетов, изобретенное письмо в большей степени открывает историку прошлое еще в одном отношении. Теперь он наконец-то владеет неопровержимыми свидетельствами, необходимыми для получения представления о складе человеческого ума. Ведь литература сохраняется в письменном виде. Древнейшим в мире литературным произведением числится «Сказание о Гильгамеше». Его наиболее полный вариант, правда, относится всего лишь к VII столетию до н. э., однако легенда как таковая появляется уже в шумерские времена, и существуют сведения о том, что ее записали в самом начале 2000 года до н. э. Гильгамеш когда-то жил на самом деле и правил в Уруке. Он к тому же считается не только первым в мировой литературе реальным персонажем, но и героем также других поэтических произведений. Автору настоящего труда без упоминания его имени никак не обойтись. Современному читателю самым поразительным эпизодом «Сказания» может показаться наступление Великого потопа, принесшего погибель всему человечеству за исключением одной Богом избранной семьи, спасшейся на построенном ими ковчеге; от них пошла новая ветвь человечества, заселившего мир после завершения этого потопа. В древнейших вариантах «Сказания» этого сюжета отыскать не удается, зато он появился в виде отдельной поэмы с описанием судьбы рода человеческого, и такая легенда в многочисленных формах пересказывается в эпосе Ближнего Востока, причем ее включение в данное старинное произведение вполне понятно. Население низменной Месопотамии должно было постоянно страдать от разливов рек, которые во многом ограничивали возможности совершенствования ненадежной системы орошения, от которой зависело его благополучие. Можно предположить, что наводнения в древности воспринимались как неизбежное бедствие, и на его фоне сложился беспросветный фатализм, который кое-кто из ученых рассматривает в качестве ключа к шумерской религии.
Все «Сказание» пронизано мрачным настроением. Гильгамеш совершает великие подвиги в своем неустанном поиске основания для самоутверждения в условиях действия непоколебимых законов богов, предусматривающих поражение человека. И в конечном счете боги одерживают победу. Гильгамешу тоже уготована неминуемая гибель:
«Судьба литературных героев этого произведения как людей мудрых напоминает молодой месяц с характерным для него ростом и убыванием лунного серпа. Люди должны задаться таким вопросом: «Кто еще когда-либо правил, располагая волей и властью, принадлежавшей ему?» Без него нам ничего не светит точно так же, как в безлунную ночь или при затянутом тучами небе. O, Гильгамеш, вот какой смысл передавался через твой сон. Тебе поручили править царством, и в этом состояла твоя судьба; а вот вечной жизни ты не удостоился».
Вместе с ощущением настроя повествования и осознанием заложенного в нем религиозного темперамента самой цивилизации из данного произведения можно почерпнуть богатые сведения о богах Древней Месопотамии. Вот только достоверную историю из «Сказания» извлечь сложно, тем более привязать к ней исторический образ Гильгамеша. В частности, попытки обнаружить свидетельства того самого библейского потопа средствами археологии убедительных результатов не принесли, хотя следов многочисленных наводнений на территории Междуречья сколько угодно. Из воды в какой-то момент появляется суша: тогда, быть может, нам предлагается рассказ о сотворении мира, его происхождении. В еврейском Священном Писании (Танах) суша появляется из морских пучин по воле Бога, и такой вариант происхождения земли устраивал образованнейших из европейцев на протяжении тысячелетий. Захватывающим занятием представляются рассуждения на тему того, что появлению у нас собственного интеллектуального наследия в огромной степени способствовало мифологизированное изложение шумерами их собственной доисторической жизни, когда их предки в болотах месопотамской дельты изобрели земледелие. Однако все это выглядит досужими домыслами; а разум подсказывает нам остановиться всего лишь на бесспорных совпадениях, изложенных в «Сказании» и одной из известнейших библейских легенд, касающейся эпопеи с Ноем и его ковчегом.
Суть данной легенды служит намеком на ту важность, которую имело распространение шумерских идей на Ближнем Востоке еще долгое время после того, как центр истории его переместился в Верхнюю Месопотамию. Различные версии и эпизоды из «Сказания о Гильгамеше», если только придерживаться исключительно одного его текста, встречаются в летописях и реликвиях многих народов, доминировавших в областях данного региона во 2-м тысячелетии до н. э. Притом что позже данное произведение было утеряно, а вернуть его удалось лишь в новейшие времена, имя Гильгамеша упоминалось в литературе на языках многих народов на протяжении 2 тысяч лет наподобие того, как европейские авторы до недавнего времени позволяли себе любые ссылки на классическую Грецию, ничуть не сомневаясь в том, что читатели легко их поймут. Шумерский язык на протяжении многих веков использовался в храмах и школах писарей практически так же, как латынь служила ученым людям в культурном хаосе народов Европы после краха западного классического мира Рима. Такое сравнение следует считать гипотетическим, так как в литературной и лингвистической традиции воплощаются идеи и представления, определяющие и ограничивающие различные способы видения мира; то есть они обладают исторической весомостью.
Получается так, что самые важные идеи, увековеченные в шумерском языке, относятся к религии. Такие города, как Ур и Урук, послужили инкубаторами идей, которые после преобразования в другие религии, возникшие на Ближнем Востоке на протяжении 2-го и 1-го тысячелетия до н. э., 4 тысячи лет спустя получили распространение во всем мире, пусть даже в практически неузнаваемых видах. В «Сказании о Гильгамеше» встречаем, например, идеальное творение природы в лице мужчины по имени Энкиду; его падение связано с потерей невинности с соблазнившей его блудницей, и после этого, познав плоды цивилизации, он теряет свою благотворную связь с естественным миром. Литература позволяет находить такого рода намеки в мифологиях других и более поздних обществ. Через литературные памятники люди начинают осознавать значение вещей, ранее скрытое в неясных реликвиях жертвенных подношений, глиняных фигурках, а также в планировке на местности алтарей и храмов. В древнейшем Шумере они уже дают возможность обнаружить порядок человеческого общения со сверхъестественными силами, отличающийся гораздо большей сложностью и тщательностью осмысления, чем что-либо иное в то далекое от нас время. Древнейшие города возникали вокруг храмов, и эти храмы становились все крупнее и внушительнее (в том числе потому, что зародилась традиция возведения их новых зданий на насыпях, сооружавшихся для предыдущих культовых мест). В них исполнялись обряды жертвоприношений ради богатых урожаев. Позже произошло усложнение их культов, более роскошные храмы построили гораздо севернее – у самого Ашшура, расположенного почти на 500 километров выше по течению Тигра. Нам известно об одном таком храме, построенном из кедра, привезенного из Ливана, и меди из Анатолии.
Ни в одном другом древнем обществе того времени религия не занимала такого видного места, а на содержание ее служителей не выделялось такой большой доли коллективных ресурсов. В этой связи высказывается предположение о том, что ни в одном другом древнем обществе люди не чувствовали себя абсолютно зависимыми от воли своих богов. В доисторические времена ландшафт Нижней Месопотамии представлял собой плоскую однообразную болотистую равнину с многочисленными водоемами. Никаких гор, подходящих для обитания богов, там никогда не существовало: только пустые небеса над головой, безжалостное летнее солнце, сбивающие с ног ветры, защиты от которых отыскать было негде, неудержимый напор паводковых вод и губительные приходы засухи. Боги обитали в виде этих стихийных сил или на «возвышениях», в одиночестве господствовавших над равнинами, в построенных из кирпича башнях и зиккуратах (ступенчатых сооружениях, состоявших из трех – семи усеченных ступеней с храмом наверху, сложенных из кирпича-сырца с последующей яркой окраской), упомянутых в библейской легенде о Вавилонском столпотворении. Понятно, что шумеры видели свое предназначение в тяжком труде на благо богов.
Приблизительно к 2250 году до н. э. в Шумере более или менее сложился пантеон богов, олицетворявших явления и силы природы. Этот пантеон послужил фундаментом месопотамской религии и ознаменовал начало богословия. Изначально жители каждого города выбирали своего собственного бога. Можно предположить, что в ходе политических перемен в отношениях между городами эти боги в конечном счете выстроились в соответствии со своего рода иерархией, отразившей и определившей взгляды людей на человеческое сообщество. Боги Месопотамии в окончательном виде изображены в человеческом обличье. Каждому из них определен собственный образ деятельности или роль; появился бог воздуха, бог воды, бог-пахарь. Иштар (под этим семитским именем она вошла в историю) считалась богиней любви и воспроизведения потомства, а также войны. Венчали иерархию три великих бога мужского пола, роли которых совсем не просто определить: Ану, Энлиль и Энки. Ану числился отцом всех богов. Самым знаменитым сначала считался Энлиль; его звали Владыкой ветра, без которого не обходилось ни одно дело. Бог мудрости и пресных вод, которые для Шумера буквально означали жизнь, по имени Энки служил учителем, а также распорядителем живых и мертвых, который поддерживал порядок, установленный Энлилем.
Эти боги потребовали искупительных жертвоприношений и поклонения в соответствии с тщательно разработанным обрядом. За все это и за достойную жизнь боги обещали процветание и долгие годы, но не больше. При всей неуверенности в жизни населения Месопотамии было не обойтись без ощущения возможного покровительства со стороны сверхъестественных существ. Люди нуждались в богах как защитниках от капризов природы. Боги, хотя никто в Месопотамии их так не называл, представлялись плодом осмысления людьми примитивных попыток обуздания окружающей природы, предотвращения внезапных бедствий в виде наводнений и пыльных бурь, надежды на продолжение цикла смены сезонов с повторением большого весеннего праздника, когда боги снова женились и воспроизводилась драма сотворения мира. После этого можно было верить в продолжение мира еще на один год.
Одно из важнейших требований, которые позже люди стали предъявлять к религии, заключалось в том, чтобы ее служители облегчили им задачу примирения с неизбежным ужасом смерти. Самих шумеров и народы, унаследовавшие их религиозные убеждения, вряд ли могли полностью устраивать сложившиеся у них верования в том виде, в каком нам дано эти верования осознать; они, похоже, представляли свое существование после смерти в мрачном и грустном мире. То есть им предстояло переместиться в «Дом, где они пребывают в темноте, где приходится питаться прахом и вместо мяса удовлетворяться глиной, у них будут, как у птиц, крылья вместо одежды, на запоре и двери лежит пыль, а вокруг стоит мертвая тишина». Отсюда происходит более позднее понятие преисподней и ада. Причем по крайней мере одним обрядом допускалось самоубийство, ведь в середине 3-го тысячелетия шумерского царя и царицу в могилы сопровождали их слуги, которых тогда хоронили с господами, возможно, после приема усыпляющего снадобья. По такому обряду можно сделать предположение о том, что покойникам предстояло отправиться куда-то, где большая свита и роскошные украшения обладали не меньшей ценностью, чем при их жизни на земле.
Шумерская религия содержала важные политические аспекты. Вся земля принадлежала исключительно богам; царь или, предположительно, царь-жрец по происхождению из военных вожаков выступал в роли всего лишь наместника (викария) этих богов на земле. Понятно, что ни один человеческий суд не мог призвать наместника богов к ответу. Появление такого викариата к тому же означало формирование сословия жрецов, то есть мастеров, положением которых предусматривались практические преимущества, позволявшие приобретение ими особых навыков и знаний. В этом отношении шумеры также заложили основы новой традиции: от них пошли прорицатели и мудрецы Востока. Им мы к тому же обязаны появлением первой упорядоченной системы просвещения, основанной на запоминании и переписывании текстов клинописным шрифтом.
Среди сопутствующих приобретений шумерской религии следует назвать первые произведения искусства с изображением людей. В частности, жрецы одного из религиозных центров, находившегося в Мари, явно увлекались изображением людей, занятых в обрядовых действах. Иногда изображались групповые процессии; тем самым удалось установить один из величественных сюжетов изобразительного творчества. Знаменитыми стали еще два сюжета: война и мир зверей. Кое-кто из исследователей обнаружил в ранней портретной живописи шумеров еще и глубинное значение. Они видели в портретах людей психологические качества, которые сделали возможными удивительные достижения их цивилизации. То есть честолюбие и стремление к успеху. Опять же, такой вывод воспринимается однозначно далеко не всеми учеными. Произведения шумерского изобразительного искусства впервые позволили познакомиться с повседневной жизнью людей древности, скрытой от нас завесой веков. А если исходить из широкого распространения контактов шумеров с другими живущими по соседству народами и по большому счету сходству их структуры жизни, тогда не составит большого труда представить себе кое-что из жизни населения на более просторной площади древнего Ближнего Востока.
На печатях, в скульптурных и живописных произведениях зачастую представлены мужчины в своего рода меховых – шкуры коз или овец? – накидках, а у женщин шкуры бывают наброшены на плечо. Часто, правда не всегда, мужчины предстают чисто выбритыми. Воины отличаются от мирных людей только оружием и иногда коническими кожаными шапками. Признаки роскоши проявляются в наличии досуга и дополнительного имущества сверх обычной одежды, а также обладании ювелирными украшениями, которых до наших дней дошло очень много. Таким образом обозначается статус человека, и уже можно говорить об усложнении общественных отношений. До нас дошли также жанровые сценки пирушек: группа мужчин сидит в креслах с чашками в руках, а некий музыкант развлекает их своими мелодиями. В такие моменты шумеры кажутся более современным народом.
Бракосочетание у шумеров во многом напоминает обряды более поздних сообществ людей. Главная задача жениха заключалась в том, чтобы заручиться согласием на брак со стороны родителей невесты. После согласования удовлетворяющих всех условий утверждалась моногамная семейная единица через брак, закрепленный договором с приложением печати. Семью возглавлял патриархальный муж, которому подчинялись в равной степени его родственники и рабы. Такой порядок до недавнего времени соблюдался практически во всех уголках нашего мира. Но следует отметить забавные тонкости этого дела. В юридических и литературных источниках содержатся свидетельства того, что даже в древние времена шумерские женщины находились в менее угнетенном положении, чем их сестры во многих более поздних ближневосточных обществах. В семитских и несемитских традициях можно найти отклонения в этом вопросе. В шумерских легендах, посвященных богам, предлагается общество, члены которого настороженно и даже с опаской относятся к власти женской чувственности; шумеры были первым народом, литераторы которого упомянули о человеческой страсти. Это не просто связать с какими-то нормами, но по шумерскому праву женщин нельзя было считать всего лишь собственностью мужчины. Женщины пользовались всеми основными гражданскими правами; даже рабыня, родившая детей от свободного мужчины, имела определенную защиту в соответствии с законом. Право на развод предусматривалось для женщин, а также мужчин, решивших расстаться. При этом за разведенными женами сохранялись равные с мужчинами права. Хотя супружеская измена жены каралась смертью, а измена мужа прощалась, такое положение вещей можно объяснить в свете проблемы наследования и права собственности. Только после шумерских времен в месопотамском праве акцент ставится на целомудрии и возвеличивании почтенных женщин, ведущих безупречный образ жизни. Обе эти нормы служат признаком ужесточения отношения к женщинам и снижения их роли в обществе.
Шумеры также продемонстрировали большую изобретательность в сфере практических разработок. В этом смысле остальные народы очень многим им обязаны. Влияние шумерского права можно проследить далеко после заката культуры шумеров. Шумеры заложили основы математики изобретением метода выражения числа положением, а также знаком (ведь мы, например, можем полагать цифру 1 единицей, одной десятой частью, десяткой или несколькими иными значениями в соответствии с ее положением относительно десятичной запятой). Догадались о способе деления круга на шесть равных сегментов. Овладели десятичной системой исчисления, хотя ею не пользовались, и мы впервые узнаем о семидневной неделе из «Сказания о Гильгамеше».
К закату истории шумеры как самостоятельная цивилизация научились жить крупными группами; известно, что в одном-единственном шумерском городе насчитывалось 36 тысяч жителей мужского пола. Для этого требовались соответствующие строительные навыки, и еще более высокие требования предъявлялись к возведению монументальных сооружений. Из-за острой нехватки строительного камня в Южной Месопотамии ее жители сначала сооружали постройки из тростника, обмазанного глиной, а потом из кирпича, изготовленного из той же высушенной на солнце глины. Технология шумерского кирпичного строительства достигла большого совершенства ближе к завершению периода их истории, ведь именно тогда появилась возможность возведения очень крупных зданий с колоннами и террасами; верхняя ступень самого грандиозного из шумерских монументов – зиккурата в Уре – находится на высоте в 30 с лишним метров, а размеры основания составляют 60 на 45 метров. Древнейший сохранившийся гончарный круг археологи обнаружили в Уре; впервые человек использовал в производственных целях вращательное движение предмета. На гончарном круге основывалось крупномасштабное производство глиняной посуды, и это ремесло стало делом мужчины, а не женщины, как было раньше. В скором времени, то есть к XXX веку до н. э., колесо приспособили для транспортных целей. К еще одному изобретению шумеров относится изготовление стекла, а отдельные ремесленники в 3-м тысячелетии до нашей эры занялись литьем из бронзы.
Данные нововведения заставляют задаться следующим вопросом: откуда бралось сырье? Никакого металла в Южной Месопотамии не име-елось. Кроме того, даже в предыдущие времена, при неолите, жители этой области должны были где-то приобретать кремень и обсидиан, необходимые для изготовления примитивных земледельческих орудий. Понятно, что тут было не обойтись без широкой сети внешних связей, прежде всего с достаточно удаленными Левантом и Сирией, а также с Ираном и Бахрейном в нижней части Персидского залива. Еще до 2000 года до н. э. в Месопотамию поступали товары (пусть даже не напрямую) из долины Инда. Вместе с документальными доказательствами (которыми подтверждаются контакты с Индией раньше 2000 года до н. э.) эти товары наводят на мысли о подспудно появляющейся системе международной торговли, внутри которой уже возникают заметные схемы взаимной зависимости. Когда в середине 3-го тысячелетия поставки олова с Ближнего Востока истощились, бронзовое оружие в Месопотамии пришлось поменять на оружие из меди в чистом виде.
Вся эта цивилизация существовала за счет земледелия, вести которое с самого начала было занятием сложным, но доходным. В большом количестве здесь выращивали зерно ячменя, пшеницы, проса и сезама (кунжута); главной культурой можно назвать ячмень, и именно им объясняются многочисленные свидетельства употребления в Древней Месопотамии пьянящих напитков. На легкой пойменной почве достижение высокой урожайности посевов обходилось без применения особых орудий; главный вклад в техническое оснащение здесь приходился на практическое орошение и совершенствование управления. Такого рода навыки накапливались медленно; нам достались свидетельства шумерской цивилизации, просуществовавшей на протяжении полутора тысяч лет ее истории.
До сих пор речь шла о таком громадном отрезке времени, будто на его протяжении ничего не происходило, как будто оно представляло собой нечто неизменное. Но это не так. Что бы там ни говорили о низком темпе изменений в древнем мире, которые теперь вообще могут казаться нам статическими погрешностями, те 15 веков принесли жителям Месопотамии великие перемены. Прежде всего, в полном смысле этого слова началась история человечества. Ученые восстановили многие основные события того времени, но автор настоящего труда не ставит перед собой цели подробно их изложить, тем более что большая их часть все еще вызывает споры, другая часть остается неясной и даже даты подчас весьма приблизительны. Постараемся хотя бы привязать первый период месопотамской цивилизации к ее преемникам, а также показать, что происходило в то же самое время в других местах.
В истории шумеров можно выделить три крупных этапа. Первый, ограниченный приблизительно 3360 и 2400 годами до н. э., называется архаическим периодом. Его изложение содержит описание войн между городами-государствами, их подъемов и закатов. Редкими, но надежными свидетельствами тогдашних войн служат укрепленные города и применение в военном деле колеса в виде такого изобретения, как неуклюжие двухосные колесницы. Ближе к середине этого 900-летнего этапа отмечаются попытки утверждения местных династий, причем с переменным успехом. Изначально шумерское общество вроде бы строилось на некоторой представительной, даже демократической основе, но по мере роста государства у шумеров появились цари, отличавшиеся от первых правителей-жрецов; предположительно они начинали путь к власти полководцами, назначавшимися жителями городов командовать их вооруженными отрядами, но не отказались от верховенства, когда опасность, в связи с которой их нанимали, отпала. От них пошли династии, враждовавшие друг с другом. С таким неожиданным появлением великого человека открывается новая фаза истории.
Первым из них считается царь семитского города Аккада Саргон I, который в 2334 году до н. э. покорил Месопотамию и основал аккадскую верховную власть. До наших дней дошло изваяние, предположительно, его головы; если это на самом деле так, то мы имеем дело с одним из первых портретов августейшей особы. Он занимает первое место в продолжительной череде объединителей империй; считается, что Саргон посылал свои войска до Египта и Эфиопии, и этот царь открыл шумерам окружавший их мир. Жители Аккада позаимствовали у шумеров клинописную грамоту, и правление Саргона базировалось не на относительном превосходстве одного города-государства над другим, а на определенной степени интеграции. Его народ принадлежит к племенам, на протяжении тысячелетий довлеющих над цивилизациями долин рек. Навязав свою власть, этот народ перенял нужное ему культурное наследие побежденных. В результате нам достался новый стиль шумерского искусства, отмеченного сюжетной линией побед царей.
Аккадская империя отнюдь не означала тогда конец Шумера: как раз наступил второй, главный этап его истории. Речь идет о появлении нового уровня организации. Ко времени Саргона возникло государство в полном смысле этого слова. Разделение светской и религиозной властей, появившееся в древнем Шумере, приобрело фундаментальный характер. Притом что сверхъестественные представления пронизывали повседневную жизнь на всех уровнях, власти правителя и жрецов разошлись в разные стороны. Свидетельства такого разделения властей можно наблюдать в шумерских городах в физическом проявлении: рядом с храмами появились дворцы знати; власть богов теперь тоже простиралась за пределами обители хозяина дворца.
При всей расплывчатости сведений о превращении знаменитостей древних городов в царей свою роль в этом процессе должно было сыграть развитие воинской профессии. На памятниках города Ура появляются организованные порядки вымуштрованной пехоты, ведущие наступление в строю фаланги под прикрытием щитов с опущенными в сторону противника копьями. В Аккаде наблюдается своего рода кульминационный момент становления древнего военного дела. Саргон держал в своем дворце 5400 солдат, питавшихся из его котла. Можно вполне уверенно говорить о завершении процесса наращивания власти на силе; завоевания позволяли накапливать ресурсы на содержание собственного войска. Но начало всего процесса лежало в плоскости конкретных задач и потребностей Месопотамии. По мере увеличения численности населения одна из главных задач правителя должна была заключаться в мобилизации трудовых ресурсов в интересах проведения масштабных работ по орошению земель и обузданию паводковых вод. Управление проведением таких мероприятий могло к тому же позволить набор нужного количества солдат, а так как вооружение становилось все более сложным и дорогостоящим, в военном деле требовался соответствующий профессионализм. В известной степени достижения аккадцев в военной сфере обеспечивались применением нового оружия в виде сложного лука, изготовленного из деревянных и роговых полос.
Аккадская гегемония просуществовала относительно недолго. Через 200 лет при правнуке Саргона она была свергнута горными народами – гутьянами, и начался последний этап истории шумеров, названный учеными «нео-шумерский». На последующие 200 лет или около того до 2000 года до н. э. господство снова перешло к местным шумерам. На сей раз его центром стал город Ур, и, хотя трудно понять, что это означало на практике, первый царь третьей династии Ура, пришедшей к власти, назвал себя царем Шумера и Аккада. В шумерском искусстве данного периода проявилась новая тенденция к возвеличиванию власти суверена; традиция народной портретной живописи архаичного периода практически сошла на нет. Снова началось строительство храмов, еще больших по размеру и роскошных, а цари явно стремились воплотить свое величие в зиккуратах. По дошедшим до нас официальным документам можно судить о сохранении к тому же аккадского наследия; в нео-шумерской культуре проявляется множество семитских черт, а в стремлении к расширению царской власти можно заподозрить семитское наследие. Области, платившие дань последним успешным царям Ура, простираются от Суз на границах Элама в нижнем течении Тигра до Библоса на побережье Ливана.
Так наступил закат первого народа, сумевшего создать свою цивилизацию. Разумеется, никуда этот народ не исчез, но волны общей истории народов Месопотамии и Ближнего Востока поглотили его индивидуальность. Великая эпоха его творческого порыва осталась позади, а мы сосредоточили свое внимание на относительно небольшой территории; теперь же горизонты истории будут расширяться. На границах сосредоточивались многочисленные враги. Приблизительно в 2000 году до н. э. пришли эламиты, и Ур пал перед ними. Причины поражения шумеров нам не известны. На протяжении тысячелетий сохранялась вражда между народами, и кое-кто видит в таком поражении результат борьбы за контроль над маршрутами, пролегавшими по территории Ирана, который мог гарантировать свободный доступ к горной местности, где залегали полезные ископаемые, необходимые жителям Месопотамии. В любом случае господству правителей Ура наступил конец. Вместе с ним исчезла самобытная шумерская традиция, теперь уже слившаяся в водовороте мира новых цивилизаций. Она с тех пор только изредка просматривалась в образцах материальной культуры, созданных другими народами. На протяжении 15 веков или около того шумеры наращивали грунтовое основание цивилизации в Месопотамии точно так же, как их доисторические предшественники создавали физический плодородный слой, на котором взошла сама шумерская цивилизация. После нее осталась письменность, монументальные сооружения, понятие справедливости и законности, азы математики и великая религиозная традиция. Итак, список солидный, а еще семена значительно больших грядущих свершений. Месопотамской традиции предстояла еще длинная жизнь, и каждая ее сторона оказывалась затронутой шумерским наследием.
Пока шумеры выстраивали свою цивилизацию, их влияние одновременно способствовало повсеместным изменениям у других народов. На всем протяжении Плодородного полумесяца возникали новые царства и формировались народы. Их усилия подстегивались или направлялись тем, что они видели у своих соседей на юге, и империей Ур, а также собственными потребностями. Распространение признаков цивилизации шло уже просто стремительно. Из-за этого крайне затрудняется точное определение контуров и категорий главных процессов данных веков. Но сложность усугубляется еще и тем, что на Ближнем Востоке на протяжении продолжительного времени царила неразбериха из-за переселения народов, причин которого нам понять пока не дано. К ним относятся сами аккадцы, первоначально покинувшие великий семитский родной край Аравии, чтобы осесть в Месопотамии. Гутьяны, сыгравшие свою роль в ниспровержении аккадцев, переселились с севера. Самыми удачливыми из всех этих народов оказались амориты, относящиеся к одной из семитских групп, расселившиеся на обширной территории и примкнувшие к эламитам, чтобы совместными усилиями опрокинуть армии царства Ур и покончить с его верховенством. Они утвердились в Ассирии, или Верхней Месопотамии, со столицей в Дамаске, а также в Вавилоне и ряде царств, простиравшихся до побережья Палестины. Древние шумеры Южной Месопотамии никак не могли примириться с эламитами. В Анатолии их соседями оказались хетты, индоевропейский народ, представители которого переселились с Балкан в 3-м тысячелетии. В окресностях этого великого столпотворения простиралась еще одна древняя цивилизация – Египет, а также обитали племена энергичных индоевропейских народов, заселивших Иран. Общая картина представлялась хаосом; область выглядела водоворотом групп, втягивающихся в его воронку со всех сторон.
Неким подходящим ориентиром можно воспользоваться с появлением в Месопотамии новой империи, триумфально вошедшей в историю под названием Вавилон. С этой империей неотъемлемо связана личность ее знаменитого царя по имени Хаммурапи. Ему и без того досталось бы заметное место в человеческой истории хотя бы в силу его широко известной репутации законодателя; свод законов Хаммурапи остается самым древним трудом, автор которого сформулировал правовой принцип «око за око». Он к тому же числится первым правителем, объединившим всю Месопотамию, и хотя его империя просуществовала совсем недолго, превратилась в символический центр семитских народов юга Ближнего Востока. Все началось с победы одного из аморитских племен над его соперниками в период смуты после краха царя Ура. Хаммурапи мог провозгласить себя правителем в 1792 году до н. э.; его преемники исправно продолжали его дело приблизительно до начала 1600-х годов до н. э., пока хетты не разрушили Вавилон, а Месопотамию снова поделили между враждовавшими народами, стекавшимися на ее территории со всех сторон.
В период своего максимального возвышения территория первой вавилонской империи простиралась от Шумерского государства и северного побережья Персидского залива до Ассирии, образованной в верхней части Месопотамии. Хаммурапи правил городами Ниневия и Нимруд на берегу Тигра, городом Мари в верховьях Евфрата, а также контролировал эту реку до места, ближе всего расположенного к городу Алеппо. Государство, занимавшее территорию протяженностью 1126 километров длиной и приблизительно 160 километров шириной, выглядело тогда огромным, на самом деле крупнейшим. Даже в наши дни такое представить невозможно. Притом что империя царя Ура потерпела поражение и сдалась на милость победителя. Для этой империи сформировали тщательно продуманную административную структуру, и свод законов Хаммурапи справедливо считается знаменитым, хотя известность ему досталась в силу случайного стечения обстоятельств. Предыдущие своды суждений и правил дошли до нас в виде всего лишь разрозненных фрагментов, зато свод законов Хаммурапи выбили в камнях и выставили их во внутренних дворах храмов, чтобы народ мог свободно обращаться к мудрости своего правителя. Но в отличие от предыдущих правовых сборников в этом памятнике авторы смогли подробным и упорядоченным способом собрать 282 статьи, в которых давалось всестороннее толкование широкого диапазона вопросов: оплаты труда, бракоразводного процесса, оплаты услуг лекарей и многих других актуальных сторон жизни. Речь шла не столько о законодательстве, сколько о декларации существующего права, и разговором о «своде законов» можно ввести собеседника в заблуждение, если только не сделать оговорку в пользу вышесказанного. Хаммурапи собрал вместе уже применявшиеся в его время правила; он не придумывал свои законы de novo (заново). Его кодекс «норм общего права» не менялся на протяжении долгого времени месопотамской истории.
Главное внимание в этом своде правил уделено проблемам семьи, оборота земли и торговли. При этом возникает картина общества, ушедшего уже далеко вперед от регулирования через родственные связи, местное сообщество и управление главами деревень. Ко времени Хаммурапи судебная процедура уже возникла из храмового правосудия, и правилом стало отправление суда людьми, не относящимися к сословию жрецов. В судах заседали представители местной городской знати, и от них обращения поступали в Вавилон, а также к самому царю. На стеле Хаммурапи (каменном столбе, на котором высечен его свод законов) ясно сказано, что его цель состояла в том, чтобы обеспечить справедливость через издание закона:
«Угнетенный человек, который обретет судебное дело, пусть подойдет к моему, царя справедливости, изображению, пусть заставит прочитать мой написанный памятник, пусть он услышит мои драгоценные слова, а мой памятник пусть покажет ему его дело, пусть он увидит свое решение, пусть успокоит свое сердце…»
К сожалению, быть может, его наказания выглядят более суровыми по сравнению с древней шумерской судебной практикой, но в других аспектах, таких как законы, касающиеся прав женщин, шумерская традиция в Вавилоне сохранилась.
Положения свода законов Хаммурапи, касающиеся собственности, включали законы о положении рабов. В Вавилоне, как и во всех остальных центрах древней, а также современной цивилизации, существовала система рабовладения. Скорее всего, происхождение рабовладения восходит к завоевательным войнам; совершенно определенно рабство предназначалось судьбой всем тем, кто терпел поражение в той или иной войне древней истории, а также его женщинам и детям. Но ко времени появления первой Вавилонской империи постоянные невольничьи рынки уже существовали и сложились устойчивые цены, указывающие на абсолютную регулярность торговли людьми. Особенно высоко ценили отличающихся особыми качествами рабов из определенных районов. Притом что право владельца на раба считалось фактически абсолютным, некоторые невольники в Вавилоне пользовались заметной независимостью, занимались своим доходным делом и даже владели собственными рабами. Им предоставлялись собственные права, пусть даже весьма ограниченные по сравнению с правами свободных людей.
Нам сложно понять, что на практике означало рабство в мире, в котором отсутствовало воспринимаемое нами как бесспорное осознание того, что систему рабского труда ничем оправдать не возможно. Все рассуждения общего характера сходят на нет в свете утверждения о великом разнообразии направлений использования рабов; если уж в то время судьба всем рабам досталась нелегкая, то и практически всем свободным людям их жизнь медом не казалась. Остается разве что сочувствовать судьбе пленников, уведенных в рабство множеством победоносных царей, чьи мемориалы украшают просторы от «золотого стандарта» Ура середины 3-го тысячелетия до каменных барельефов ассирийских завоевателей 1500 лет спустя. В древнем мире цивилизация создавалась за счет безжалостной эксплуатации человека человеком; и если такой метод считался не слишком жестоким, то исключительно потому, что о другом возможном пути ведения дел никто даже помыслить не мог.
В свое время вавилонская цивилизация вошла в легенду своим великолепием. Сохранение одного из величайших внешних представлений о городской жизни – суетного, порочного города удовольствия и потребления – в названии «Вавилон» переходило по наследству и сообщало о масштабе и богатстве этой цивилизации, хотя львиная его доля появилась в более позднем периоде истории. И все же сохранилось достаточно памятников, чтобы за этим мифом разглядеть факты, касающиеся древней Вавилонской империи. Производящим огромное впечатление можно считать, например, дворец в городе Мари; стены, окружающие дворы и в некоторых местах достигающие толщины 12 метров, около 300 комнат, формируют комплекс, оснащенный водоотводной системой из труб с битумным покрытием, пролегающих на глубине девять метров. Он занимает площадь 137 на 180 с лишним метров и считается самым наглядным доказательством власти, которой пользовался тамошний монарх. В этом дворце к тому же обнаружено громадное количество глиняных табличек с письменами, из которых можно получить сведения о состоянии дел предпринимателей и государственных мелочах, заботивших власти империи в то время.
Со времен древней Вавилонской империи сохранилось гораздо больше табличек, чем от государств ее предшественников или непосредственных преемников. На них излагаются подробности жизни вавилонян, позволяющие нам узнать эту цивилизацию лучше (на что уже обращалось внимание), чем то, какими были некоторые европейские страны тысячу лет назад. Они к тому же обогащают наши знания о том, что занимало умы жителей Вавилона. Как раз в те времена сформировалось «Сказание о Гильгамеше», каким оно дошло до нас. Вавилоняне придали клинописи силлабическую (слоговую) форму, тем самым придав ей чрезвычайную гибкость и практичность. Их астрологи усовершенствовали систему наблюдения за природой и оставили нам еще один миф – миф о мудрости халдеев, которыми иногда по ошибке называли вавилонян. В надежде предугадать свою судьбу по расположению звезд вавилоняне разработали науку под названием астрономия и провели ряд важных наблюдений за звездным небом, которые стали еще одним крупным наследием их культуры. Потребовались века, чтобы накопить необходимые данные, сбор которых начался в Уре, но к 1000 году до н. э. уже появилась возможность прогнозировать лунные затмения, а в течение еще двух или трех веков удалось с предельной точностью рассчитать траекторию движения Солнца и некоторых планет относительно всегда неподвижных звезд. Научной традицией, отраженной в вавилонской математике, последователи которой передали нам шестидесятичную систему исчисления шумеров, завещано деление нашего круга на 360 градусов, а часа – на 60 минут. Вавилоняне к тому же рассчитали математические таблицы и разработали алгебраическую геометрию большой практической пользы, а также, возможно, изобрели солнечные часы, считающиеся древнейшим среди известных инструментом для слежения за течением времени.
Заниматься астрономией начали жрецы храмов с наблюдения за движением небесных тел, по которым определяли наступление праздников плодородия и начало сева, и вавилонская религия во многом следовала шумерской традиции. У древнего города Вавилона имелось свое городское божество по имени Мардук; постепенно он пробился на первое место среди своих месопотамских соперников. На это ушло много времени. Хаммурапи безапелляционно заявил, что шумерские боги Ану и Энлиль передали руководство месопотамским пантеоном Мардуку, и во многом сделали это в надежде на то, что тот будет править людьми ради их пользы. Последующие превратности (иногда сопровождавшиеся похищением его статуи захватчиками) омрачили статус Мардука, но после XII века до н. э. его положение сомнению обычно не подвергалось. Между тем шумерская традиция сохранялась в 1-м тысячелетии до н. э. в форме использования шумерского языка для совершения чина богослужения в вавилонских храмах, в использовании имен богов и названии приписываемых им ролей. Вавилонская космогония, как и у шумер, начиналась с создания мира из морского хаоса (имя одного бога означало «ил») с последующим изготовлением человека как невольника богов. Согласно одной из легенд, боги превращали людей в кирпичи с помощью глиняных форм. Такая картина мира отвечала интересам абсолютного монарха, когда царь отправлял власть над людьми наравне с богами. А смысл жизни людей заключался в возведении для царей дворцов и поддержании иерархии чиновников с великими мужами, подобной иерархии небесной.
Свершениям Хаммурапи суждено было не надолго пережить своего героя. События в Северной Месопотамии послужили указанием на появление там новой власти еще до того, как он основал свою империю. Хаммурапи сверг власть аморитов, утвердившихся в Ассирии ближе к закату господства царя Ура. Победой здесь пришлось радоваться очень короткое время. За нею последовала без малого тысяча лет, на протяжении которых Ассирия оказалась полем сражений и яблоком раздора, в конечном счете затмившим Вавилон, от которого это царство отделилось. От древнего Шумера центр событий месопотамской истории решительно переместился на север. Хетты, укоренявшиеся в Анатолии на протяжении последней четверти 3-го тысячелетия до н. э., в последующие несколько веков продолжали медленное продвижение вперед; за это время они переняли клинопись, которую приспособили к своему собственному индоевропейскому языку. К 1700 году до н. э. они установили свою власть над землями, пролегавшими между Сирией и Черным морем. Затем один из их царей повернул свои войска на юг против Вавилонии, к тому времени уже ослабленной и сократившейся до размеров древней территории царства Аккада. Его преемник довел начатое продвижение до победного завершения; хетты захватили и разграбили Вавилон, династии Хаммурапи пришел конец, а его достижения предали забвению. Но когда хетты ушли, другие народы занялись правлением и оспариванием Месопотамии. Это продолжалось 4 загадочных века, о которых нам известно мало, разве только то, что за данный отрезок времени проблема разделения Ассирии и Вавилонии решилась окончательно, и факт такого разделения сыграл важную роль в следующем тысячелетии.
В 1162 году до н. э. завоеватели-эламиты снова вывезли из Вавилона статую Мардука. Началась совершенно запутанная эпоха, и центр всемирной истории переместился, покинув Месопотамию. Судьбу ассирийской империи еще предстояло определить, а фоном для нее служила новая волна переселения в XIII и XII веках до н. э. народов, являвшихся носителями своих собственных цивилизаций, глубоко отличных от цивилизаций преемников шумеров. Те преемники, их завоеватели и гонители, тем не менее обосновались на культурном фундаменте, заложенном в Шумере. С точки зрения технического уровня, интеллекта, права, теологии Ближний Восток, который к X веку до н. э. затянуло в вихрь мировой политики (по тем временам такой тезис может быть использован с большой натяжкой), все еще нес печать творцов его первой цивилизации. Их наследие переходило к новым поколениям в причудливо искаженном виде.