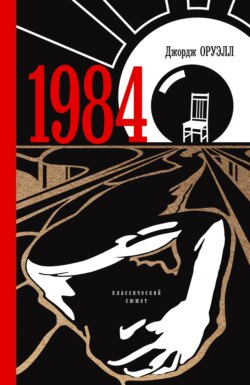Читать книгу 1984 - Джордж Оруэлл, George Orwell - Страница 2
Часть Первая
Глава 2
ОглавлениеВзявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что оставил открытый дневник на столе. Через весь лист шла надпись: «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА», и буквы были, наверное, достаточно большими, чтобы разобрать написанное с порога. Как он мог сделать такую невероятную глупость. Однако он понял: даже в состоянии паники он не захотел испачкать кремовую бумагу, захлопнув книгу, пока чернила еще не просохли.
Он глубоко вздохнул и открыл дверь. И сразу же по его телу прокатилась теплая волна облегчения. Снаружи стояла бесцветная, забитая женщина с жиденькими растрепанными волосами и морщинистым лицом.
– Ой, товарищ, – завела она тоскливым, скулящим голосом, – я верно услышала, что вы уже пришли. Не могли бы вы пойти и посмотреть нашу раковину на кухне? Она совершенно засорилась…
Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия не одобряла слово «миссис», всех нужно было называть «товарищ», но с некоторыми женщинами это непостижимым образом не получалось.) Ей скорее всего исполнилось тридцать, но она выглядела намного старше. Возникало впечатление, будто в морщины ее лица набилась пыль.
Уинстон последовал за ней по коридору. Любительские работы по починке стали почти ежедневным его раздражителем. Комплекс «Победа» был старым, его построили в 1930 году или около того, а потому он пришел в полный упадок. С потолка и стен постоянно сыпалась штукатурка, трубы лопались всякий раз, когда ударял мороз, крыша протекала, как только начинал идти снег, а система отопления обычно давала лишь половину давления, если из соображений экономии ее не отключали совсем. Для ремонтных работ, которые ты не мог сделать самостоятельно, требовалось разрешение неких отдаленных комитетов, которые даже вопрос о починке окна рассматривали два года.
– Конечно, это все потому что Тома нет дома, – неопределенно сказала миссис Парсонс.
Квартира у Парсонсов была больше, чем у Уинстона, и отличалась убогостью иного рода. Все было потрепано и потоптано, словно здесь только что побывал какой-то крупный дикий зверь. Спортивный инвентарь: хоккейные клюшки, боксерские перчатки, сдутый футбольный мяч, потные шорты, вывернутые наизнанку – все разбросано по полу, а на столе – грязная посуда вперемешку с тетрадками, у которых загнулись уголки. На стенах развешаны алые вымпелы Молодежной лиги и Союза разведчиков, а также полноразмерный плакат с изображением Большого Брата. В помещении стоял привычный дух вареной капусты, присущий всему зданию, но здесь его перебивал еще более резкий запах пота, который (это было понятно с первой секунды, правда, трудно сказать, почему именно) оставил тот самый человек, который в настоящий момент отсутствовал. В другой комнате кто-то, используя расческу и кусок туалетной бумаги, пытался подыграть военному маршу, все еще доносившемуся из телеэкрана.
– Это дети, – сказала миссис Парсонс, с некоторой опаской глянув на дверь. – Они сегодня дома. И конечно…
Она имела привычку обрывать фразы на половине. Грязная зеленоватая вода заполняла кухонную раковину почти до краев, а запах от нее исходил покруче, чем от капусты. Уинстон опустился на колени и проверил угловое соединение на трубе. Он терпеть не мог работать руками и не любил наклоняться, потому что это всегда вызывало у него кашель. Миссис Парсонс беспомощно смотрела на него.
– Конечно, если бы Том был дома, он бы в момент все сделал, – произнесла она. – Он любит заниматься такими вещами. Так-то у него золотые руки, у Тома.
Парсонс работал в Министерстве правды вместе с Уинстоном. Это был полноватый, но деятельный мужчина, отличающейся потрясающей тупостью и идиотским энтузиазмом, один из тех работяг, кто никогда ни о чем не спрашивает и поддерживает стабильность Партии лучше, чем даже Полиция мыслей. В свои тридцать пять он с неохотой вышел из Молодежной лиги, а перед тем, как вступить в нее, ухитрился пробыть в Разведчиках на год больше положенного возраста. В Министерстве правды он занимал незначительную должность, для которой не требовалось ума, однако при этом он являлся заметной фигурой в Спортивном комитете, равно, как и во всех других комитетах, занимающихся организаций туристических походов, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочей добровольной деятельности. Покуривая трубочку, он со скромной гордостью говорил о себе, что за последние четыре года не пропустил ни одного вечера в Общественном центре. Неистребимый запах пота, что-то вроде невольного свидетельства его насыщенной движением жизни, следовал за ним повсюду и даже оставался в помещении, когда он выходил оттуда.
– У вас есть гаечный ключ? – спросил Уинстон, который вертел гайку в угловом соединении.
– Гаечный ключ? – переспросила миссис Парсонс, вдруг поникнув. – Не знаю. Я не уверена. Может, дети…
Раздался топот ботинок, снова визгнула гребенка – и дети ворвались в гостиную. Миссис Парсонс принесла гаечный ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением достал из трубы клок волос, который и стал причиной засора. Он постарался как можно тщательнее отмыть пальцы холодной водой из крана, а затем пошел в комнату.
– Руки вверх! – закричал кто-то диким голосом.
Симпатичный мальчишка девяти лет выпрыгнул откуда-то из-за стола, наставив на Уинстона игрушечный автомат, в то время как маленькая сестренка, года на два младше его, нацелила на гостя кусок деревянной палки. Оба были одеты в форму Разведчиков: синие шорты, серые рубашки, красные галстуки. Уинстон поднял руки, но ощутил при этом неловкость: поведение ребенка было весьма агрессивным и не походило на игру.
– Ты предатель, – визжал парень. – Ты мыслепреступник! Ты евразийский шпион! Я тебя убью, я тебя распылю, я отправлю тебя на соляные шахты!
И они оба принялись скакать вокруг него, выкрикивая: «Предатель!» и «Мыслепреступник», – а девчонка при этом повторяла каждое движение брата.
Все это выглядело несколько пугающе: резвящиеся тигрята скоро вырастут и превратятся в тигров-людоедов. В глазах мальчишки сквозила намеренная жестокость, а также совершенно явное желание ударить или пнуть Уинстона; парень знал, что у него вот-вот хватит сил сделать это. Уинстон подумал: хорошо хоть, что у того в руках пистолет не настоящий.
Миссис Парсонс нервно смотрела то на Уинстона, то на детей. В свете лампы гостиной он с интересом отметил, что у нее действительно была пыль в морщинах.
– Они так расшумелись, – сказала она. – Огорчились, что не смогли пойти посмотреть на повешение. Вот в чем дело. Я занята, не могу их отвести, а Том сегодня поздно вернется с работы.
– Почему мы не пойдем смотреть, как вешают? – громогласно взревел парень.
– Хочу посмотреть, как вешают! Хочу посмотреть, как вешают! – канючила девчушка, продолжая прыгать по комнате.
Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в Парке будут вешать евразийских заключенных, виновных в военных преступлениях. Обычно казнь проводили раз в месяц, и она была популярным зрелищем. Дети всегда просились посмотреть ее. Он вышел из квартиры миссис Парсонс и направился к себе. Но не успел он сделать и шести шагов по коридору, как что-то невыносимо больно треснуло его по затылку. Будто в него ткнули раскаленным докрасна металлическим прутом. Он обернулся как раз во время, чтобы увидеть, как миссис Парсонс затаскивает сына домой, а тот убирает в карман рогатку.
– Гольдштейн! – взревел мальчишка, перед тем, как дверь захлопнулась за ним. Но более всего Уинстона поразило выражение отчаянного страха на сероватом лице женщины.
У себя в квартире он быстро прошел мимо телеэкрана и, все еще потирая шею, снова сел за стол. Музыка из телеэкрана уже прекратилась. Вместо нее отрывистый голос военного с некоторым жестоким удовольствием описывал вооружение новой плавучей крепости, которая бросила якорь между Исландией и Фарерскими островами.
Бедная женщина, подумал он, с такими детьми живет в постоянном страхе за свою жизнь. Еще годик-другой, и они начнут следить за ней день и ночь, чтобы выявить признаки отступления от догм. В наши дни почти все дети ужасны. А что самое плохое, так это то, что с помощью таких организаций, как Разведчики, их целенаправленно превращают в неуправляемых маленьких дикарей, которые, однако, не имеют никакой склонности бунтовать против партийной дисциплины. Напротив, они обожают Партию и все с ней связанное. Песни, шествия, флаги, походы, тренировки с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату – все это кажется им какой-то восхитительной игрой. Их свирепость обращают вовне – на врагов государства, иностранцев, предателей, вредителей, мыслепреступников. Почти никого не удивляет тот факт, что люди старше тридцати лет боятся своих же собственных детей. А потому не проходит и недели, как в «Таймс» появляется заметка, где говорится о том, как какой-нибудь маленький соглядатай и ябедник – таких обычно называют «юный герой» – подслушал компрометирующее замечание и донес на своих родителей в Полицию мыслей.
Боль от пульки, пущенной из рогатки, прошла. Он нерешительно снова взял ручку, думая, о чем бы еще написать в дневнике. И вдруг он снова начал думать об О’Брайене.
Несколько лет назад (Когда это было? Должно быть, семь лет прошло) ему приснилось, будто он движется по темной-темной комнате. Кто-то сидит сбоку от него и говорит, когда он проходит мимо: «Мы встретимся там, где нет темноты». Слова прозвучали очень тихо, словно мимоходом – констатация факта, а не приказ. Он не остановился. Любопытно, но тогда, во сне, эти слова не произвели на него особого впечатления. Лишь позже и не сразу, а постепенно они начали казаться важными. Он не мог вспомнить, было это до или после его первой встречи с О’Брайеном и когда он понял, что это голос О’Брайена. Но как бы там ни было, он его узнал. Именно О’Брайен говорил с ним в темноте.
Уинстон никогда не был уверен в том – даже после встречи взглядами сегодня утром у него не возникло полной уверенности, – друг О’Брайен или враг. Да это, казалось, не имеет такого уж значения. Между ними протянулась ниточка взаимопонимания, что мыслилось ему более важным, чем теплые чувства или горячая поддержка. «Мы встретимся там, где нет темноты», – когда-то сказал О’Брайен. Уинстон не знал, что значат эти слова, он лишь чувствовал, что они так или иначе сбудутся. Голос в телеэкране ненадолго прервался. В спертом воздухе комнаты раздался звук фанфар – чистый и прекрасный. Голос снова заскрипел:
Внимание! Пожалуйста, внимание! Экстренный выпуск последних новостей с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали блистательную победу. Я уполномочен заявить, что в результате этого сражения война может окончиться в обозримом будущем. Вот последние сводки…
Грядут неприятности, подумал Уинстон. И точно: вслед за кровавым описанием разгрома Евразийской армии и колоссальными цифрами убитых и взятых в плен объявили о том, что норма распределения шоколада снижается с тридцати грамм до двадцати.
Уинстон опять рыгнул. Джин уже выветрился, оставив после себя лишь ощущение разбитости. Телеэкран – может быть, в ознаменование победы или, может быть, заставляя забыть об урезанном шоколаде – грянул «Для тебя, Океания». В такой ситуации нужно было встать по стойке смирно. Но, сидя в углу, он был невидим.
Гимн «Для тебя, Океания» сменился более легкой музыкой. Уинстон, держась спиной к телеэкрану, пошел к окну. День по-прежнему был холодным и ясным. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом взорвалась управляемая ракета. Сейчас их на Лондон по двадцать-тридцать штук в неделю падало.
Ветер на улице хлопал разорванным плакатом, на котором то исчезало, то появлялось слово АНГСОЦ. Ангсоц. Священные принципы Ангсоца. Новодиалект, двоемыслие, туманное прошлое. Ему казалось, будто он бродит в лесу на дне моря, заблудившись в мире чудовищ, где и он сам чудовище. Он одинок. Прошлое мертво, а будущее невозможно представить. Можно ли сказать с уверенностью, что хоть одно человеческое существо на его стороне? Как узнать, что власть Партии не продлиться ВЕЧНО? И словно в ответ на его мысли он увидел три лозунга на белом фасаде Министерства правды:
Война – это мир
Свобода – это рабство
Незнание – сила
Он вытащил из кармана монетку в двадцать пять центов. И на ней тоже выгравированы крошечными четкими буквами эти же лозунги, а на другой стороне – голова Большого Брата. Даже с монеты тебя преследует его взгляд. С монет, с марок, с обложек, с флагов, с плакатов, с упаковки от пачки сигарет – отовсюду. Его глаза все время следят за тобой, а его голос звучит в твоих ушах. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или ешь, находишься в помещении или на улице, в ванной или в постели – тебе не спрятаться. У тебя нет ничего твоего, за исключением нескольких кубических сантиметров в черепе.
Солнце закатилось, и свет его больше не играл на мириадах окон в здании Министерства правды, которые теперь выглядели угрюмо, как бойницы крепости. При виде огромной пирамиды у него сжалось сердце. Она слишком крепка, и штурмом ее не взять. Ее не уничтожить и тысячей ракет. Он снова задал себе вопрос, для кого он пишет дневник. Для будущего, для прошлого – для времени, которое он даже не может представить. Его ожидает не просто смерть, а уничтожение. Дневник сожгут дотла, а его самого распылят. Только Полиция мыслей прочитает то, что он написал, прежде чем стереть его из жизни и из памяти. Как тогда обратиться к будущему, если не останется и следа от тебя, не останется даже безымянного слова, начертанного на кусочке бумаги?
Телеэкран пробил четырнадцать. Через десять минут он должен уйти. В четырнадцать тридцать ему нужно снова быть на работе.
Странно, но бой часов будто опять вдохнул в него мужество. Он одинокий призрак, говорящий правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он говорит ее, непонятно почему, но мир не обрушится. И пусть тебя не услышат, главное, что ты сохраняешь разум и хранишь наследие человечества. Он вернулся к столу, обмакнул в чернила перо и написал:
Будущему или прошлому, тому времени, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночестве, тому времени, когда правда существует и прошлое не превращается в небытие. От эпохи униформы, от эпохи одиночества, от эпохи Большого Брата, от эпохи двоемыслия – привет!
Он подумал, что уже мертв. Ему казалось, что только сейчас, начав формулировать свои мысли, он сделал решительный шаг. Последствия каждого поступка – составная часть самого поступка. Он написал:
Мыслепреступление не ведет к смерти: мыслепреступление ЕСТЬ смерть.
Сейчас, когда он понял, что он мертв, ему стало важно оставаться живым как можно дольше. Он испачкал два пальца чернилами. Именно такие мелочи могут выдать тебя. Какой-нибудь рьяный фанатик с длинным носом в Министерстве (скорее всего женщина: например, маленькая рыжеволосая или черноволосая из Департамента художественной литературы) может вдруг заинтересоваться, почему он писал во время обеденного перерыва, почему он использовал для этого старомодную перьевую ручку, ЧТО он писал, а затем намекнет кому следует. Он пошел в ванную и тщательно смыл чернила с помощью зернистого темно-коричневого мыла, которое скребло по коже, будто наждачная бумага, а значит, подходило для этой цели.
Он убрал дневник в ящик. Глупо было прятать его, но надо хотя бы знать, известно им о существовании дневника или нет. Волос, положенный поперек обреза уж слишком заметен. Кончиком пальца он взял крупинку беловатой пыли и поместил ее уголок обложки: она упадет, если книгу возьмут.