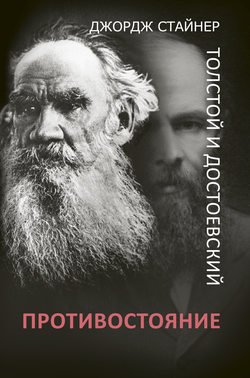Читать книгу Толстой и Достоевский: противостояние - Джордж Стайнер - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1
III
ОглавлениеТ
радиция европейского романа родилась из самих обстоятельств, которые эпопею привели к краху, а серьезную драму – к увяданию. Благодаря неискушенности, связанной с большими расстояниями, а также – множественности случаев проявления индивидуального творческого гения, русские писатели от Гоголя до Горького заряжали свой материал такой энергией, столь высокой концентрацией откровения, столь неистовой поэзией веры, что проза как литературная форма стала соперничать по своему масштабу с эпопеей и драмой – а то и превосходить их. Но история романа – это не непрерывная череда последовательных событий. Русское чудо было реализовано через резкое отмежевание от превалирующей европейской формы, вплоть до противопоставленности ей. Русские мастера – подобно американцам Готорну и Мелвиллу, которые занимались тем же, но по-своему, – нарушили традиции жанра в том виде, в каком его понимали в период от Дефо до Флобера. Главный вопрос состоял в том, что для реалистов XVIII века эти традиции служили источником силы, а ко времени «Мадам Бовари» они превратились в ограничения. Что это за традиции и как они возникли?
Эпическая поэма в своем естественном виде адресована довольно узкому кругу слушателей; драма – в ее живом проявлении, а не тогда, когда она становится просто формой, – предназначена для коллективного организма – театральной аудитории. Но роман ведет разговор с читателем-индивидуумом в стихии его личной жизни. Это – способ общения писателя с фрагментированным обществом, «произведение воображения», как формулирует Буркхардт,13 «читаемое в уединении». Обитать в собственном жилом пространстве, читать книгу для себя – означает пребывать в условиях, богатых историческими и психологическими контекстами. Эти контексты имеют непосредственное отношение к истории и характеру европейской прозы. Они дали ей многочисленные и определяющие связи с материальным состоянием и мировоззрением среднего класса. Если мы можем говорить, что эпические поэмы Гомера и Вергилия – это форма беседы между поэтом и аристократией, то и роман можем назвать главной формой искусства эпохи буржуазии.
Роман возник не только как искусство частного европейского горожанина, имеющего свое жилье. Со времен Сервантеса он был зеркалом, через которое воображение рационально смотрело на эмпирическую реальность. «Дон Кихот» сказал неуверенное и сострадательное прощай миру эпопеи; «Робинзон Крузо» наметил мир современного романа. Подобно потерпевшему крушение моряку из книги Дефо, романист окружает себя оградой осязаемых фактов – дивно крепкие дома Бальзака, запах Диккенсовых пудингов, аптечные конторки Флобера и неиссякаемые описи Золя. Если романист увидит отпечаток ноги на песке, он заключит, что это – таящийся в кустах Пятница, а не след эльфа или – как в шекспировском мире – призрачный след «бога Геркулеса, которого Антоний считает покровителем своим».14
Мейнстрим западного романа прозаичен – скорее, в буквальном, чем в уничижительном смысле. В нем практически нет места ни Мильтонову Сатане, рассекающему воздух над бескрайними просторами хаоса, ни Трем Ведьмам из «Макбета», плывущим на решете к Алеппо. Ветряные мельницы перестали быть великанами, это просто ветряные мельницы. Зато проза расскажет нам, как ветряные мельницы строят, что они производят, и какие именно звуки издают в непогожую ночь. Ведь в этом и состоит гений романиста – описывать, анализировать, исследовать и накапливать фактические и интроспективные данные. Из всех толкований опыта, за которые берется литература, из всех сформулированных возражений против того, что предлагает действительность, роман дает аргументы наиболее последовательные и всеобъемлющие. Произведения Дефо, Бальзака, Диккенса, Троллопа, Золя или Пруста документируют наше ощущение мира и прошлого. Их книги – ближайшие кузены истории.
Разумеется, к некоторым видам прозы это не относится. На рубежах главенствующей традиции лежат устойчивые зоны иррационализма и мифа. Немалое количество готики (к ней я вернусь в разговоре о Достоевском), «Франкенштейн» миссис Шелли и «Алиса в Стране чудес» – характерные примеры бунта против доминирующего эмпиризма. Достаточно взять Эмили Бронте, Гофмана и По, и уже станет ясно, что развенчанная демонология «донаучной» эры вполне здравствовала и после своей смерти. Но европейский роман XVII–XIX веков был преимущественно светским по мироощущению, рациональным – по методу и социальным – по контексту.
По мере роста технических ресурсов и массивности реализма росли и его масштабные амбиции: он стал претендовать на создание посредством языка обществ, не менее сложных и вещественных, чем те, что существуют во внешнем мире. По малому счету из этих попыток на свет появились «Барчестерские башни» Троллопа, а по крупному – фантастическая мечта о «Человеческой комедии». Согласно планам автора, обрисованным им в 1845 году, она должна была включать 137 отдельных произведений. Французской жизни предстояло найти в ней своего полного двойника. В знаменитом письме 1844 года Бальзак сравнивал свой замысел со свершениями Наполеона, Кювье и О’Коннелла:
«Первый жил жизнью Европы, он сросся с армиями! Второй своими трудами объял весь шар земной! Третий олицетворял собой народ. А мне придется нести в своих мыслях целое общество!»15
У всепобеждающего бальзаковского замысла имеется современная параллель: округ Йокнапатофа, «единственный владелец – Уильям Фолкнер».
Но в доктрине и практике реалистического романа с самого начала присутствовал элемент противоречия. Соответствовала ли работа с современным жизненным материалом той самой «высокой серьезности», по выражению Мэтью Арнольда, истинно великой литературы? Вальтер Скотт предпочитал исторические темы в надежде с их помощью достигнуть величия и поэтической отстраненности, характерных для эпопеи и стихотворной драмы. Лишь после рождения произведений Джейн Остин и Джорджа Элиота, Диккенса и Бальзака стало видно, что современное общество и повседневные события могут предоставить материал, с художественной и этической точки зрения не менее захватывающий, чем тот, что поэты и драматурги черпали из древних космологий. Но произведения эти – именно в силу содержательности и мощи – поставили реализм перед лицом новой и, в итоге, более трудноразрешимой дилеммы. Не возобладает ли простая сплошная масса наблюдений за фактами над художественным замыслом романиста и его формальным контролем, не сведет ли она их на нет?
Благодаря этической проницательности и внимательному изучению моральных ценностей, зрелые реалисты XIX века – как показал Ф.Р. Ливис16 – сумели не дать своему материалу посягнуть на целостность литературной формы. Более того, острейшие критические умы эпохи осознавали опасность излишнего жизнеподобия. Гете и Хэзлит17 указывали, что попытки изобразить всю полноту современной жизни поставят искусство перед риском превратиться в журналистику. И Гете в прологе к «Фаусту» отметил, что распространение газет уже привело к снижению восприимчивости читающей публики. Это может показаться парадоксальным, но в конце XVIII и начале XIX веков реальность и сама стала более красочной; она захватила людей своими оживленными тонами. Хэзлит задавался вопросом, сможет ли человек, прошедший через эпоху Французской Революции и Наполеоновских войн, найти удовлетворение в наигранной страсти литературы? Прямой – хоть и неверно истолкованный – ответ на этот вызов и Хэзлит, и Гете усматривали в популярности мелодрамы и готического романа.
Эти опасения оказались пророческими, но, как выяснилось, преждевременными. Они предвосхитили агонию Флобера, как и коллапс натуралистического романа под гнетом документализации. Вплоть до 60-х годов XIX века европейская проза процветала в атмосфере вызова со стороны действительности. Возвращаясь к образу, к которому я прибегнул ранее: как Сезанн приучил глаз видеть предметы в новом, буквально, свете и в новой глубине, так эпоха Революции и Империи наделила повседневную жизнь статусом и великолепием мифа. Она бесповоротно доказала, что художники могут найти величественные темы, отражая настоящее. События, произошедшие между 1789 и 1820 годами, привнесли в осознание человеком современности ту же свежесть и яркость, что позднее привнес импрессионизм в осознание физического пространства. Краткий имперский период – от Тахо до Вислы – после нападения Франции на собственное прошлое и на Европу повысил степень непосредственной актуальности опыта даже для тех, кого эти события не затронули напрямую. То, что для Монтескье или Гиббона служило темой философских исследований, а для поэтов-августинцев и неоклассиков – сюжетами и мотивами из античной истории, для романтиков стало тканью повседневной жизни.
О том, как нарастал сам ритм опыта в те захваченные толпами и страстями часы, можно было бы составить антологию. Она начиналась бы с истории о Канте, который единственнейший раз в жизни отложил утреннюю прогулку – когда ему сообщили о падении Бастилии, а дальше шел бы пассаж из «Прелюдии» Вордсворта о том, как он услышал новость про смерть Робеспьера. Она включала бы фрагмент из Гете, где он говорит о рождении нового мира в битве при Вальми, и рассказ Де Квинси об апокалиптических ночных поездках, когда почтовые кареты летели из Лондона с известиями о Пиренейской войне. Там было бы о Хэзлите на грани самоубийства после поражения Наполеона при Ватерлоо и о Байроне с его итальянскими революционерами. Уместно было бы завершить эту антологию воспоминаниями Берлиоза – как он, выбежав во время революции 1830 года из Школы изящных искусств, дирижировал импровизированным хором повстанцев, которые исполнили «Марсельезу» в его аранжировке.
Романисты XIX столетия унаследовали обостренное чувство драматизма применительно к собственной эпохе. Мир, который успел увидеть Дантона и Аустерлиц, уже не считал необходимым прибегать к мифологии или античной истории в поисках сырья для поэтического видения. Однако это не значит, что добросовестные писатели непосредственно оперировали злободневными фактами. Имея острый инстинкт в отношении масштабов своего искусства, они, скорее, стремились воспроизвести новый темп жизни в частном опыте мужчин и женщин, которых никоим образом нельзя счесть историческими персонажами. Или же – как Джейн Остин, например, – передавали сопротивление старомодных, более сдержанных форм поведения натиску современности. Это может служить объяснением тому важному и любопытному факту, что самые значимые писатели века романтизма и викторианской эпохи не поддались очевидным искушениям наполеоновской темы. Как указал Золя в своем эссе о Стендале, Наполеон возымел далеко идущее влияние на европейскую психологию, на состояние и развитие сознания:
«Я особо обращаю на это внимание, потому что мне никогда не приходилось видеть, чтобы у нас изучали совершенно реальное влияние личности Наполеона на нашу литературу. Эпоха Империи породила весьма посредственные литературные произведения; но нельзя отрицать, что судьба Наполеона словно гвоздем засела в головах его современников… Все честолюбивые помыслы непомерно раздулись, все предприятия становились гигантскими; в литературе, как и везде, мечтали только о всемирном господстве».18
Прямое следствие – мечта Бальзака править царством слов.
Тем не менее, проза не стремилась узурпировать искусство журналиста или историка. Революция и Империя сыграли заметную роль, формируя фон в романах XIX столетия. Но только фон. Стоило той эпохе стать центральной темой произведения – как в случае с «Повестью о двух городах» Диккенса или романом Анатоля Франса «Боги жаждут», – произведение тут же начинало проигрывать в смысле зрелости и оригинальности. Бальзак и Стендаль остро чувствовали эту опасность. Они оба считали, что действительность в той или иной степени освещена и облагорожена чувствами, которые появились в жизни людей благодаря Революции и Наполеону. Их обоих очаровывала тема «бонапартизма» в частной и коммерческой сферах. Они стремились показать, как энергия, высвобожденная теми политическими переворотами, придала новую форму паттернам общества и человеческого самовосприятия. В замысле и архитектуре «Человеческой комедии» наполеоновская легенда – центр тяготения. Но сам Император появляется только в малозначимых ее книгах, и даже там – лишь вскользь. «Пармская обитель» и «Красное и черное» Стендаля – вариации на тему бонапартизма, исследования анатомии духа, где последний предстает миру в самых воинственных и величественных ипостасях. Но весьма показательно, что герой «Обители» видит Наполеона опять же только однажды и мельком – затуманенными алкоголем глазами.
Достоевский был прямым наследником этой традиции. Русский поэт и критик Вячеслав Иванов проследил эволюцию наполеоновского мотива от бальзаковского Растиньяка и стендалевского Жюльена Сореля до «Преступления и наказания». «Наполеоновская мечта» нашла свое глубочайшее воплощение в образе Раскольникова, и эта интенсификация свидетельствует о том, насколько широко искусство романа раздвинуло свои возможности, перейдя из Западной Европы в Россию. Толстой решительно порвал с предыдущими трактовками образа императора. В «Войне и мире» Наполеон представлен непосредственно. Но не сразу: его появление при Аустерлице несет отпечатки косвенного метода Стендаля (а Стендалем Толстой восхищался). Но впоследствии, по мере развития романа, Наполеон показан, что называется, в полный рост. Это отражает не просто перемену в повествовательной технике. Это – следствие, вытекающее из толстовской философии истории и из его близости жанру героической эпопеи. Кроме того, здесь проявляется стремление литератора, «человека слов» – а это стремление в Толстом чувствовалось с особой силой – обозначить пределы и таким образом подчинить «человека действия».
Но по мере того, как события первых двух десятилетий XIX века удалялись в историю, слава стала опускаться с небес на землю. Действительность делалась безрадостнее и беднее, и на первый план вышли дилеммы, присущие теории и практике реализма. Уже в 1836 году Мюссе в «Исповеди сына века» заявлял о закате эпохи опьянения, когда революционная свобода и наполеоновская героика звучали в атмосфере и воспламеняли воображение. Ее место заняло серое, унылое, мещанское правление промышленного среднего класса. То, что когда-то представлялось демонической сагой о деньгах, романтикой «финансовых Наполеонов», так увлекшей Бальзака, оказалось бесчеловечной рутиной бухгалтерии и сборочной линии. В своей работе о Диккенсе Эдмунд Уилсон19 показывает, что на смену Ральфу Никльби, Артуру Грайду и Чезлвитам пришел Пексниф или – что еще ужаснее – Мердстон. Туман, висящий на каждой странице «Холодного дома», символизирует пласты лицемерия, под которыми капитализм середины XIX века скрывал свою беспощадность.
Через презрение или негодование такие авторы, как Диккенс, Гейне и Бодлер стремились преодолеть скрытое лицемерие языка. Но буржуазия наслаждалась их гением, прикрываясь теорией о том, что литературе, поскольку она не имеет отношения к практической жизни, можно позволить некоторые вольности. Отсюда и возник мотив разобщенности между художником и обществом – мотив, который по сей день преследует литературу, живопись и музыку, отчуждая их.
Я здесь не рассматриваю социально-экономические перемены, начавшиеся в 1830-х годах, когда через кодекс неукоснительной морали стала навязываться торгашеская безжалостность. Классический анализ был осуществлен Марксом, который, по словам Уилсона,
«в середине столетия продемонстрировал, что эта система, искажающая человеческие отношения и оптом поощряющая ханжество, является неотъемлемой и неустранимой особенностью самой экономической структуры».